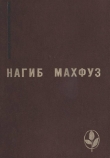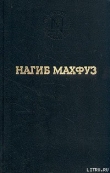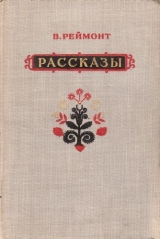
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
X
В тот же день, после полудня, Винцеркова приоделась и пошла в усадьбу – поговорить с помещиком о покупке ее луга. Как-то непривычно ей было вести с господами деловые разговоры, и дорогой она озабоченно вздыхала, обдумывала все и – в который раз! – высчитывала, сколько можно взять с помещика за луг, сколько ей дадут за землю и за все остальное…
«Шесть моргов поля хотя бы по сто рублей… Лужок – примерно тысяча злотых. А еще две коровы, свиньи, теленок… инвентарь и все, что в хате. Хату тоже отдельно надо считать… и овин. Овин Сулек купит, он еще весной приценивался».
Помещичья усадьба была расположена несколько в стороне от деревни, между горой, на которой стоял монастырь, и той речкой, что текла мимо хаты Винцерковой. Речка эта пересекала и усадебный парк, раскинувшийся по склону горы и примыкавший к монастырскому саду.
Винцеркова зашла на кухню, и там ей сказали, что господа в «садовых комнатах».
Дом был очень большой, одноэтажный, на каменном фундаменте, с островерхой, высокой крышей, на которую выходил ряд слуховых окон. Обширная терраса широкими ступенями сбегала в парк до самых газонов, огороженных низенькой, чудесно-зеленой живой изгородью.
По обе стороны террасы через газоны тянулись до самой реки аллеи красного шиповника и лиловой сирени, а из окон открывался вид на широкую полосу пшиленских лугов, замкнутых лесами, и на всю деревню, лежавшую в долине.
Винцеркова остановилась на террасе перед стеклянной дверью в комнаты и несмело заглянула внутрь.
– Вам чего?
– Я к пану! – ответила она угрюмо, отступая в сторону, так как с лестницы тяжелыми шагами сходил управляющий.
Это был здоровенный рыжий мужчина с грубыми чертами лица, пышными усами и яркоголубыми глазами.
– А, Винцеркова! Мое почтение! – сказал он иронически. – Что, хорошо спрятали своего разбойника? Ничего, найдем! Уж я об этом постараюсь и отправлю его туда, откуда он больше не убежит.
– Это как бог даст. Все в его воле, а не в вашей…
– К пану, говорите? А по какому делу?
– Не вашего ума это дело, – отрезала она язвительно.
Управляющий вышел, хлопнув дверью.
А Винцеркова прислонилась к балюстраде, заставленной корзинками с цветами, и ждала, глядя в пасмурное небо и окутанный туманом парк. Собирался дождь.
Она ждала довольно долго. Наконец к ней выбежала Настка и, поцеловав у нее руку, сказала:
– Пан велел вас звать!
– Были там? – спросила Настка тихо, пропуская ее в просторную прихожую.
– Всю ночь просидела. Спасибо, что не забываешь его.
– Да я для него… все… все! – горячо ответила девушка, отворяя стеклянную дверь в большую комнату, полную зеленых растений.
Помещик и его жена сидели в креслах у круглого стола.
Остановившись у двери, Винцеркова поклонилась обоим так низко, что коснулась рукой пола, и стала объяснять, зачем пришла.
– Ладно, куплю ваш луг. Осенью приедет землемер и обмерит его.
– Вельможный пан, мне сейчас продать нужно.
– А что это вам так загорелось? Уезжаете, что ли?
– Мне деньги сейчас нужны.
– Ну, ведь не умираете еще, могли бы подождать.
– Никто не знает, когда придет его день и час.
У нее вдруг так сжалось сердце, что не помогла и гордость, – слезы хлынули бурным потоком.
Помещица, дама чувствительная, вскочила с кресла и спросила:
– Что с вами? Отчего вы плачете?
– Ох, пани, голова у меня кругом идет. – Рыдания мешали ей говорить, сотрясали все ее тело.
Господа пришли в замешательство. А она, прижавшись к стене, все плакала. Платок сполз с седой головы на затылок, совсем открыв ее лицо с благородными и строгими чертами, но такое землистое, помятое, изглоданное жизнью, такое страдальческое, что оно походило на трагическую маску. Казалось, с потоком слез, которых она не могла удержать, хлынуло наружу и ее горе, все, что у нее наболело. Плача, она тихим дрожащим голосом рассказывала господам о своих несчастьях. Бедное материнское сердце жаловалось на горькую судьбу свою. До сих пор ей нельзя было ни перед кем излить душу, и вот она, не выдержав, все рассказывала господам: ведь не выдадут же они ее, несчастную, не погубят ее?
А чувствительную пани так растрогало горе Винцерковой, что ее сапфировые глаза наполнились слезами.
– Ниобея! Крестьянская Ниобея! – шептала она мужу по-французски. – Какое лицо! Оно словно окаменело от боли! А экспозиция какая! Как хорош тон ее седых волос и как они идут к этому лицу, словно отлитому из старой бронзы! Как величавы эти жесты отчаяния! Чудесно! Чудесно!
– Не насилуйте себя… Плачьте! – воскликнула она в экстазе и побежала за своим большим фотографическим аппаратом. Пани страстно увлекалась фотографией (живописью тоже, но фотографию она считала более совершенным искусством).
Винцеркова, ничего не понимая, попрежнему стояла у стены и плакала, а пани, утирая жемчужные слезинки, катившиеся из синих глаз, несколько раз сфотографировала ее.
Когда старая женщина немного успокоилась, помещик благосклонно сказал ей:
– А я и забыл, что мне не разрешается покупать крестьянскую землю. Жаль! Я охотно купил бы ваш луг, он весь прилегает к моим землям.
– Мою землю вы можете купить, вельможный пан, потому что она не записана в реестре.
– Это почему же?
– И пашню и луг отец ваш, вельможный пан, отдал моему покойному мужу по доброй воле. У нас на то бумаги есть.
– А я об этом понятия не имел!
– Мой-то вывез старого пана в чужие края – лечить, потому что покойный пан сильно захворал… Где же вам помнить, вы еще совсем маленький были, когда я вдовой осталась с моим сиротой несчастным, Ясеком. – Она опять заплакала.
Помещик, тронутый ее рассказом, в волнении ходил по комнате.
– Не плачьте, мать. Все сделаю, что просите. Куплю у вас и луг, и остальную землю и деньги сразу же заплачу. Я и не знал, что наша семья вам так обязана… Теперь мне смутно припоминается, что покойная мать говорила про вас перед смертью… Мал я был тогда… ведь мне всего восемь лет было, когда она умерла. И как это мы до сих пор вас совсем не знали! – добавил он с удивлением.
– А откуда же вельможному пану нас знать? Ведь вы всё больше в городе. Да и своими делами заняты… как всякий человек.
Винцеркова так расположила к себе господ, что, когда она уходила, помещица дала ей бутылку вина и кусок пирога для Яся, а помещик обещал в три дня сделать купчую и заплатить ей деньги.
Оба даже проводили ее до сада.
– Пусть вас господь благословит и детьми, и богатством, и почетом! Хорошие вы люди, хорошие! – говорила старуха, очарованная их добротой. Так светло было у нее на душе, что она не пошла прямо домой, а, обойдя кругом гору и монастырь, зарослями кустарника пробралась к Ясеку. Очень уж ей хотелось все рассказать ему и отдать вино.
Ясек слушал ее, просветлев, потом сказал:
– Молиться надо за их здоровье!
– Как только купчую подпишем и получу деньги, сейчас закажу ксендзу обедню.
– И я пойду в костел.
– Еще что! А если тебя увидят? – воскликнула она в испуге.
– Э… Когда буду здоров, мне никто не страшен.
Мать промолчала, не желая спорить с ним, но на прощанье сказала:
– Молись побольше, Ясек, и смиряй себя, потому что ты, я вижу, расхрабрился уж больно!
Но она и сама, не отдавая себе в этом отчета, порядком осмелела. Ничего не боясь, она возвращалась в деревню с гордо поднятой головой. Уверенность, что ей удастся спасти Ясека, точно солнцем, озарила ей душу.
Она энергично принялась хлопотать по хозяйству, и только изредка ее осаждали тяжелые думы, тенью ложились на душу, будили тревогу, и она с глухой тоской смотрела на поля, лес, деревню. Не верилось, что в самом деле придется со всем этим расстаться навсегда.
В такие минуты слезы туманили ей глаза, и она, перегнувшись через плетень, смотрела, смотрела на все вокруг, испытывая ту же боль, какую, должно быть, испытывает дерево, когда его вырывают с корнями.
– Э, двум смертям не бывать, а одной не миновать! – говорила она себе решительно. – Будь что будет! – И работой глушила мысли.
Чтоб придать себе храбрости, она уговаривала Тэклю ехать с ними.
– А вернется мой из тюрьмы, что тогда? – возражала Тэкля, обряжая ребенка, которого сейчас должны были хоронить.
– Приедет туда к нам.
– На что мне это? Слыхала я эти сказки, знаю! Мужа нет, земли нет, ребенка нет, свинью, что вы мне дали, я продала, чтобы мужу денег послать, – так что мне теперь о себе хлопотать? Одна я на свете, все равно как жердь в плетне.
Больше ни одна, ни другая не заговаривали об этом. Пришел костельный служка, забил гробик, взял его подмышку и понес в костел, на паперть.
После обедни ксендз вышел, помолился, окропил гробик святой водой, а служка обвязал его веревкой, вскинул на плечо, в свободную руку взял крест – и все двинулись на кладбище.
Опять упорно моросил дождик. К процессии присоединилось несколько женщин. Они брели под вербами по краю дороги, раскисшей, покрытой лужами.
Пели как-то тихо и вяло, погребальный напев едва поднимался над землей и сразу падал грузом скорби на потемневшие поля, на терновые кусты, осыпанные мокрыми цветами.
На кладбище было еще грустнее. Мокрые, дрожащие от холода деревья стояли тихо, опустив ветви, а желтые могилки, поросшие молодильником, почти сравнялись с землей, словно вдавленные в нее тяжестью черных крестов. Несколько ворон, вспугнутых процессией, сорвались с деревьев и бесшумно улетели в лес.
Могила была уже вырыта, и причетник спустил в нее гробик так неосторожно, что земля загудела и брызнула вода, которой много набралось на дне. Затем он стал торопливо засыпать могилу.
Тэкля, которая все время была как мертвая, вдруг очнулась и упала на мокрый песок с отчаянным надсадным воплем.
– Ох, сирота я, сирота! Ни мужа, ни земли, никакого утешения… Ох, Иисусе, все ты у меня отнял, все… Взял мое дитятко ненаглядное. Ушел мой сыночек к тебе, ушел, ушел… Оставил меня одну слезы лить да убиваться… Ох, Иисусе! – причитала она, захлебываясь слезами, и рвала на себе волосы.
А ей вторили вздохи женщин, которые молились на коленях у могилки, и шелест зеленых березок, стоявших вокруг в белых траурных рубашках, и глухой стук сыпавшейся на гроб земли, и дождь, хлеставший бесконечными косыми полосами.
Так как дождь усиливался, могилу быстро засыпали и все разошлись.
Возвращаясь домой, старая Винцеркова на полдороге встретила солтыса, и он, повернув обратно, дошел с ней до ее хаты.
– Я был у вас, но мне сказали, что вы пошли на похороны.
– Да, с кладбища сейчас идем. Похоронила Тэкля своего ребятенка…
– Э, пусть пропадает воровское отродье!
– Ну, ну!.. – только и сказала Винцеркова, не осмеливаясь с ним спорить.
– А я к вам потолковать насчет земли, – сказал солтыс вполголоса.
– Какой земли? – растерянно переспросила она.
– Вашей. И ценой вас не обижу, потому что я честный христианин. Чем чужим продавать, лучше пусть своему человеку достанется. А мы с вами ведь немного и в родстве. Ваша мать моему отцу приходилась родной теткой – не помните разве?
– Помню, как же! – сказала Винцеркова тихо, обеспокоенная этим предложением.
– Продать вам нужно. Одна на хозяйстве не останетесь, а Ясеку надо уезжать чем скорее. Хоть я и солтыс и делаю для вас, что могу, но я же сам не распоряжаюсь… Ну как, продадите?
Винцеркова, не отвечая, пошла быстрее.
– Заплачу я вам сразу чистоганом, и будет у вас с чем ехать. Ну, Винцеркова, по рукам, что ли?
– Видите, солтыс, какое дело… Землю я уже все равно что продала… – торопливо сказала старуха.
– Кому?
– Пану.
– Продали! Пану! Вот как! – крикнул разъяренный неудачей солтыс – он ведь был уверен, что земля достанется ему, и за бесценок. – Ну, подожди, я же тебе покажу! А я-то целую ночь поил стражников в корчме, чтобы они раньше утра обыска не делали! Я его, как родного сына оберегал, а вы вот что сделали! Снюхалась с помещиком – так пусть же он тебе и помогает, обезьяна ты панская, лахудра! – кричал солтыс, все более свирепея.
– Заткни глотку, кровопийца! – неожиданно огрызнулась Винцеркова.
– Ах ты, воровская морда!
– Я воровка? Я?
– Да, ты, старая чертовка, ты!
– Нет, это ты грабитель, мошенник! Убийца! Стражника в лесу кто убил?
– А ты видела? Видела, оголтелая баба, да? – Он подскочил к ней, размахивая кулаками.
– А хату у кузнеца кто спалил? Не ты?
– Ведьма чортова! Погоди, я тебе пасть заткну!
– Заткни, попробуй! Есть еще суд… Еще есть правда на свете!.. Я на тебя управу найду!
Так они переругивались и яростно наскакивали друг на друга с кулаками, пока их не розняли женщины, возвращавшиеся с похорон. У солтыса лицо было исцарапано, а платок Винцерковой валялся в грязи.
Женщины окружили старуху и проводили ее до дома, а солтыс шел позади и рычал, как взбесившийся пес:
– Будешь ты меня до смерти помнить! Ох, и отплачу же я тебе! Будешь скулить, как сука, когда Ясека твоего закуют в кандалы и в Сибирь погонят. Попомнишь ты меня!
XI
В Пшиленке все шло обычной чередой.
После нескольких дней весенней ростепели солнце выпило всю воду с полей, подсушило дороги. Окончательно установившаяся хорошая погода выгоняла людей в поле. Кто выходил с плугом, кто высаживал последний картофель, а кто досевал яровые или спускал накопившуюся воду с заливных лугов и рыл канавки. Для всей деревни уже началась страдная пора. Но работа что-то не ладилась, шла вяло. Не слышно было в полях веселого говора, смеха и песен.
Люди двигались медленно, тяжело, словно пришибленные невеселыми думами, и часто, опустив руки, придержав лошадь с плугом, останавливались на пашне и переговаривались через межу или через зеленые полосы ржи.
– Слыхали? Вчера опять шестеро из Беживод ушли в Бразилию.
– Да, да. А из Малеваной Воли, говорят, полдеревни сбирается в путь.
– Ну, это всё безземельные. А вот в Горках три хозяина продали землю, скотину, все распродали и уехали.
– Мать честная, что же это будет?
– А ничего не будет.
– Наказал господь людей, разум у них отнял!
– Пропадет народ, и все! – вздохнула какая-то старуха.
– Эх! Старая, а ума не нажила! Ну, с чего ты взяла, что пропадет, а?
– Как же! В этакую даль, на край света едут и не знают, что их ждет. Там по нашему никто не понимает и вера другая, а жарища там, не дай бог, – поставь в песок горшок с картошкой, вмиг сварится. И на море, говорят…
– Да ведь не все за море едут. Иные в Неметчину на работу уходят.
– Как будто в Польше работы нет! Уезжают одни лодыри, да пьяницы, да бродяги разные, перекати-поле. Испортится только народ на чужбине и пропадет ни за грош!
– Если бы вы, Антоний, цепом работали так проворно, как языком, я бы вас сейчас нанял молотить и платил бы хорошо!
– Да есть ли у тебя что молотить? Ну, гнедой, пошел! – крикнул старик, щелкнул кнутом и, нагнувшись к плугу, снова принялся пахать свою полоску.
– Работа, говоришь, и у нас есть? А где? У мужиков, что ли? Каждый хозяин мог бы один вдвое больше земли обработать, да где ее возьмешь, землю-то? Так на что ему работники? К помещику придешь – и у него батраков хватает. Куда же еще бедняку податься? Всю осень проработают – и хорошо, если заплатят им к рождеству, а то и к весне. Или на фабрику мужикам итти? Вот тут-то она, погибель, и есть! Нашему брату земля нужна. В Бразилии ее дают, – вот народ туда и тянется. Живут же там другие, так почему поляку не прожить? А если уж итти в батраки, так лучше к немцам, чем к своим! Заплатят вовремя и с почетом, а заодно и свет повидаешь.
– Правда! Верно говоришь! – подтвердили почти все слушатели.
– Из Пруссии все с деньгами домой приходят.
– И разодетые, как паны.
– Наказанье божье, и больше ничего! – ворчала, не сдаваясь, старуха.
Такие разговоры велись каждый день в поле, в домах, на дороге, везде, где только люди встречались. И почти ежедневно то в той, то в другой деревне появлялся Герш и тайно вербовал людей на работу в Пруссию или сговаривался насчет отправки их в Бразилию. Его старания не пропадали даром, – каждые две-три недели из деревень толпами уходили люди. Шли молодые и старые, шли женщины и подростки, все с узлами на спине. Уходили крадучись, провожаемые плачем родных и тысячами добрых пожеланий. Не помогали проповеди ксендзов, усилия помещиков, слежка полиции; народ вставал, ослепленный надеждой на лучшую жизнь и живым интересом к новым, неведомым местам, бросал все и уходил.
Так и Пшиленк вот уже несколько недель жил в постоянной лихорадке эмиграции. Люди таинственно и хмуро шептались об эмигрантах, о новых местах, куда эти смельчаки отправлялись, об их будущем.
Все были слишком этим поглощены, чтобы обращать внимание на Ясека Винцерека, и он, выздоровев, перестал прятаться. У него даже хватало дерзости открыто появляться то тут, то там.
Его встречали в лесу дровосеки, видели пастухи на лугах и дворовые люди в парке. Он заходил в корчму или среди бела дня проходил через всю деревню, смело глядя на встречных и здороваясь с ними. Видно было, что он никого не боится, и этим он внушал к себе невольное уважение.
– Пускай себе ходит, пока может! Что он, убил кого? Или ограбил, или поджег? Эка беда, что ткнул управляющего вилами в бок! Вольно же ему было девушку в овин тащить!
– Хорошо бы, если бы Ясек теперь отплатил ему и за себя, и за всех нас! А то поймал меня в лесу с топором – и сейчас под суд! Взяли с меня пятнадцать рублей, а что я срубил? Сосенку не толще руки. Чтоб тебе, стервецу, околеть без покаяния!
– Я не иуда, чтобы своего брата-мужика выдавать.
– Это первое. А другое – разве Ясек спустил бы тебе?
– Ясно, отплатил бы: злой он, собачий сын!
– Два года в остроге просидел, так всему, небось, там научился!
– С таким надо осторожно, как с яичком…
Так говорили о Ясеке односельчане, а он, как будто понимая, что никто не решится донести на него, появлялся в деревне все чаще и раз посреди улицы столкнулся с солтысом.
Тот ощерил зубы, как волк, и бросился на парня.
– Не тронь, собака, не то руки и ноги переломаю! – буркнул Ясек.
– Разбойник! Хватайте его! Эй, хлопцы, давайте сюда вожжи, веревки! Держите! – в ярости орал солтыс, но никто не спешил к нему на подмогу, все прятались за хатами.
– Идите своей дорогой, солтыс, и лучше меня не задевайте, – бросил Ясек.
– В волость, в острог тебя, разбойника! – наскакивал на него тот.
Ясек, потеряв терпение, ударил его по голове раз, другой, потом свалил с ног, намял ему как следует бока и ушел.
А солтыса отнесли домой, и он пролежал несколько дней.
– Что это, солтыс, вас гусак так исщипал? – посмеивались над ним потом крестьяне.
«Сволочь, никакого уважения не имеют к начальству!»
– Ну, ну! Так расколошматить солтыса, как простой глиняный горшок!
– И баба вальком белье так не колотит!
Солтыс отмалчивался, но, не зная куда деваться от стыда и бешенства, помчался в волостное правление, потом долго совещался с управляющим.
И вот в ближайшее воскресенье перед костелом было объявлено с барабанным боем:
«Кто задержит Ясека Винцерека и доставит его в волостное правление, тот получит в награду пятьдесят рублей».
– Деньги большие, неужто и вправду заплатят? – говорили у костела.
– А как же! За этакого-то душегуба! Всё до гроша отдадут! – уверял солтыс.
Несколько дней деревня так и гудела, во всех хатах только об этом и говорили. Никто не собирался донести на Ясека, но пятьдесят рублей… как-никак, это целое богатство! Кто пожаднее, те уже высчитывали, что можно купить на эти деньги… и хмуро переглядывались.
А солтыс не терял даром времени. Одержимый бешеной злобой, он целые дни пил, а по ночам, как волк, охотился за Ясеком. Он так умело подзуживал мужиков, что не прошло и недели, как в хатах начали поговаривать:
– Уж если такие деньги за него обещают, значит и в самом деле разбойник!
– Говорят, он у помещика в Воле увел четверку лошадей!
– Если бы только это! В Козелках его ночевать не пустили, так он со злости амбар поджег… и полдеревни сгорело.
– Правда, ей-богу правда! Погорельцы эти в волость приезжали и рассказывали, что кто-то их подпалил.
– Экой разбойник, поджигатель!
Разумеется, во всем этом не было ни крупицы правды, – все это выдумывал солтыс. И когда несколько партий эмигрантов, пытавшихся тайно перебраться через границу, были задержаны и возвращены обратно, а некоторые попали в тюрьму, солтыс уже громко кричал повсюду, что это – дело рук Ясека. И окончательно вооружил против него всю деревню.
Винцеркова первая это почувствовала: ее сторонились, как зачумленной, и, когда она шла деревней, ей вдогонку летели злые слова:
– Разбойничья мать!
«Люди – те же свиньи: что им ни кинь, все проглотят!» – с горечью думала Винцеркова. Ее мучило это незаслуженное презрение, но, занятая приготовлениями к отъезду, она забывала о нем.
Она продала помещику свою землю, постепенно распродала вещи. Теперь они только ждали Герша, который должен был переправить их через прусскую границу.
«Скорее бы!» – думала старуха в тревожном нетерпении, зная, что солтыс говорит всем в деревне, как он сыплет угрозами. И к тому же, хотя сердце ее ширилось при виде сына, здорового и сильного, как молодой конь, – ее пугала его смелость, его неукротимость.
– Встретится он со стражниками, так ведь не убежит, а в драку полезет! Такая уж порода – и отец его такой же был! – говорила она Тэкле и с гордостью и со страхом.
– Молодец! Рассказывали мне, как он солтыса с одного маху в грязь швырнул, а ведь солтыс – мужик здоровенный! Ай да хлопец!
– Да, послал мне бог утеху на старость!
– А статный какой и в поясе тонок, как девушка! – восторгалась Тэкля.
– Правда, хорош, хорош, сынок мой ненаглядный.
– На какую девку ни глянет, всех в жар бросает…
– Еще бы. Хлопец как картина!
– А пройдет близко, так даже мурашки по тебе забегают и в глазах темнеет…
– Другого такого не сыщешь, хоть весь свет обойди! – с гордостью воскликнула мать.
– Не сыщешь, нет! – шопотом подтвердила Тэкля и умолкла, понурив голову, чтобы скрыть пылающее лицо. Она не понимала, что это с ней творится с того дня, как она увидела Ясека после выздоровления.
Обе сидели молча, занятые мыслями о Ясеке, как вдруг он вошел в комнату.
– Сын, что ты делаешь! Среди бела дня ходишь на глазах у всех!
– Не бойся, мама, ничего не будет.
– Да ведь солтыс день и ночь тебя подстерегает, как ястреб!
– Пусть только придет и попробует меня взять!
– Он не один придет, а со всей деревней.
– Со всей деревней? – крикнул Ясек запальчиво. – Пусть приходят, пусть выдадут меня – а я с ними рассчитаюсь, камня на камне в деревне не оставлю. – Он побагровел от волнения.
– Ясек, господь с тобой! – успокаивала его мать.
– Вся деревня на одного. Загрызть готовы человека, как бешеные собаки! – тихо сказала Тэкля.
– А вы тоже лишнего не болтайте! – резко бросил ей Ясек и придвинул к себе тарелку с едой, которую поставила перед ним мать.
Тэкля промолчала и только жадно смотрела на его опущенную голову, густые кудрявые волосы, которые он то и дело откидывал со лба, на дышавшее силой и молодостью румяное лицо с прямым носом и сверкающими голубыми глазами, на пухлые красные губы, за которыми поблескивали мелкие белые зубы, острые, как у собаки, на эти черные брови, словно нарисованные углем, и широкие плечи… Смотрела, смотрела, и душу ее переполняла дивная нежность и боль, и вся кровь прихлынула к сердцу, и слезы набегали на глаза. Наконец она не выдержала – вскочила и стремительно выбежала из комнаты.
– Какая ее муха укусила? – заметил Ясек, продолжая есть и время от времени поглядывая в окно.
– Все еще по ребенку тоскует… Когда же мы едем? – спросила мать, понизив голос.
– В воскресенье. Гершка больше дожидаться не стану. Другой человек нас поведет.
– В воскресенье! Через два дня!
– Да, послезавтра.
– Господи Иисусе! Уже так скоро! – Она расплакалась.
– Не бойтесь, мама, поедем вместе, и Настка с нами, деньги есть, так что с нами худого случится? Зря вы беспокоитесь. Заживете там хозяйкой – не на моргах, а на влуках!
– Значит, в воскресенье выходить? – спрашивала она в который раз. Ей все еще не верилось.
– Да, вечером придет человек один, что контрабанду перевозит, и поведет нас.
Старуха старалась сдержать слезы, но они помимо ее воли ручейками лились по щекам, и сердце щемили грусть и опасения.
Ясек не мог сидеть спокойно и смотреть на плачущую мать. Он доел обед, сунул хлеб в карман и ушел.
Бродил, как бездомный пес, по полю и лесу, останавливался, глядел на все кругом – и опять шел. Сердце ныло от страшной тоски.
– Э, что там… Двум смертям не бывать… – твердил он, подбадривая себя.
Но сердце не унималось, и он решил не думать больше сегодня об отъезде. Лежа на борозде, часами смотрел в небо, слушал сухой шелест колосьев, склонявшихся над ним, пение жаворонков, голоса, летевшие из деревни низко над полем, жужжание насекомых. Льнул к этой черной, жирной земле, укрытой зеленью, родной и любимой, так крепко, словно хотел уйти в нее.
– Ох, Иисусе, Иисусе! – стонал он и плакал, как ребенок.
На другой день, в субботу, он рано утром украдкой пробрался к матери и уже спокойно наблюдал, как она отдавала Тэкле утварь и мебель – все, что нельзя было ни продать, ни взять с собой.
С опухшими от слез глазами старуха обходила все закоулки дома.
– Тэкля, и эти лавки возьми, все бери, что есть в доме, все, – говорила она, с лихорадочной торопливостью вытаскивая вещи на середину избы.
Тэкля брала, но без всяких признаков радости, безучастно смотрела на все это добро. Даже подаренная ей большущая перина не оживила ее застывшего, мертвенно-бледного, похудевшего лица. Она все делала, как автомат: то пойдет по воду и забудет ее принести, то примется вдруг чистить кастрюли, то подолгу бессмысленно смотрит вокруг, как в беспамятстве.
Тяжелое, мрачное молчание, полное невыплаканных слез и тоски, нависло в избе.
– Значит, уже завтра, сынок? – тихо роняла старуха,
– Завтра, мама, завтра, – отвечал Ясек так же тихо.
Наконец все было уложено. Они должны были выйти до рассвета, спрятаться в ямах у леса и там дождаться проводника, который обещал притти до полудня, а может быть, только вечером.
А там – в путь! В широкий, чужой свет!
Пока же взгляды их не могли оторваться от дорогих мест и предметов: блуждали по стенам, по образам, устремлялись в окна, на деревню, поля, колокольню. По временам глаза матери и сына встречались, каждый словно глядел в душу другому и видел там мучительную горечь прощания. И оба торопливо опускали веки, сдерживая тяжелые, свинцовые слезы…
– Пойду к Настке, надо ей напомнить, чтобы не проспала. – Ясек схватил шапку и выбежал из избы.
Обойдя кругом монастырь, он перелез через забор в усадебный парк и здесь укрылся среди большой купы елей, росших на пригорке над домом. За густыми, свесившимися, до земли ветвями ничей глаз не мог его заметить.
Ждал долго, пока, наконец, не увидел Настку, сбегавшую по ступеням террасы.
Он свистнул – это был условленный сигнал, – и девушка пришла к нему.
– Настусь! Завтра на заре. Смотри не проспи! – сказал он шопотом.
– Ох, так жду, так жду, невмоготу просто…
– А не боязно тебе?
– Чего мне бояться? Ведь не одна, а с тобой и с матерью.
– Вот и хорошо, Настусь. Тот, кто нас поведет, сказал, что за границей нам с тобой сразу можно будет повенчаться. Ты ничего не опасайся, я тебя никому в обиду не дам.
– Да разве я не знаю… Ты такой добрый, Ясек…
– А сказала ты пани, что только в понедельник?..
– Сказала. Она мне десять рублей дала и золотой крестик – вот!
Немного отвернувшись, она вытащила из-за кофточки крестик на черной тесемке.
– Пошли ей бог всякого добра!
– А еще дала она мне вот эту книжечку, говорит, что в ней все написано: куда и какой дорогой ехать, сколько платить и к кому в Америке итти… И еще, гляди, такая картинка, где все обозначено – каждая река, и гора, и дорога. Пани все мне показала и объяснила.
Она подала Ясеку карту и книжку. Он спрятал их в карман, сказав:
– Ладно, потом погляжу.
– А сумеешь прочитать?
– Ну, как же, мало ли меня ксендз плеткой гладил, когда учил! А потом учили и там… – Он не в силах был произнести это ненавистное слово «тюрьма».
Со стороны дома донесся чей-то голос:
– Настуся!
– Надо мне итти, я выбежала в сад за крыжовником для повара.
– Так помни: как только светать начнет, после вторых петухов. Все оставь – надень только, что у тебя есть получше. Не жалей, я тебе там не такую одежу куплю. Приходи к матери.
– Значит, на заре. Я надену только рубаху, и ту юбку, что пани подарила, и большой платок, и другую юбку, шерстяную, а то, может, холодно будет.
– Хорошо, хорошо, только не проспи, Настусь!
– Скажешь тоже! Ох, ты, милый ты мой! – Она обняла его крепко, и они оторвались друг от друга только тогда, когда из дома снова начали звать Настку.
Ясек вылез из чащи ветвей, чуть не ползком добрался до грабовой аллеи, окружавшей весь парк, и уже бежал к своему перелазу, но неожиданно на повороте аллеи столкнулся лицом к лицу с управляющим.
– Ага, вот ты где, братец!
Ясек задрожал и помертвел от ужаса. Перелаз был в двух шагах, – один скачок, и он очутился бы на заборе. Но он не двигался: сверкающие глаза управляющего словно пригвоздили его к месту и лишили сил. И только удар палкой по голове привел его в себя. Однако он не пытался убежать. Кровь его закипела, ожили в памяти все обиды, заговорила жажда мести.
Он изогнулся, подобрался, как волк для прыжка, и двинулся на управляющего. Завязалась короткая, но жестокая борьба.
Управляющий стал звать на помощь, но, схваченный за горло, замолчал. Оба упали на землю и катались по ней, сцепившись, как две собаки, готовые загрызть друг друга насмерть.
Хриплые крики, проклятья, удары, пинки ногами… Быстро, как молния, они клубком метались по гравию аллеи.
Ясек чувствовал, что слабеет, что ему не одолеть противника. Но отчаяние и бешенство придали ему силы, и он, подмяв управляющего под себя, изо всей мочи ударил его коленями в живот. У того хлынула изо рта кровь, и он упал без чувств.
Прибежали люди, но Ясека уже и след простыл: он быстрее оленя мчался в лес.