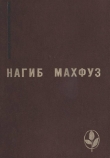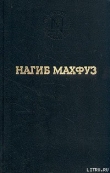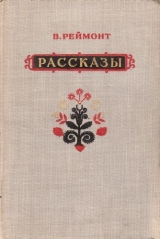
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Предисловие

«Илиада нравов польского народа» – так назвала современная Реймонту критика его крупнейший роман «Мужики», огромное полотно жизни польской деревни конца XIX – начала XX века. Роман, с которым писатель вошел в мировую литературу, создавался с первых лет его творческой деятельности. Своеобразной подготовкой к нему были рассказы, помещенные в данном сборнике. Но значение их не исчерпывается ролью эскизов к большой работе. Уступающие по глубине и широте охвата действительности главному созданию Реймонта, эти ранние рассказы имеют и свою собственную художественную ценность, верно рисуют многие черты жизни старой польской деревни.
Владислав Реймонт (1868–1925) родился в семье бедного шляхтича, костельного органиста в селе Кобель, недалеко от Лодзи. Будущий писатель юношей ушел из дому, был странствующим актером, служил на железной дороге, работал на заводах и перепробовал множество других, самых разнообразных профессий. Годы скитаний дали Реймонту большой жизненный опыт. Уже первые несколько лет литературной работы принесли ему широкую известность. С появлением «Мужиков» (1904–1909) Реймонт стал признанным классиком польской литературы. Роман доставил ему славу далеко за пределами родины. Это произведение было сразу переведено на другие языки; в России в ближайшие годы по выходе книги а свет появились два собрания сочинений писателя.
Основная и наиболее ценная часть творчества В. Реймонта посвящена польскому крестьянству. Все свои ранние впечатления писатель получил в деревне. Он превосходно знал жизнь крестьянина, с детства проникся любовью к сельской природе, огромным уважением к деревенским труженикам, к народным обычаям. Но обращение Реймонта к деревне определялось не только его собственным жизненным опытом, – оно было своеобразным откликом писателя на вопросы, которые ставила перед ним современность.
Быстрое развитие капитализма в Польше 80 – 90-х годов дало возможность Реймонту увидеть пороки буржуазной «цивилизации». Писатель не всегда умел их верно оценить; он совсем не понял исторических закономерностей развития общества, не понял роли пролетариата. Но Реймонт хорошо видел растущую нищету трудящихся, подневольный характер труда на капиталистической фабрике, жестокость и своекорыстие буржуазии. Отрицательное отношение к этому классу приняло в творчестве Реймонта форму критики капиталистического города, который был для него средоточием буржуазных отношений, противных природе человека, унижающих человека, губящих его.
Очень выпукло эта мысль автора выступает в рассказе «Однажды». Пан Плишка, нищий шляхтич, уже двадцать лет работающий на фабрике, – пример человека, задавленного городом. Плишка – придаток машины, точный, как машина, исполнительный, как машина, и, подобно ей, лишенный живой человеческой души. «Он был старейшей машиной на фабрике, только машиной, ибо постепенно забывал о себе, о собственной жизни и по временам даже не помнил уже, кем был когда-то, где родился. Он уже не мог ни о чем ни думать, ни мечтать». «В сущности его ничто не интересовало. Он был и добр, и отзывчив, но это была пассивная доброта автомата, без участия воли и сознания». Чутье художника не изменило здесь Реймонту. Он удивительно верно выбрал героя этого рассказа. Именно на «пане» Плишке, лишенном настоящих связей со своими товарищами-рабочими, спокойно и безропотно принимающем свою судьбу, сильнее всего должно было сказаться отупляющее воздействие подневольного труда на капиталистической фабрике. Впрочем, однажды даже в Плишке проснулось желание спастись из-под власти машин. Он бежит из города. Но город уже целиком завладел им. Звучит фабричный гудок, и Плишка, не в силах ему противиться, возвращается к своей машине – на этот раз навсегда.
Такое отношение к городу проходит через все творчество молодого Реймонта. «Жили только фабрики… – пишет он в рассказе «Смерть города», – умирало все живое, и все яркое превращалось в ничтожество, зло и отчаяние…»
Это «яркое», «живое», «свободное» Реймонт находит в крестьянстве. Только крестьянство, по Реймонту, сохранило самобытность, истинное здоровое трудолюбие, честность и независимость. Характерно, что даже городской рабочий, по мнению Реймонта, способен уберечь от гибели свою душу, лишь поскольку он не утратил связи с землей. Пана Плишку, «презирающего людей и уважающего машины», особенно возмущает, что его соседи-рабочие на праздники уезжают в деревню. Но в момент просветления его и самого потянуло к земле.
Реймонт не стал, однако, апологетом «мирной жизни на лоне природы». Напротив, его реализм проявляется наиболее ярко именно в произведениях о крестьянстве. Реймонт выступает здесь как умный наблюдатель и критик современной ему действительности.
Два рода противоречий сложились в польской деревне XIX века: между крестьянством и помещиками, и внутри крестьянства – между кулачеством и беднотой. Ранние рассказы Реймонта затрагивают в основном первую тему.
Польская шляхта давно скомпрометировала себя в глазах народа. Ратуя за национальное освобождение, дворянство ни на йоту не желало поступиться своими правами и привилегиями. Оно мечтало о независимой Польше, в которой можно было бы «независимо» продолжать грабить народ. Но разоблачившая себя шляхта попрежнему притязала на роль руководителя нации и хранителя ее культуры. В произведениях Реймонта заключена глубоко критическая оценка польского дворянства. Писатель показал духовное вырождение этого класса, полную утрату им национальных традиций, его прямую враждебность народу.
Представители дворянства появляются почти в каждом из рассказов Реймонта. Помещица-садистка зверски избивает собственную дочь за ее дружбу с крестьянским мальчиком (рассказ «Сука»). К важному железнодорожному чиновнику приходит просить работы бедняк, дети которого умирают с голоду. Но «ясновельможный пан», увлеченный воспоминаниями о Париже, с трудом замечает простого мужика и уж совсем неспособен почувствовать, что перед его глазами разыгрывается настоящая человеческая трагедия. В словах возмущения, произнесенных бедняком, слышится негодование самого автора (рассказ «Томек Баран»). В повести «Справедливо» «добрые, баре» помогают старой крестьянке спасти сына. Но участие их не имеет ничего общего с простой человечностью. И господская помощь – не более как унижающий каприз.
«А чувствительную пани так растрогало горе Винцерковой, что ее сапфировые глаза наполнились слезами.
– Ниобея! Крестьянская Ниобея! – шептала она мужу по-французски. – Какое лицо! Оно словно окаменело от боли! А экспозиция какая! Как хорош тон ее седых волос и как они идут к этому лицу, словно отлитому из старой бронзы! Как величавы эти жесты отчаяния! Чудесно! Чудесно! Не насилуйте себя… Плачьте! – воскликнула она в экстазе и побежала за своим большим фотографическим аппаратом. Пани страстно увлекалась фотографией (живописью тоже, но фотографию она считала более совершенным искусством)».
Реймонт умеет разглядеть своекорыстную сущность дворянства, под какой бы «культурной» и «либеральной» маской она ни скрывалась.
Реймонт рисует нищету польской деревни, показывает гнет и притеснения, которым подвергался крестьянин, его полное бесправие в панской Польше. Однако классовые противоречия внутри крестьянства не получили в его рассказах достаточно определенного художественного решения. В рассказе «Томек Баран» бедняка Томека, не нашедшего помощи у ксендза и господ, выручают из беды его братья-крестьяне. Подобную сцену крестьянской взаимопомощи мы увидим позднее в «Мужиках». Но в романе есть и другой эпизод: когда селу Липцы угрожает голод, из всех окрестных деревень съезжаются крестьяне, чтобы помочь своим соседям. Однако поля бедняков так и остаются необработанными, потому что ксендз распределил работников лишь по богатым хозяйствам. В романе «Мужики», несмотря на заключенные в нем большие противоречия, Реймонт, несомненно, гораздо ближе подошел к изображению классового расслоения деревни, чем он сумел это сделать в своих ранних рассказах.
И все же писатель, разоблачавший городскую буржуазию, уже в самом начале своего творчества не мог не увидеть роста буржуазных отношений в деревне. Не сумев в своих ранних рассказах показать расслоение крестьянства на кулачество и бедноту, автор тем не менее хорошо понял двойственную природу крестьянина – с одной стороны труженика, с другой – собственника.
Утверждая моральное превосходство крестьянства над шляхтой, воспевая крестьянский труд, Реймонт изображает и крестьянина-собственника. Читатель видит, как буржуазная корысть, проникая в деревню, губит человеческие чувства, разрушает семейные связи, порождает жестокость и бессердечие. В рассказе «Смерть» крестьянка выбрасывает в хлев умирающего старика отца, потому что он передал землю не ей, а сестре.
Из подобной двоякой оценки крестьянства в целом вырастает и сложность идейного замысла такой известной повести Реймонта, как «Справедливо». Кулак-солтыс, обманувшись в надежде купить за бесценок луг Винцерковой, организует облаву на ее сына, бежавшего из тюрьмы. Обманом и подкупом ему удается повести за собой все мужское население деревни. До сих пор справедливость на стороне Ясека, отстаивающего свое право на жизнь и любовь от озверелых собственников. Но когда, движимый чувством мести, Ясек поджигает деревню, автор отворачивается от своего героя. Ясек мстил собственникам, людям, живущим по закону «человек человеку волк», но погубил плоды священного крестьянского труда. Поэтому постигающая его кара справедлива. Это признает его старая мать, признает косвенно и сам Ясек, вернувшись на место пожара.
Неспособность Реймонта разрешить противоречие между крестьянином-собственником и крестьянином-тружеником в значительной степени обусловила позднейший переход писателя на реакционные позиции и привела к кризису его творчества. Но в лучших своих произведениях В. Реймонт остается замечательным реалистом, прославлявшим человеческий труд и разоблачавшим отвратительную буржуазную стяжательскую мораль. Поэтому польский народ, познавший сейчас великую радость освобожденного труда, высоко ценит Реймонта. В этом же причина его широкой популярности у советского читателя.
Ю. Кагарлицкий
Сука
 – Витек! Витек, миленький!
– Витек! Витек, миленький!
Мальчик оглянулся, придержал молодого жеребца, на котором ехал, и сказал сердито:
– Ну, чего?..
Куда пошли, черти! Только отвернись, так они норовят нашкодить, как свиньи!
Он шлепком погнал лошадь и, опередив табун жеребят, разбежавшихся по дороге и засеянному полю, согнал их всех вместе. Потом снова подъехал к ограде сада, за которой стояла девочка лет десяти.
– Витек, золотой, помоги мне перескочить! Ну, пожалуйста, миленький, я так боюсь упасть! – щебетала она, крепко держась за остроконечные колья ограды.
– Выдумали! Как же я туда к вам доберусь? – И он спокойно спускал засученные до самых колен штанины.
– А ты подъезжай сюда!
– Через ров?
– Ох, правда! – Девочка огорченно заглянула в глубокий ров, тянувшийся вдоль забора.
– А вы, паненка, за столбик держитесь да на корячках и съезжайте вниз!
– Как это – на корячках?
– Ну вот, толкуй с женщинами! Ничего-то они не понимают! Коленями столб обхватить – и все!
– Ага! Знаю, теперь знаю!
Она вспомнила, как Евка «съезжала» по столбу с сеновала.
– Только ты не гляди, когда я буду слезать!
– А почему?
– Ну, говорят тебе, не гляди! – крикнула она властно, вся покраснев и сердясь на него за то, что он не понимает.
Мальчик насмешливо фыркнул и отвернулся, а она бросила на дорожку книгу, которую держала в руках, и сползла вниз по столбу таким образом, как советовал Витек. Очутившись на земле, перебралась через ров и весело сказала:
– Ну, подведи сюда своего коня, прокатимся немножко!
Мальчик озабоченно почесал голову.
– Давай же руку! Я сяду с тобой, и поедем!
– А что, если увидят и скажут вельможной пани? – буркнул Витек недовольно.
– Никто не увидит, поедем в луга или в лес. Ну, Витечек, дорогой!..
– Боюсь, паненка! Вельможный пан сказал, что, если еще раз увидит меня с вами, он мне такую задаст трепку…
– Отец не узнает. Ну, давай руку! Уж я тебе за то подарю красную ленту для рубахи.
Мальчик смягчился. Вытянул босую ногу, как стремя, и подал девочке руку. Она мигом вскочила на лошадь впереди него, ухватилась за гриву и заколотила по бокам жеребца голыми, в одних туфельках, ногами. Витек одной рукой обнял и прижал ее к себе, другой шлепнул лошадь по шее, поворотил ее, засвистал, ударил пятками – и они полетели, как вихрь.
Они ехали по дороге к лугам, лежавшим в низине, между усадебным парком и лесом. Девочка улыбалась радостно, и губами и глазами, ею овладел порыв какой-то дикой удали, страстная потребность мчаться, дышать всей грудью, кричать, она то и дело подскакивала и гнала лошадь вперед. Щеки у нее горели, волосы разметались по ветру, перед глазами быстро мелькали просторы полей. По временам у нее сильно кружилась голова, она еле переводила дух, но все подгоняла да подгоняла лошадь, лихо покрикивая: «Гост! Гоп!» И они летели стрелой. Витек крепко держал ее, все чаще молотил жеребца пятками и, увлеченный этой бешеной скачкой, тоже кричал громко: «Гоп! Гоп!»
– Гоп! Гоп! – весело подхватывала девочка и, словно вросшая в спину лошади, разгоряченная, счастливая, с полузакрытыми глазами летела вперед. Они промчались через луга, не замечая людей, косивших траву, переплыли в неглубоком месте реку и снова полетели полями, где уже колосились хлеба, перелогами, где паслись стада и весело перекрикивались пастухи.
Так мчались они без памяти, не переводя дыхания, пока лес высокой стеной не преградил им дорогу. Да и лошадь, измучившись, уже стала замедлять бег и упираться. На опушке Витек, остановив ее, соскочил на землю, девочка сделала то же самое. Она взяла его за руку, а он свободной рукой ухватил коня за гриву, и они пошли в лес.
Здесь царил мрак и торжественная тишина. Дети выбрали себе небольшую, покрытую мхом полянку, и сели отдохнуть. Витек, лежа на животе, сопел и отдувался, а девочка утирала фартучком вспотевшее лицо. Когда лес зашумел, ей стало не по себе, и она придвинулась поближе к своему защитнику. Золотистые стволы сосен стояли недвижимо, как тысячи колонн, подпирающих зеленый свод, а под ними ковром расстилался мягкий, как шелк, рыжий мох, да кое-где покачивались веера папоротников, тронутые неожиданно налетевшим ветерком. Солнце, едва пробиваясь сквозь ветви, рисовало прихотливые золотые арабески на мху и светлозеленых листьях орешника.
Дети жадно вдыхали смолистый аромат леса. Вокруг стояла такая тишина, что им стало жутко, и они долго сидели молча, слушая, как где-то вдалеке без устали стучит дятел на сосне и порой каркает ворона, пролетая над лесом. Доходили сюда по временам и слабые отголоски песен косарей в лугах, проносились где-то по лесу веселые окрики. Потом снова наступала такая тишина, что слышен был шорох длинных золотых игл, опадавших на землю с сосен. А то вдруг налетали целой стаей сороки; они так трещали, ссорясь между собой, что лес вскипал шумом, потом улетали. Звенели жуки; жужжа, пролетала пчела в поисках цветов. Иногда слышно было, как белка с хрустом грызет прошлогодние шишки или ветер шумел в вершинах, нарушая покой сосен-великанов, и они некоторое время качались, сердито перешептываясь. Солнечные блики тонули в зеленой чаще, и золотой парчой пламенели янтарные стволы. Но вдруг набегала какая-то тень, медленно просачивалась в лес, в лесу темнело, все словно уходило из глаз, и в шуме лесном чудились жалобные стоны, а холодное дыхание из чащи ударяло детям в лицо пронизывающей ледяной струей.
Но вот лошадь, щипавшая молодые листья кустарника, беспокойно заржала, и детям вдруг снова стало весело, они забыли про усталость. Витек увидел на сосне воронье гнездо и полез было за ним, да не смог забраться так высоко. Попробовала и девочка, но только разорвала платье и оцарапала ноги. Они стали бегать наперегонки, прятались друг от друга за деревьями, кувыркались. Девочка непременно хотела научиться стоять на голове (это у них называлось «стать дыбом»), но, хотя Витек и придерживал ее за ноги, она каждый раз шлепалась на землю, и оба весело хохотали. Витек вырезал две палки из орешника и учил девочку играть «в свинку». Они смеялись так громко, что по лесу пошло эхо, а молодой конек вторил им ржанием и бегал за ними, как собачонка. Девочка веселилась от души и забыла обо всем на свете.
Наигравшись вволю, они вспомнили, что пора возвращаться. Ехали медленно. Витек что-то забеспокоился: он все время вертелся и смотрел в ту сторону, где оставил табун.
– Пить хочется, – сказала девочка, когда они переезжали реку, и конь, остановившись, стал втягивать сквозь зубы мутную воду. Витек нагнулся, зачерпнул воды в свою соломенную шляпу и подал ей. Она жадно выпила.
– А отчего она такая мутная?
– В Котлинах открыли шлюзы. Вот как она прибывает, смотри!
Речка с шумом катила волны, покрытые желтоватой пеной, и выходила из берегов.
– Где это Финка? – спросила девочка.
– Откуда мне знать? Убежала куда-то. Она и вчера не ходила со мной пасти.
– А щенята у нее уже есть?
– Нет еще.
– Ты одного мне принеси, хорошо? Я так люблю щенят! Он будет спать в кроватке вместе с куклой.
– Как же, позволят ему! Вельможный пан велит его утопить в болоте. Ох, паненка, едем скорее! – добавил Витек, вспомнив о помещике.
– Погоди еще немножко! Посмотри, как тут хорошо!
– Я жеребят оставил на дороге… Если они не пошли в загородку, а забрались в рожь, – беда будет! – Он пнул ногой лошадь, подгоняя ее.
– Как красиво! Гляди, гляди, Витек! – Она указала рукой на заходящее солнце.
– И верно! Красное, как огонь…
Девочка засмотрелась на небо, а Витек все погонял лошадь, со страхом думая о жеребятах.
На западе серо-голубое небо покрылось словно багряной чешуей, прошитой золотом. Низко стоявшее над землей солнце напоминало огромный глаз без ресниц и светило нестерпимо ярко, а над ним расстилалась длинная полоса цвета меди, на которой играли алые отблески. В огне заката усатые колосья ячменя отливали зеленым золотом, а рожь приняла стальной оттенок. Кроваво-красный ковер цветущего клевера, усеянный островками лиловых анемонов, резко отделялся от сероватых полей овса. Деревья, на которые солнечные лучи падали прямо, отбрасывали длинные тени и казались великанами. Листва их была с одной стороны золотая, с другой – черная. Солнце потоками света заливало листья и ветви, а на придорожную траву наносило, подобно художникам древней Византии, золотой фон, по которому тень рисовала узоры.
Время шло. Из каких-то неведомых нор выползал сумрак и расстилался все более широкими кругами. Солнце угасало, и в бороздах, в овражках, под развесистыми грушами сгущалась мгла, а луга уже серебрились от росы и заволакивались фиолетовой дымкой. Тишина сходила на мир и властно обнимала все.
Витек ничего этого не замечал и только каждую минуту твердил:
– Скорее, паненка, ради бога скорее!
– Не бойся, я попрошу папу, чтобы он тебя не бил. Мне так весело кататься с тобой! Не понимаю, почему мамуся мне запрещает?
– Потому что вам не пристало со мной водиться.
– Отчего, Витек?
– Вы – помещичья дочка, а я жеребят пасу.
– Ну, так что же? Мне с тобой ездить веселее, чем учить какие-то глупые французские слова.
– Все равно, вы шляхтянка, а я мужик.
– А мадам говорит, что люди все одинаковы.
– Ну, где же одинаковы! У шляхты земли много, они ученые, они и одеваются и живут не так, как мужики.
– Витек, а отчего тебя твоя мама не посылает в школу?
– Денег у нее нет. Видно, я так темным мужиком и останусь.
– А если бы у тебя были деньги, Витек, что бы ты сделал?
– Были бы у меня деньги, паненка, так я бы выучился всему, чему шляхту учат… и одежу себе справил бы хорошую… А если бы денег хватило, так земли купил бы у Клемба или у Гульбаса, лошадей завел, коров… Такой бы стал хозяин, что меня мужики выбрали бы войтом… И я носил бы в праздник балдахин над ксендзом…
Витек мечтательно улыбнулся.
– Мадам всегда велит седлать для меня пони, а он еле-еле ползет, трусит себе, как телок. Что, разве не правда?
– Правда, паненка.
– Вот подрасту, так буду ездить только на отцовских лошадях. Что, не веришь, Витек?
– Ведь это заводские рысаки. Не справитесь с ними, паненка.
– Ну, тогда ты будешь со мной ездить – да, Витек?
– Может, и буду, если стану кучером.
– Уберем лошадок по-краковски, в ленты, и будем ездить в той новой коляске, что татусь купил… Быстро-быстро! Да, Витек?
– Да, паненка.
– Витек, а где моя книжка?
– А я откуда знаю? Это та самая, что с картинками?
– Нет, другая. Это французская грамматика. Я ее взяла с собой в парк, чтобы выучить урок. Боже, куда я ее девала? Ой, как мама рассердится! Едем скорее, – может, она осталась на том месте, где я перелезала через забор…
Они галопом домчались до усадьбы. Девочка спрыгнула с лошади и почти сразу нашла свою книжку. Бедная грамматика валялась на земле растрепанная, и видно было, что по ней прошлись копыта жеребца. Девочка осматривала ее с ужасом, вытирала платьем, но это не помогло.
– Подсади меня.
Витек наклонился, а она вскочила к нему на плечи и, очутившись на заборе, мигом соскользнула вниз и скрылась в парке.
Витек поехал искать жеребят, с беспокойством глядя по сторонам. А девочка раскрыла книгу и торопливо начала вслух учить урок.
– J'aime, il aime, tu aimes, vous aimez, nous aimons, ils aiment, – твердила она с таким усердием, что сперва не услышала зова.
– Тося! Тося!
Тося вздрогнула и, еще торопливее спрягая французский глагол, побежала к дому. Ей стало страшно. Как она ни спешила, она успела заметить, что учительница стоит на террасе, выходившей в сад. Тося побежала еще быстрее, обогнула дом и пошла двором к парадному подъезду, с ожесточением твердя шопотом:
– J'aime, il aime, tu aimes, vous aimez, nous aimons… – Она не могла припомнить, что дальше, и вдруг замолчала, увидев на крыльце мать, которая уже издали внимательно всматривалась в нее.
Пани легко было угадать, что ее дочь каталась верхом: волосы у Тоси растрепались, платье было измято и порвано, на желтых туфельках налипли куски торфянистой земли из канавы. И мать только спросила отрывистым тоном:
– Где мадам?
– Не знаю, мамуся. Я… я была в парке… учила уроки… я ее не видела… – оправдывалась Тося, дрожа от страха и поглядывая искоса на мать робкими молящими глазами.
– Покажи книгу!
Девочка побледнела и снова начала лихорадочно спрягать про себя французский глагол.
– Что тебе задано?
Тося указала страницу.
– Ну, отвечай. Да смотри у меня!..
Испуганная резким тоном матери, Тося что-то залепетала.
– Говори медленно и внятно! – прошипела мать, с трудом сдерживая раздражение.
– J'aime, il aime… j'aime… j'aime… – бормотала девочка, от волнения уже не сознавая, что говорит.
– Повтори! – приказала мать, крепче сжав в руках плетку, которую прятала за спиной.
Тося приметила это движение, предвещавшее расправу, и, обомлев, не могла уже выговорить ни слова, только смотрела на мать вытаращенными, бессмысленными от ужаса глазами.
– Так-то ты учила уроки! Для того я плачу учительнице, чтобы ты росла невеждой! Ты в парке была?
– Да, мамуся, – едва слышно прошептала Тося сквозь слезы.
– Не ври! – И мать хлестнула ее ремнем по спине.
Девочка, уже доведенная до истерики, с громким плачем, вся трясясь от боли и волнения, упала на колени перед матерью.
– Мама! Мамуся! – твердила она, как безумная.
– Будешь с пастухами таскаться, дрянь ты этакая? Я тебя проучу! Я из тебя выбью эту любовь к хамам! Десять лет девчонке, а она ни слова по-французски сказать не умеет! Два года играет одни гаммы! Тебе, мерзкий выродок, только бы с девками дворовыми дружбу водить, бегать к хамам да скакать на лошади с этим Витеком! Я тебе покажу, чудовище! – И, говоря это, она изо всех сил хлестала дочь плетью.
Девочка корчилась от боли и то ловила руки матери, обнимала ее ноги, хватала за платье, то пыталась заслониться от ударов и стонала:
– Мамуся! Мамуся!
А мамуся стегала и стегала ее все с большим ожесточением.
Этому истязанию положила конец учительница, вырвав из рук матери обезумевшую от боли девочку.
Помещица упала на скамейку, багровая от бешенства, и, задыхаясь, рвала на груди застежки корсажа. Увидев шедшего мимо крыльца работника, она с трудом прохрипела:
– Витека мне сюда!
Она еще испытывала потребность кричать и бить кого-нибудь, пока не успокоятся нервы.
– Наказал бог дочкой! – заговорила она после долгой паузы, и худое скуластое лицо ее опять исказилось злобой. – Столько для нее делаешь, из кожи лезешь, платишь за ученье – и никакого толку! Приезжает пани Зелинская и с этаким злорадством говорит мне, что видела, как Тося ехала с Витеком верхом через луг. Я просто сгорела со стыда. Вот у Зелинской две дочки – настоящие куколки! Манеры прекрасные, говорят по-французски и сыграть на фортепиано при гостях могут. А эта мерзкая девчонка меня только срамит! Я приказываю позвать ее, говорю гостям, что Тося учит уроки в парке, а эта противная баба опять начинает меня уверять, что видела, как Тося ехала верхом без седла и Витек обнимал ее за талию. Какой срам! Что из нее вырастет? Будет только ездить со всякими оборванцами, и больше ничего. Чего же другого можно ожидать, если ей ничего не говорят и позволяют делать все, что она хочет!
– Я в ее воспитание не вмешиваюсь и ею не командую – ведь так было условлено с самого начала. А девочка очень плохо воспитывалась. Природных способностей у нее нет, и притом она совсем забита, запугана постоянными придирками и бранью.
– Да как вы смеете говорить мне такие вещи! Моя дочь плохо воспитана! Не имеет способностей! Я – дурная мать, плохо обращаюсь со своим собственным ребенком! Слыхано ли что-нибудь подобное! Я вам плачу за то, чтобы вы ее учили, – для чего же вы здесь, как не для этого? А вы только строите всем мужчинам глазки и читаете Дарвина! Шляетесь по мужицким хатам – благодетельница какая выискалась, реформаторша! Об этих псах заботится, а девочка предоставлена самой себе и делает, что хочет! Конечно, раз у нее такой пример перед глазами…
– Не хочу и отвечать на ваши оскорбления, потому что вы просто невменяемая женщина! Я завтра же могу уехать, сыта по горло вашим дворянским хлебом, хватит с меня!
И она вышла, хлопнув дверью. А помещица забегала по крыльцу, шипя сквозь сжатые зубы:
– Ах, змея, шлюха варшавская! Ах, мерзавка!..
– Не смей уходить! – прикрикнула она на Тосю, которая хотела незаметно улизнуть.
Девочка присела на скамейку и, закрыв руками пылающее, заплаканное лицо, тщетно пыталась сдержать судорожные всхлипывания.
– Сто двадцать рублей платим, обходились с ней, как с равной, – и вот благодарность! Какая-то сапожникова дочка, – тьфу! – смеет еще привередничать – и мне мораль читать! Ну, и уезжай и сломай себе шею! Найдется на твое место двадцать других – стоит только свистнуть!.. Ага! Волоки его сюда, ближе! – крикнула она работнику, который силой тащил упиравшегося Витека.
– Пусти меня, Куба! Пусти, дьявол! Ну, пусти ради бога!
– Как же! Тогда она мне голову оторвет!
И, ухватив его крепко за шиворот, Куба поднял Витека и поставил на крыльцо. Помещица тотчас подскочила к нему, схватила за волосы и для начала принялась утюжить кулаком его круглощекую рожицу.
– Ты, ублюдок поганый! Сказано тебе, чтобы с паненкой не ездил? Сказано? Так-то ты слушаешься, собачий сын! Смеешь мою дочь обнимать своими хамскими лапами! Ездить с ней! Так ты слушаешься господ?
И она изо всех сил хлестала его плетью, куда попало.
– Ой, не буду, пани, не буду больше! Ради бога! Ой, мама! Иисусе! Мама! Не буду!
– Мамуся, золотая! Мамуся, это я хотела, Витек не виноват! – кричала Тося, заслоняя собой Витека и обнимая ноги матери, но, получив удар плеткой по рукам, отскочила и, с плачем размахивая ими в воздухе, убежала в дом.
Вельможная пани, наконец, успокоилась, а Витек уже едва хрипел. Она столкнула его с крыльца и ушла.
Мальчик кувырком слетел по ступеням и ткнулся лицом в гравий, которым была усыпана аллея.
– Убила она меня, матуля, убила! – с ревом причитал он, но быстро поднялся и, хватаясь то за щеки, то за плечи, то за голову, поплелся на кухню, все время вопя:
– Убили меня, матуля, убили!
– Витек, иди, иди сюда!
Мальчик бросился к матери, которая у порога кухни толкла картофель.
– Матуля, больно!
Она перестала работать, пригладила ему волосы, передником отерла лицо, все изрезанное синими рубцами.
– Ишь, ведьма, чтоб ты околела! Так избить ребенка! Чтоб тебя холера задушила, проклятая! Люди для нее хуже собак!
Она вошла в кухню и вынесла мальчику кусок хлеба и полкружки пахты.
– На, поешь и не плачь! Ничего, господь все видит, хотя и не скоро карает… А, чтоб тебе добра не было, сука!.. Ну, будет, не реви!
Мальчик понемногу успокаивался, жевал хлеб, запивая его пахтой, и по временам утирал рукавом набегавшие на глаза слезы. А мать стояла над ним, ласково гладила по голове и, когда он поел, сказала:
– Иди, ложись спать. Я приду потом и принесу тебе какой-нибудь кусочек с обеда. Беги скорее, а то придет эта язва, и опять достанется тебе!
– Принесите, матуля, и для Финки чего-нибудь.
Витек ушел. По дороге он время от времени свистал и тихо звал собаку:
– Финка! Финка!
Обошел все углы двора, но нигде собаки не было. Вдруг со стороны мельницы донесся шум и крики, – и он побежал туда.
Дорога от усадьбы шла мимо служб и затем – по насыпи, полукольцом окружавшей большой пруд, в котором плотины держали высоко уровень воды. Дальше дорога эта шла мимо мельницы, уже среди лугов, перебиралась через шлюзы и доходила до деревни, вытянувшейся в длинную, прерывистую линию. Мельница стояла в низине, крыши ее были на уровне воды в пруде.
Несмотря на сгущавшийся сумрак, Витек разглядел, что на плотине перед мельницей собралась целая толпа. Люди почему-то разбегались во все стороны, взбирались на деревья, на плетни, и невнятные тревожные крики прорезали воздух. Шлюз был открыт, вода через щиты с шумом бежала вниз с двухсаженной высоты, ударяла в берега громадными плоскими волнами и брызгала пеной на дорогу. Не умещаясь в узком русле, речка выступила из берегов и широко разлилась.
Витек все оглядывался по сторонам и, завидев бегущую ему навстречу собаку, крикнул:
– Финка! Сюда!
Ему что-то кричали люди с деревьев и заборов, но он не слышал их в шуме воды и преспокойно звал Финку. Собака остановилась на мгновение, потом бешеными скачками бросилась к нему. Добежав, она прижалась к его ногам и отрывисто, жалобно завизжала. Пена бежала с ее морды, глаза были налиты кровью.