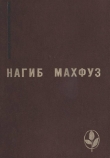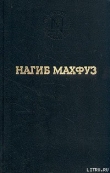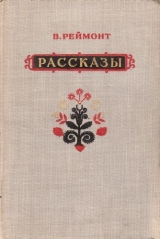
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Ксендз, запевая, быстро шел впереди в своей черной шапочке и шубе поверх белого стихаря, завязки которого шуршали на ветру. Время от времени бросая приглушенные, словно замерзающие на холоде латинские слова, он смотрел вперед, и в глазах его была скука и нетерпение.
Ветер трепал черную траурную хоругвь с изображением смерти и ада, и она качалась во все стороны. У всех ворот стояли бабы в красных платках и мужики с обнаженными головами. Набожно склонившись, они били себя в грудь и крестились. Во дворах яростно заливались собаки, некоторые вскакивали на заборы и выли. А из окон с любопытством глазели замурзанные ребятишки и беззубые, морщинистые старики с лицами истертыми и унылыми, как осеннее поле под паром.
Хор мальчиков в холщовых штанах и темносиних жилетках с медными пуговицами, без шапок, в деревянных башмаках на босу ногу шел впереди ксендза. Все они смотрели на изображение ада на хоругви и тихими простуженными голосами, вторя органисту, тянули одну ноту, пока он не переходил на другую.
Игнац шагал с гордым видом, одной рукой держась за древко хоругви, и пел громче всех. Он был весь красный от холода и натуги, но держался стойко, как бы желая показать, что имеет право итти впереди всех, так как хоронят его родного деда.
Вышли за деревню. Здесь ветер дул сильнее и особенно досаждал Антеку, чья мощная фигура возвышалась над всеми. Волосы у него разлетались во все стороны, но он не замечал этого, так как ему нужно было править лошадьми и придерживать гроб на ухабах и выбоинах.
Сразу за телегой шагали обе сестры, молясь вслух и то и дело меряя друг друга сверкающими взглядами.
– Пшел домой! Я тебя, стерва! – один из мужиков нагнулся, словно ища камень.
Пес, который от самого дома бежал за телегой, завизжал, поджав хвост, и укрылся за грудой камней у дороги, а когда люди прошли, перебежал на другую сторону и боязливо затрусил дальше, стараясь держаться около лошадей.
Кончили петь латинские молитвы. Женщины визгливо затянули:
– «Кто к защите твоей прибегает, господи…»
Голоса быстро таяли в воздухе, заглушенные ветром и метелью.
Начинало смеркаться. С белых полей, бескрайних, как степь, где местами только торчали скелеты деревьев, ветер нес тучи снежной пыли и швырял их в толпу.
– «…и всем сердцем верит в тебя» – звучал гимн, прерываемый воем вьюги и частыми, громкими криками Антека: «Н-но, н-но, милашки!» Он все усерднее подгонял лошадей, так как начинал сильно зябнуть.
В тех местах, где встречались камни и деревья, выросли длинные сугробы, громадными клиньями перегораживавшие дорогу.
Пение часто обрывалось, и люди с беспокойством смотрели на белую массу снега, которая с шумом и воем металась вокруг, подхваченная ветром, нагромождаясь валами и затем разлетаясь. Она то катилась волнами, то напоминала гигантский разматывающийся клубок и била в лицо людям миллиардами острых игл.
Большинство провожавших повернули с полдороги обратно, опасаясь, что метель усилится. Оставшиеся поспешно, почти бегом дошли до кладбища. Могила уже была вырыта, и все остальное проделали наспех – что-то там пропели, и ксендз окропил гроб, потом засыпали могилу мерзлой землей со снегом и разошлись.
На поминки Томек пригласил всех к себе, «потому что отец духовный говорит, что в корчме не обойдется без греха».
Антек в ответ только выругался, и, позвав Смолена, они с Моникой, вчетвером – так как взяли и Игнаца – пошли в корчму. Выпили пять кварт водки с салом, съели три фунта колбасы и окончательно столковались со Смолецем насчет займа.
От тепла и водки Антека так развезло, что, выходя из корчмы, он сильно шатался. Жена крепко взяла его под руку, и они пошли домой вдвоем. Смолец остался в корчме – пить в счет предстоящего займа у Антека, а Игнац помчался вперед, потому что ему было очень холодно.
– Ну, мать, видишь – пять моргов теперь мои! На будущий год посею пшеницу, ячмень, а нынешним летом картошку… Мои! «Кто воззвал к господу: ты – моя надежда!..» – затянул он вдруг ни с того ни с сего.
А вьюга выла и бесновалась кругом.
– Тише, ты! Упадешь, что я с тобой делать буду?
– «Того он ангелам своим прикажет охранять», – пел Антек, но скоро замолчал – мешала отрыжка колбасой. На улице все больше темнело, а метель так разгулялась, что в двух шагах ничего не было видно. От шума и свиста кругом можно было оглохнуть, и целые горы снега поминутно обрушивались на них.
Из хаты Томека, мимо которой они проходили, долетело пение и громкий говор. Там справляли поминки.
– Язычники проклятые! Воры! Ну, погодите же! Вот у меня пять моргов… потом будет и десять – что вы мне сделаете? Ага, что, взяли, сучьи дети?.. Буду работать, и все у меня будет… верно, мать? – И он колотил себя в грудь, тараща мутные глаза.
Так он болтал еще долго. И только когда пришли домой и жена дотащила его до кровати, он свалился на нее, как мертвый, и утих. Но не заснул и через некоторое время позвал:
– Игнац!
Мальчик подошел осторожно, опасаясь, как бы его не достала отцовская нога.
– Игнац! Будешь, сукин сын, хозяином на своей земле, а не оборванцем-батраком, не мастеровым! – кричал Антек, колотя кулаком по кровати. – Пять моргов – мои! Ага! Немчура проклятая, сукин…
И захрапел.
1897 г.
Томек Баран

Томек открыл дверь в корчму. Изнутри повалил пар, как из хлева, и в лицо ему ударила зловонная духота, – воздух здесь словно липнул к коже. Но Томек этого даже не заметил. Войдя, он сразу стал прокладывать себе дорогу сквозь густую толпу, как сквозь груду зерна на гумне, добираясь до деревянного барьера, отгораживавшего буфетную стойку.
– Давай восьмушку, да покрепче.
– В кружку налить?
– Нет, в бутылку.
Шинкарка отмерила ему водку. Томек уплатил, взял бутылку и рюмку и, пройдя в другой конец избы, уселся за столик у стены. Налил себе рюмку, выпил. Сплюнул сквозь зубы, утер рот рукавом и задумался. Что-то, видно, его мучило – он не мог усидеть на месте, то и дело сплевывал, ударял кулаком по столу или вскакивал, словно бежать куда-то собрался, но опять с тихим стоном тяжело плюхался на лавку и тер глаза кулаком, потому что из них то и дело выкатывалась на сухую синеватую щеку слеза, жгучая, как огонь. Он почти не сознавал, где он и что происходит вокруг. Какое-то тяжелое горе камнем лежало у него на сердце, и видно было, что человек не может с ним справиться: он все беспомощнее сутулил плечи, все чаще вздыхал и чесал в затылке.
А корчма ходуном ходила от топота, от стука каблуков. Пар двадцать, плотно притиснутых друг к другу, кружились в тесноте посреди комнаты, пристукивая каблуками и громко покрикивая.
– Гоп! Гоп! Гоп! – слышалось со всех сторон.
Водка и упоение пляски туманили головы, дикое возбуждение охватывало танцующих, и они всё азартнее стучали каблуками, всё быстрее вертелись в кругу.
Красные юбки женщин мелькали среди белых сукманов, как маки в гуще зрелых колосьев. Сквозь замерзшие оконца проникал желтоватый свет угасавшего дня, а огонек каганца на выступе печи все время колебался и мигал, словно в такт грому каблуков.
Невнятный говор сливался в глухой гул, в котором, как молнии, вспыхивали буйные выкрики: «Гоп! Гоп! Гоп!» и сразу тонули в страшном шуме, так как за столами, по углам, у буфета, везде, где только можно было приткнуться, стояли и сидели люди и гуторили. Говорили об урожае картофеля, о ксендзе, о своих ребятишках, о скогине, обо всем, что их интересовало и донимало, «сидело в печенке» – потому что, когда выговоришься в компании и пожалеют тебя люди, сразу легче становится. Ведь и корова, к примеру сказать, даже из родника не станет пить одна, а вместе со стадом пьет хоть из болота. Так и человеку в одиночку жизнь не в жизнь – и в корчме не повеселишься, и в лес один не поедешь, а только вместе с другими, с ближними, как повелел господь.
Говорили все разом, чокались, нежно обнимались, и у всех глаза сияли от удовольствия, и громче раздавались крики: «Гоп! Гоп! Гоп!»
Под крепкими ударами каблуков все сильнее стонали половицы. Басы, поместившиеся высоко, на бочке с капустой, гудели: «Бом, цык, цык! Бом, цык, цык!»
А липовые скрипки пели им в ответ: «Тули, тули, тули!»
И кипело вокруг бурное, огневое веселье.
Танцовали плечо к плечу, пары тесно прижимались друг к другу, соприкасаясь не только грудью, но и лицами. Все пронизывал ритм живой, задорной музыки, и под нее плясали настоящий мужицкий оберек, такой лихой, стремительный, буйный, что от пола щепки летели, стекла жалобно дребезжали, а толстые пузатые рюмки так и подскакивали на стойке, как будто их подмывало тоже пуститься в пляс.
Время от времени корчмарь брал бубен с колокольцами, потрясал им с такой силой, как мужик трясет еврея, и ударял в него кулаком в такт скрипке.
«Дзинь, дзинь, дзинь», – поднималось тогда оглушительное, нестройное бренчанье, и сильнее грохотали каблуки, голоса хрипли от криков, а огонек каганца метался, и копоть летела на развевавшиеся, как плащи, кафтаны. Туман от таявшего на сапогах и у дверей снега, табачный дым, полумрак, царивший в просторной избе, мешали разглядеть танцующих, и перед глазами только мелькали в безудержном вихре красные лица, неясные контуры фигур да переливались яркие краски одежд.
«Ну-ка, кто меня поддержит? Кто поддержит? Ха-ха-ха!» – весело заливались скрипки.
«Я, я, только я…» – отзывались, вибрируя, басы и начинали, как и скрипки, смеяться и проказничать, и у всех становилось еще праздничнее на душе, корчма качалась в приливе пьяного веселья.
Одна баба ошалела,
А другая бесится,
Третью черти оседлали
И угнали в пекло, —
пропел кто-то, и это как бы послужило сигналом – тотчас посыпались разные частушки, так и брызжущие весельем.
Только Томек попрежнему сидел в мрачном раздумье. Он налил себе вторую рюмку, но ее тут же опрокинул какой-то пролетавший мимо танцор. Томек всердцах пнул ногой его даму и встал. От окна тянуло холодом, да и тошно было сидеть одному, и он пошел в каморку за стойкой.
Там тоже было тесно и людно. Мужики, не выпуская из рук бутылок, целовались и болтали, поминутно чокаясь. Женщины, стыдливо заслоняясь концом платка или передником, с наслаждением потягивали водку. Угощали друг друга щедро, как истые поляки: у кого хватало денег на рисовую, – ставил рисовую, нехватало – заказывал простую водку или только пиво, но угощал от всего сердца, с удовольствием.
Все были уже пьяны – ну, да что за беда! Один раз живешь на свете, и за горелку в ад не угодишь: надо же бедняку иной раз потешить грешную душу, хлебнуть с горя глоточек.
– Ах он, пес этакий! – бормотал какой-то сильно подвыпивший мужик, обращаясь к печке. – Хорош кум, нечего сказать! Ну, погоди же ты у меня! Я его так, а он меня этак… я его за шиворот, а он меня по морде!.. Такой ты кум? Такой ты христианин? Пес ты, и больше ничего! Прямо в морду кулаком!.. Бартек не одного одолел, он и тебя одолеет… Я его так, а он меня этак… Я ему вежливенько говорю: «Брат!» – а он меня в ухо… А я ему потом: «Такой ты кум? Такой ты христианин?..»
Он бурчал все невнятнее, стучал кулаком о печку так, что она гудела, и сонно качался.
Ты на том берегу,
А на этом я.
Как же мне
Целовать тебя?
Поцелую я листок
И брошу тебе, милок, —
запела Карлина – та, что осенью схоронила мужа и теперь хозяйничала одна на полвлуке пахотной земли. Были у нее и лошадь, и коровы, и одежа еще крепкая от покойника осталась.
Карлина подбежала к молодому парню, стоявшему у стены, и пропела ему:
Войтек, Войтечек,
Не сиди на печке,
Иди ко мне, бабе вдовой,
У меня хлеб готовый.
– За твое здоровье, Войтек, дорогой ты мой хлопец! И чего ты, дурачок, родителей боишься? Раз я сказала, что землю на тебя запишу, значит запишу. Жалко мне земли, что ли?
Заживешь, как в раю, милый мой дружочек,
На завтрак – кура, на ужин – сырочек.
Ксендзу поклонись и заплати ему за оглашение, а потом заколю поросенка, калачей напеку, купим рисовой и такую свадьбу сыграем, что все ахнут!
– Задурила, старая! Зубов нет, а ей все еще кусать хочется! – бросил кто-то со стороны.
– Ишь, нашелся адвокат собачий! Чем зубы в чужом рту считать, ты зенки свои в другое место пяль! – резко огрызнулась Карлина.
– Не бранись, кума, я кое-что тебе скажу…
– С псами говори! Вырядился в пальто, чучело, и думает, что он великий пан. Да хоть по всей деревне языком звони и бреши, как пес, – я тебе все равно горелкой глотки не залью.
Она отвернулась к Войтеку, увела его в уголок и продолжала уговаривать.
Рядом за столиком сидели два мужика и пили из пузатой бутылки. Один молчал и то и дело чесал в затылке, другой, широко размахивая руками, разглагольствовал:
– Запомни, это тебе говорю я, Червиньский! Напасти всякие валились на меня, а я хоть бы что! Жена померла от родов – я держался. Лошадей украли – и это перетерпел, а тут, не успел я оглянуться, – Ендрек у меня оспой захворал… Эх, собачья доля! Напоил я его водкой с салом, дал ксендзу денег, чтобы молебен отслужил, – и как рукой сняло! Делай так и ты, Гжеля, и увидишь: поможет! Это Червиньский тебе говорит, а Червиньскому ты верь!
– Ребятишек у меня, как трясогузок на пашне, жена опять слегла, а тут подати надо платить, картошка у нас померзла… Нужда одолела – хоть криком кричи… А как извернуться, когда гроша ломаного за душой нет? О господи, господи!.. Давайте выпьем! Сдается мне, что теперь уже не вытяну… Раскидываю умом и так и этак, а ничего надумать не могу…
– Ох, и глуп же ты, Гжеля, дай бог тебе здоровья! На голову свою ты уж лучше не надейся – все равно не вывезет, а подставляй ее управляющему да терпи! Кулаки иной раз скорее головы вывозят. Вот получишь работу на железной' дороге, заведутся и у тебя кое-какие гроши… Ты меня слушай да верь, Червиньский всегда правильно говорит, – ведь сам ксендз сказал, что в нашем приходе, кроме него, одна есть голова: Червиньский! А ксендз наш – разумный шляхтич и ученый, дай бог ему здоровья! Ну, выпьем еще по одной, Гжеля!
– Пани Яцкова, а, пани Яцкова! Бутылочку эссенции, кружку спирта, две связки бубликов да колбасы фунт! – кричал кто-то у стола под окном, где сидело четверо: двое, судя по виду, были крестьяне, а двое – одеты по-городскому.
– Пани Яцкова, уксусу подайте для колбасы и тарелку пану Стшельцу! Вот послушайте, пан Стшелец, как все было…
– Помолчи, старый, я сама расскажу все толком, потому что ты не помнишь, – перебила его жена. – Иду это я лесной дорогой… иду, значит…
– Заткни глотку! Будет еще тут попусту языком молоть! Я сам расскажу. За ваше здоровье, пан Стшелец!
– Пейте во славу божию.
– Ох, и сладкая же, и крепкая… Еще одну, пан Стшелец?
– Ваше здоровье, Анджей!
– Пани Яцкова, еще порцию!
– Спасибо, Анджей, я больше не могу…
– Дорогой вы мой, еще хоть одну рюмочку, ну, хоть глоточек! Вот и хорошо! А теперь расскажу, как все было. Приходит жена домой и говорит: шла я, говорит, лесной дорогой через делянку пана Стшельца, смотрю – лежит что-то… заяц не заяц, ну, и не теленок, потому что хвоста нет, и не свинья, потому что не визжит… Остановилась баба, обомлела со страху и только твердит про себя молитву, а зверь все лежит, пасть разинул, и клыки у него с палец! Ну, бабы, известно, бешеный народ, ни в чем меры не знают – ни в злости, ни в ласке… Вот моя, не долго думая, сняла с ноги башмак да хвать зверя по голове, и сразу кинулась бежать. Прибежала с плачем в хату и говорит: «Старый!» – «Ну, чего?» – спрашиваю. «Пришибла я, говорит, в лесу какого-то зверя!» Я молчу, ничего ей не говорю, потому что подумал, что это у нее в голове помутилось, вот она и плетет нивесть что… Известное дело, баба! А она все свое: убила, мол, зверя или что-то другое на лесной дороге. Я на нее и не посмотрел, только прикрикнул через плечо, чтобы не молола чепухи, а она опять за свое: убила зверя на дороге. О господи, твоя воля! С бабой разве сладишь? «Кто ее знает, – думаю себе, – может, она это человека убила?» Запряг я Сивку и поехал на то место в лесу – взглянуть… а тут вы меня как раз и встретили, пан Стшелец
– Анджей, не врите! Я вас застал, когда вы клали серну в телегу.
– Еще капельку горелки, пан Стшелец, – на дорогу! Я вам правду сказал, как на исповеди отцу духовному. Вы мне больше, чем отец родной, чем брат, вы благодетель наш! Знаю, что если вы захотите, так я дело это в суде проиграю, потому что так уж водится на свете: шляхтичу везде дорога укатана, а мужик терпи, трудись да плати! Но вы, пан Стшелец, человек справедливый и покладистый. Вы совестливый человек и меня не обидите. А я вас люблю, как отца родного, – завтра жена поросенка вам отвезет, и помиримся, как свои люди. Зачем это судьям заработок давать? Пани Яцкова, еще порцию того же самого!
– А я добавлю утят и меду, потому что знаю, что ваша жена – благородная пани, тонкого воспитания, в школах училась, как и вы, пан Стшелец, не то, что мы, простые мужики! – вмешалась хитрая крестьянка, низко кланяясь пани Стшельцовой. А та, расчувствовавшись, обняла ее, и они стали целоваться.
– Так и быть, я вам, Анджей, не только серну прощу, но, если потребуется вам сосенка какая или дубок молодой, отказать не смогу. Такое уж у меня сердце отходчивое!
– Ваше здоровье! Вот истинно христианская душа!
Они стали беспрерывно чокаться, целоваться и заговорили шопотом, так что стал слышен разговор мужиков за соседним столом:
– Эх, доля проклятая! Извела человека… А вы с ним вместе жили?
– Его поле через межу от моего. Все на моих глазах было. Видел я, что человека горе точит… или, может, болезнь какая.
– А я вам вот что скажу: покойник – не к ночи будь помянут – мог бы еще жить да жить!
– Где там! Его все время рвало. Стонал, стонал, бедняга, пока не кончился.
– Говорят, и доктор к нему приходил?
– Э, много от них толку, от докторов этих! Если пришло время помирать, так хоть человеку целую влуку земли дай и всякого добра, сколько хочет, – все равно не выздоровеет!
– Верно! Выпьем, Гжеля!
– Пейте на здоровье. А кто виноват в его смерти? Если так по правде да по совести сказать, – только свинья да баба его, и больше никто. Была у него свинья, откормленная, толстая, как бочка. Ну, повел он ее продавать, потому что деньги были нужны. А снегу в тот день навалило по пояс. Намучился он, устал – не так-то легко продать! Потом колбасы поел, она у него внутри застряла. Тут ему и крышка! Если бы он ее горелкой запил, ничего бы с ним не случилось, – как бог свят, жив остался бы! А он не пил ничего – и полкружки не мог выпить.
– Не пил, потому что боялся, бедняга, ада в доме…
– Это верно. Баба у него замухрышка, а рука у нее тяжелая: колотила она его не один раз!
– Ваше, кум!
– Будем здоровы! А я вам вот что скажу: если бы он эту стерву бил так, чтобы она света не взвидела, – была бы у него женка смирная и ласковая на диво!
– Правда ваша, солтыс, [3]3
Солтыс– сельский староста.
[Закрыть]у покойника рука была слабая, и обычая нашего мужицкого он не соблюдал – вот теперь землю грызет, царство ему небесное, вечный покой!
– Аминь! Пей, Гжеля!
– Хорош муженек! Жена там еле дышит, а он тут пьет, поганец! – кричала какая-то баба, проталкиваясь к их столу.
– А что мне!.. Ребятишек, как мусору, полна хата, а тут еще новый…
– Гжеля, не гневи бога, не то он еще ее у тебя отнимет!
– Выпейте глоточек, кума, и сейчас пойдем…
– Мне вот Иисус не дал ребят, не послал утешения на старость, – сказала женщина. – А я уж так его просила, и в Ченстохов ходила на богомолье, и у докторов разных лечилась – ничего не помогло. Осталась на свете одна, как перст.
– Ну, ну! Захотела баба ребенка, когда ей сто лет скоро стукнет!
– Не болтал бы ты чепухи, Червиньский, – что же я молода не была, что ли?
– Господь бог переселился на небо, дьявол – в женщину, а квас – в пиво, только неизвестно, когда… запомни это, баба, потому что тебе это Червиньский говорит!
В углу на сундуке сидел молодой паренек, сын здешнего органиста, а перед ним стояла древняя старуха и говорила звучным топотом:
– Семьдесят шесть лет на свете живу, паничек, всего насмотрелась, видела и белое, и черное, и всякое. Служила у таких панов, что только на рысаках ездили, ели на серебряной посуде и по-заграничному между собой говорили. А где они теперь? Где? И читать по молитвеннику я умею, и первой хозяйкой слыла на всю деревню, и дети были у меня, и добра сколько… а все куда-то пропало, ушло, как солнышко летнее, что господь посылает нам, грешным, на радость. Я теперь все знаю, паничек. Знаю, что и панское житье и мужицкое – только одна маята. Я простая баба, но семьдесят шесть лет прожила, – так все понимаю. Паничек! Свет стоит уже шесть тысяч лет – так ведь?
– Да, без малого шесть тысяч.
– Вот видите, панич, я все знаю! И думаю я себе так: шесть тысяч лет свет стоял и без меня обходился, зачем же я столько лет мучилась? Для чего это нужно было?
– Что поделаешь! Если господь дал человеку жизнь, так значит…
– Нет, паничек, – с живостью перебила старуха. – Я простая баба, а вы ученый, и на органе играете, и по-латыни его преподобию в костеле подпеваете, и знаете, когда надо тянуть тонко, а когда – густо. Но я вам скажу: это, наверное, дьявол выпускает на свет божий душеньки человеческие – для того, чтобы они страдали и мыкались тут столько лет. Может, это грешные мысли, а я все-таки скажу: не божья это воля, хотя и в книжках так пишут и ксендз так говорит. Какая Иисусу корысть от того, что столько людей натерпится, набедуется в жизни?.. Ведь Иисус добр и справедлив!.. А жизнь наша не сладкая, не шелковая, нет, – она, как скребница, дерет, так что у человека душа кровью обливается.
– Что вы такое говорите, Ягустинка, – грех это…
– Грех только других обижать, а я и собаку палкой не трону, потому что она тоже живая тварь и боль чувствует. Паничек, я серая баба, но сердце у меня, как уголь, сгорело, потому что я на своем веку напилась горя, и своего и чужого. И знаю, что жизнь нам дал сатана на зло господу богу, чтобы бедные люди вечно мучились на этом свете… Но Иисус милосердный сжалился над нами, одолел нечистого и понемногу отбирает людей для своего царства небесного, пока всех не заберет туда. И я только того и жду, чтобы пришла Костуха [4]4
Костуха, Костуся– смерть ( народн.).
[Закрыть]и сказала: «Пойдем!» Жду и бога молю, чтобы мне поскорее глаза закрыть, не знать больше никакой заботы и горя и отдыхать себе спокойно… Отдыхать, паничек…
Она стояла, выпрямившись, склонив над задремавшим сыном органиста высохшее лицо, перепаханное заботами и годами, и в ее выцветших, исплаканных глазах блестели слезы… Она торопливо отерла их концом запаски, тихонько вздохнула и отошла к Томеку, одиноко сидевшему на сундуке с бутылкой в руках.
– Томек, что-то неладное у тебя из глаз смотрит! – сказала она шопотом, дотрагиваясь до его плеча.
– Горе смотрит – а что же еще? Разве вы, бабуся, не знаете?
– Слыхала кое-что, да люди разное говорят, – не знаю, кому верить.
– Со службы меня прогнали, – пробормотал Томек уныло.
– За что же?
В ее голосе слышалось горячее сочувствие.
– За что?.. Да оттого, что я дорожного мастера не ублажал. Ему мужики все носят – под осень гусей, на заговенье – масло, на пасху – поросенка да яиц, ко всякому празднику – цыплят… А я не носил: откуда мне взять? Детей нечем было кормить. Жену у меня заботы да горе извели, корова пала – тоже не от хорошего житья… а картошка, сами знаете, какая в нынешнем году уродилась: выкопал меньше, чем посадил. Я на части разрывался, а жену не спас и ничего не мог поделать. Работал, как вол, и на службе и дома, днем и ночью, да нужды не одолел. Мастер постоянно ко мне придирался, а что я мог ему дать? Разве только хорошего тумака в бок, потому что мне и детям самим есть нечего. Вот он со зла все гонял меня, следил за каждым моим шагом. Писал начальнику на меня рапорты, что я и упрям, и лентяй, и на работе сплю, что участок не обхожу… а потом наговорил на меня, будто я железо со склада стащил…
– Томек, а ты взял его? Правду говори, – ведь теперь уже все равно…
– Не брал я, бабуся, нет! Пусть я, как паршивый пес, околею без святого причастия, если я неправду говорю! Никогда я чужого не трогал! Другие не раз крали, а мой отец не крал, и его сын вором не будет. Пусть я бедняк, а вором быть не хочу.
– И только за то тебя прогнали? А люди говорили, будто железо нашли у тебя.
– Верно, нашли, да только не я его принес! Михал Рафалов посулил мастеру пятьдесят рублей, чтобы он его на работу принял, а вакансий не было, вот он и подбросил мне железо, а потом донес на меня. Сделали обыск, нашли – и уволили меня. Все пропало, потому что, хоть я и знал, кто это сделал, – свидетелей не было. Семья в шесть человек осталась без куска хлеба. Заработать негде, есть нечего, – какая это жизнь! Если Иисус милосердный не поможет, не выдержу, нет, не выдержу!
Он безнадежно вздохнул, и слезы потекли по темным запавшим щекам.
– Эх, судьба человечья! Только слезы лицо изроют и душа от боли застынет, как птичка на морозе, а спасенья нет ниоткуда. Одни дураки верят, что есть добро на свете. Этим добром мы сыты по горло! – с горечью пробормотала старуха. – А ты все-таки не поддавайся, Томек. И сатану Иисус поборол, так почему честный человек не может одолеть нужду, если пресвятая дева поможет? – утешила она его и отошла к стойке. Там купила две связки бубликов, кружку просяной крупы и вернулась к Томеку.
– Томек, вот возьми крупу и бублики для детей. Рада бы тебе помочь, да больше нечем, я тоже бедная вдова. У кого деньги есть, может купить, что захочет, а я – батрачка. Только совет тебе хороший дам.
– Посоветуйте, бабуся! Иисус и матерь божья вас наградят за меня, несчастного.
– Ступай-ка ты завтра к мастеру, поклонись ему в ноги, – может, он и сжалится. Ведь у него самого дети есть. Если бы ты один с голоду помирал, – это еще куда ни шло. А чтоб такая мелкота, детишки бедные, мучились и пищали с голоду – грешно это!
– Нет, бабуся, не пойду, – с угрюмой решительностью возразил Томек. – Пропадать так пропадать! Придется с голоду подыхать, так подохну, а его просить не стану. Я у этого дьявола в ногах валялся, когда работу просил, скулил, как пес, чтобы детей моих пожалел, а он меня ногой пнул и велел вышвырнуть за дверь! Нет, не пойду: боюсь, как бы греха не вышло. Как только его увижу, у меня руки чешутся схватить его за горло и прикончить, как зверя.
Томек говорил это сдавленным от ненависти голосом и все крепче сжимал кулаки. Потом, рванув рубаху на груди, добавил:
– Так мне трудно себя пересилить, что даже внутри болит… до сих пор терпел, а теперь уже невмоготу… Не знаю, стерплю ли, если его увижу.
– Томаш, держи ты в себе этого волка на привязи, крепко держи, а то далеко ли до беды!
– Пойду завтра в лес дрова рубить для подрядчика.
– Да, что делать, голод не тетка!
– За четыре сажени он только злотый и десять грошей платит, собачий сын, а добрых два дня приходится из себя жилы тянуть, пока их нарубишь.
– Томек, ступай ты сейчас к ксендзу и попроси его – он с начальством знается и может за тебя слово замолвить, чтобы дали тебе какую ни на есть работу на станции.
– Ну да, станет он… Ксендз к дорожному мастеру в гости ездит, дружбу с ним водит…
– Глупый! Ксендз у нас справедливый, всегда бедняков жалеет. Он тебе и совет даст, и поможет.
– Как же я посмею к нему с пустыми руками итти?
– Дурачок! Ребятенка ведь ему в подарок не понесешь, а что у тебя есть, кроме ребят?
– Правда, а все-таки… как же с пустыми руками к ксендзу пойдешь?
– Сказано тебе, дураку: ступай сейчас же, упади в ноги его преподобию и все ему расскажи. Да смотри – в грудь себя бей, плачь и про детишек тверди, – увидишь, как он сразу помягчеет.
Томек быстро дал себя убедить.
– Пожалуй, пойду. – Он встал, обтянул полушубок, надел шапку и стал проталкиваться между танцующими.
Старуха вышла вслед за ним и на улице сказала еще:
– Томек, ты смирись и проси ксендза по-хорошему. Помни, что мужик без земли – что птица в воде: только и может она крыльями бить да пищать, чтобы ей помогли.
Томек ничего не ответил. Мороз сразу так его прохватил, что он не мог перевести дыхания. Он глубже надвинул шапку на лоб и зашагал от корчмы протоптанной тропинкой напрямик через поле.
«Будем есть, будем пить, будем веселиться», – пели ему вдогонку скрипки.
«Что бог даст, что бог даст!» – бормотали басы, задорно подрагивая, но Томек не слушал этих голосов, которые, пробиваясь сквозь крышу корчмы, рассыпались в морозном воздухе бриллиантовым дождем. Он шел быстро.
В поле от снега и луны было светло, как днем.
Громадные белые облака лежали в просторах, раскинувшись над землей серебряным покровом, в торжественном величии покоя и безбрежности. Равнины с волнообразными округлостями холмов, с голыми скелетами деревьев и грудами валунов простирались вокруг сверкающим океаном снега, слепившего глаза белизной. Так глубока была тишина вокруг, что Томек еще долго слышал отголоски из корчмы и по временам оглядывался на нее и на мерцавшие позади, в деревне, золотые пятна огней, но тотчас ускорял шаг, почти бежал, не обращая внимания на мороз, хотя он больно кусал щеки и спирал дыхание в груди.
От покрытых инеем придорожных крестов ложились длинные голубые тени. Завидев крест, Томек каждый раз снимал шапку, набожно крестился и глубоко вздыхал. По временам он разминал руки, закоченевшие до самых плеч, плотнее затягивал кушак и шел дальше.
Из-под ног порой срывалась стайка куропаток и с тихими жалобными криками кружила минутку в воздухе, затем пропадала в серебристо-белом тумане, висевшем над снегами. Заяц мчался через поле, иногда останавливался, навострив уши, и, постояв на задних лапках, катил дальше. Или проплывала в воздухе какая-то серая бесформенная масса и бросала синеватую тень на снег. Или скрипучий голос мороза проносился над землей и, разбиваясь на миллиарды колебаний, возмущал дивный покой зимней ночи. Порой неясный ропот, подобный тяжкому вздоху, шел от лесов, или долетал какой-то далекий глухой шум, – и снова наступала тишина, мертвое безмолвие пустыни, и сладкая дремота обнимала землю.
Томек шел, ничего не замечая. Он заранее представлял себе, как придет к ксендзу, как поклонится ему в ноги и скажет: «Благодетель, отец родной», потом расплачется и начнет ему выкладывать все свои несчастья и обиды. И, думая об этом, он уже сейчас так волновался, что слезы набегали на глаза, стекали по щекам и замерзали на усах.
Потом приходили мысли о доме и детях.
«Марысю отдам в деревню, в работницы, Юзефку – тоже. Будет девчонкам лучше, да и мне полегче». Но у него защемило сердце при мысли о разлуке с дочками. «Спят уже, наверное, родимые, спят». Он нащупал за пазухой бублики и крупу, которые нес им. «Если приведет бог дожить до весны, так тогда и работу легче будет найти, и они кое-что заработают…»