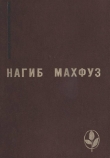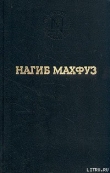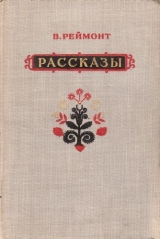
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
XII
Ночь была теплая, тихая, настоящая весенняя ночь.
Звезды тускло мерцали в пропастях неба, с укутанной туманом земли неслось пение птиц, порой на лугах раздавался хор лягушек. А деревня спала тихо, не слышно было ее дыхания.
Один Ясек не спал. Как только наступила полная темнота, он выскользнул из своего убежища, где сидел со вчерашнего утра, с тех пор, как спасся бегством из парка.
Нигде не видно было ни огонька, не слышно ни звука. До рассвета было еще далеко.
«Уже через несколько часов в путь, в дальние края», – думал Ясек. Как загипнотизированный, он вышел на дорогу к монастырю и зашагал в деревню.
Он сам не знал, зачем идет туда, он забыл об опасности, забыл обо всем и медленно шел посреди дороги.
Деревня спала глубоко и спокойно, из открытых окон слышен был храп, а кое-где в садах, под завалинками белели фигуры тех, кто ночевал на открытом воздухе.
Ясек приглядывался к каждой хате, каждому двору с странной настойчивостью человека, который ни на чем не может сосредоточиться. Он часто останавливался, прислонялся к каменным заборам, потом шел дальше, но все медленнее, словно с трудом.
Порой сонно тявкала на него собака или где-то на конюшне ржала лошадь, гоготали во дворах гуси – и опять наступала такая тишина, что Ясеку становилось жутко, и он осматривался по сторонам.
Он сейчас ни о чем не мог думать, – замирало сердце, и странная слабость охватывала его. Миновав последнюю избу, он сел на дороге под ветхим крестом без перекладин и рассеянно смотрел на покрытые туманом поля.
Ему было так худо, что минутами казалось – это смерть подходит.
Давно уже пропели первые петухи, помутнели звезды, и скоро на востоке темносинее небо чуть-чуть посветлело. Там должно было взойти солнце, но оно было еще далеко, очень далеко.
Ясек сидел неподвижно. Он не спал, но ничего не сознавал, ни одной мысли не было у него в голове. Казалось, он смотрел в глубь собственной души и медленно проваливался куда-то в пустоту, внезапно разверзшуюся в ней.
Мрак ночи постепенно редел; туман становился стеклянно-прозрачен и опадал, очертания деревни казались темнее, а в полях и на дороге начинали выплывать из мглы деревья, замелькали длинными шнурами крестьянские загоны и все яснее вырисовывалась дорога.
Ясек машинально встал и зашагал обратно в деревню, к матери. Светало так быстро, что в открытые ворота ему были хорошо видны пустые дворы и ночевавшие там люди. Все спало крепко, и в тишине слышно было, как роса каплет с листка на листок.
Мать сидела на пороге с четками в руках, а Настка дремала на лавке.
– Пора! – едва слышно шепнул Ясек.
– Пора! Пора…
Старуха разбудила Настку, они вскинули узлы на плечи и вышли.
Тэкля плакала навзрыд, а дворовый пес, не спущенный этой ночью с цепи, начал жалобно скулить. Ясек вернулся и отвязал его, но пес не пошел за ними, а выбежал на дорогу и отчаянно завыл.
Они прошли через двор в поле и зашагали межой среди хлебов, направляясь к лесу.
Никто не проронил ни слова, не оглянулся ни разу на деревню, на дом, не заплакал. Они шли быстро, как бы убегая, только иногда кто-нибудь проводил рукой по колосьям, и глаза мутнели от слез, и тяжело поднималась грудь, раздираемая болью.
Предрассветный ветер колыхал хлебами. Они гнулись перед шедшими по меже людьми, как бы кланяясь им в ноги, и, роняя росинки, шелестели, словно говоря:
«Не уходите, хозяева… Останьтесь… останьтесь с нами!»
Деревья, терновые кусты, старые груши на межах протягивали к ним ветви, загораживая дорогу, и шумели глухо: «О! о! о!»
Свет зари переливался над полями, в красном ее блеске капли росы напоминали кровавые слезы в глазах, полных отчаяния, безумных, ищущих кого-то глазах. И, казалось, кровавый блеск рождающегося дня разливает вокруг беспокойство и смятение.
А они шли, все ускоряя шаг, с трудом подавляя слезы тоски и мучительных сожалений.
Около леса, у перекрестка, где на придорожном кресте вытянулось тело распятого, свесившего на грудь измученную голову, они не выдержали: все трое упали на колени у подножия креста и плакали надрывно, горько.
– Ох, Иисусе! На тебя наша надежда… Под твою святую защиту отдаемся, матерь ченстоховская!
Помолившись, сели отдохнуть, утомленные хлопотами и волнениями этой ночи.
– Не увижу тебя больше, земля родная, не увижу! – шептала Винцеркова, в последний раз обводя глазами поля, деревню, весь этот освещенный зарей мирок, где прошла ее жизнь, и жадно вбирая его в себя, как принимают святое причастие перед отправлением в последний путь.
А когда уже надо было итти дальше, они на прощанье припали к родным пашням и пересохшими губами целовали святую грудь матери-земли.
– Ну, пойдемте, мама, пойдем, Настусь! Белый день на дворе, еще кто увидит нас! – торопил Ясек женщин, которые никак не могли оторваться от земли.
Укрываясь в лесу, они скоро добрались до картофельных ям, где долго прятался Ясек. Там они должны были ждать проводника.
Все трое были так утомлены, что сразу заснули как убитые.
Проснулись довольно поздно – уже звонили к вечерне.
Старуха развязала узелок, и они принялись за еду, так как сильно проголодались.
– К вечерне звонят.
– Долго что-то не идет наш проводник!
– А надежный ли он человек, Ясек?
– Да ведь он мне десять рублей дал, чтобы не сомневались, что придет.
Они продолжали есть молча, поглядывая на краешек неба, синевший над отверстием ямы.
Вдруг Ясек вскочил: сверху донесся смешанный гул голосов.
Он схватил палку, подошел поближе к отверстию и долго вслушивался.
– Там много людей… слышно, идут сюда… тише! – шепнул он, взобрался повыше, чтобы выглянуть наружу, но тотчас спрыгнул на дно ямы.
– Мужики наши и стражники… облава… Это за мной! – Слова с лихорадочной быстротой слетали с его губ. – Вы тут сидите тихо… не уходите до ночи… а я… я выберусь. До леса два шага… доберусь туда, что бы ни было… а там они меня уже не поймают… Как стемнеет, дождусь вас около корчмы. Идут! В ямах ищут… Ох! – все тише бормотал Ясек. Его так трясло от страха и волнения, что он вынужден был присесть. Обе женщины, обомлев, не говорили ни слова… Все прислушивались к глухим голосам наверху, которые все приближались.
Уже слышны были тяжелые шаги и стук палок о камни.
Ясек застегнул кафтан и, крепко сжимая в руках палку, с минуту всматривался в отверстие.
– Так у корчмы, помните! – шепнул он, нервно перекрестился и, даже не оглянувшись на мать и Настку, выскочил из ямы.
На мгновение он остановился: его ослепило солнце.
– Держи! Лови! Держи! – внезапно заорали вокруг.
Он был окружен. Со всех сторон двигались к нему тесно сомкнутым кольцом мужики, вооруженные здоровенными дубинами. Их отделяли от него всего несколько десятков шагов, они уже поднимались на гору, в которой были вырыты ямы.
– В лес! – сказал себе Ясек и с величайшей быстротой метнулся прямо на стену людей, ощетинившуюся десятками дубин и протянутых рук. Стена дрогнула, прорвалась, и половина ее рухнула наземь вместе с Ясеком. Десятки тел смешались и, как подхваченные бешеные вихрем, покатились вниз по склону.
Ясек не сдавался. Он защищался так яростно, с таким остервенением действовал палкой и ногами, кусался, царапался, что в конце концов вырвался-таки из тисков и помчался в сторону деревни. Но дорогу к лесу загородила ему новая толпа крестьян, спешивших на помощь первым. Он бежал, как волк, за которым гонится целая псарня, а за ним с дикими криками неслась погоня.
Он несся, как вихрь… «Только бы до деревни и через поле… а там лес!»
Он напрягал последние силы, летел на крыльях безумия и отчаяния… но чувствовал уже, что ему не спастись, не добежать. Лес был еще далеко, погоня все ближе, а он уже задыхался, у него темнело в глазах, он спотыкался, густые колосья цеплялись за ноги…
– Держи! Хватай! – гремело за спиной.
Он летел, как мяч, делая последние усилия. «Еще несколько саженей… еще… О боже! Только бы до садов добежать… За деревьями скрыться…» Грудь разрывалась, сил уже не было совсем, кровь приливала к глазам, он ничего не видел перед собой.
Он добежал все-таки до садов, пробежал еще немного и свалился под чьим-то амбаром.
«Конец!» – подумал он через минуту, увидев между деревьев лица своих преследователей.
Он был так измучен и разбит, что не мог шевельнуться.
«А! Пусть! Пусть!» – пронеслось в мозгу. Им овладела такая безнадежная апатия, такое глубокое равнодушие ко всему. Смерть его уже не пугала.
Он тяжело переводил дух, отирая израненное в драке лицо, и, как в бреду, с каким-то нечеловеческим спокойствием всматривался в силуэты подбегавших людей.
Страшное, смертельное изнеможение убило в нем все – силы, волю, мысль…
Он только стонал, как умирающий ребенок, и лившиеся потоками слезы смывали кровь с лица, а в сердце осталось лишь чувство невыразимой горечи.
Мужики были совсем близко, крики раздавались уже в саду.
Ясек вдруг приподнялся.
– Нет, не прощу! Не прощу вам это! – пробормотал он, внезапно встряхиваясь. Мысль о мести подхватила его, как ураган, зажгла молнии в глазах, придала силы.
Он вскочил, вырвал из крыши амбара пук соломы, поджег ее спичкой. Солома быстро загорелась, и он бросил ее на крышу.
Крыша в один миг вспыхнула и запылала.
– Так вам и надо! Не прощу! – шептал Ясек. Он был так озлоблен, и радость мести так насытила его душу, что он, словно в бесчувствии, спокойно, не торопясь, прошел мимо амбаров и, нырнув в колосившуюся рожь, на четвереньках пополз к лесу.
Погоня где-то отстала.
Через несколько минут Ясек обернулся и посмотрел на деревню.
Подожженный им амбар был весь в огне, он пылал, как пук соломы. Занялись уже и соседние строения и хаты.
– Теперь будете меня помнить, окаянные! – злобно пробурчал Ясек. Ползти на коленях он больше уже не мог и побежал, пригибаясь как можно ниже.
Страшный крик прогремел по деревне и гнался за ним полем.
– Горим! Горим! Горим!
До леса было уже недалеко, и Ясек, выпрямившись, не скрываясь больше, бежал к нему.
Уже видны были красные стволы сосен, зелень листвы, уже повеял ему навстречу торжественный, как под сводами костела, холод глухо шумевшего леса. Еще минута – и он спасен, свободен и отомщен!
Но вдруг он вздрогнул и остановился: в деревне зловеще и глухо загудел набат. Он оглянулся и невольно вскрикнул: полдеревни было объято пламенем.
– Ага! Попомните меня! Попом… – Он не договорил. Ужас стиснул ему сердце, слова замерли на губах, в широко открытых глазах был испуг, ошеломление.
– Деревня горит! Вся деревня! – жалобно прошептал он синими губами. – Боже милостивый!
Побежал было дальше, но опять оглянулся – посмотреть на пожар.
Набат гудел громко, отчаянно, и вместе с бронзовыми голосами колоколов от деревни неслись страшные отрывистые крики, вопли, летели по зеленым, шумящим нивам в пространство, к ясному солнцу.
А Ясек, сам не понимая, что с ним, шел обратно в деревню, не отрывая глаз от стены бушующего огня и дыма, поднимавшейся там, где была деревня. Шел, помертвев от потрясения и ужаса.
Вся середина деревни по обе стороны дороги была в огне.
Гривы пламени поднимались все выше и метались в воздухе, пенились густым черным дымом, грозной красной волной переливались с сарая на сарай, с хаты на хату, хлестали через дорогу, через сады, которые тоже уже начали гореть.
Горестные вопли, плач, причитания звучали по всей деревне, а колокола всё били тревогу.
Люди, совсем обезумев, метались, не пытаясь даже тушить пожар и спасать свое добро. И огонь, торжествуя, распространялся все шире, все дальше, пожирал все на своем пути, носился, как злой дух, в тучах дыма. И где он ступал, куда падал его огненный взор, там взлетали каскады пламени, а за ним шло несчастье, и крики людского отчаяния раздирали воздух.
Тушить огонь было нечем, не было насосов, воды, нехватало рук, люди совсем растерялись. К тому же, до того, как вспыхнул пожар, половина мужского населения ушла из деревни на поимку Винцерека, а женщины были в костеле у вечерни. А когда они сбежались, о борьбе с огнем уже нечего было и думать, – полдеревни пылало со всех сторон.
Под унылый звон набата вышел из костела ксендз, неся дароносицу. Окруженный перепуганными людьми с горящими свечами в руках, он шел по деревне под балдахином, а вокруг раздавались стоны и крики.
– Святый боже! – вырвался вопль из сотен грудей. – Святый бессмертный, помилуй нас!
Шли тесной толпой между стен огня, в грохоте падающих строений, под дождем искр, в хаосе шума, свиста, шипения, рева стихии, которая бушевала в деревне, разметав тысячу растрепанных грив по небу, залетая внутрь домов и яростно истребляя все на своем пути.
– От мора, голода, огня и меча… – торжественно пел ксендз, и слезы текли по его щекам. А набат гудел мощно и уныло.
И весь народ в безумном ужасе подхватывал сотнями голосов:
– Спаси нас, боже!
Процессия обходила кругом деревню. Шли мимо садов.
Войт и писарь начали собирать людей, чтобы тушить пожар.
– Кто поджег?
– Винцерек! Винцерек!
Люди видели, как загорелся амбар в том месте, где скрылся Ясек.
– Винцерек! Поджигатель! Давайте его сюда! – грянул такой крик, что заглушил на миг пение молящихся.
Дикая жажда мести закипела во всех сердцах.
– Искать его! Поймать и убить! – кричали со всех сторон.
Но никто не знал, где Ясек.
Рассвирепевшая толпа хлынула к его дому за речкой, куда не мог добраться огонь.
На пороге сидела Тэкля. Увидев подбегавших мужиков, она поднялась, как призрак, схватила подвернувшийся под руку кол и завопила, как безумная:
– Не дам! Не дам!
За ее спиной из хаты появилась высокая фигура Ясека.
– Здесь он! Здесь! Бери его! – заревела толпа.
Ринулись к дому, в мгновение ока расправились с Тэклей, которая яростно обороняла дверь. Но Ясек, в последнем усилии воли и сознания, бросился на чердак и втянул за собой приставную лестницу.
– Сжечь его! Сжечь!
Заперли двери, забив их колышками, окна приперли досками, завалили ворота обломками плетня и всем, что было под рукой, и подожгли хату со всех сторон. Затем обступили ее и ждали.
Соломенная крыша сразу вспыхнула, и через несколько минут весь дом был уже в дыму и огне.
Ясек опомнился только тогда, когда запылала крыша и на голову ему полились струи огня. Он выскочил, выбив доску, и рухнул вместе с нею вниз, почти на руки подстерегавших его мужиков.
Подняться он уже не мог: удары палок, кулаков, пинки градом обрушились на него.
– В огонь его! В огонь погубителя! В огонь! – ревела толпа.
Десяток рук протянулись к нему, его схватили за ноги и за голову, раскачали и, как узел, швырнули на крышу.
Крыша провалилась, и над хатой взлетело огненное облако искр.
Внутри дома раздался страшный, нечеловеческий крик.
Ему ответил другой, на дороге. Это мать вернулась в пылающую деревню – вернулась как раз в тот миг, когда сына бросили в огонь.
Застывшими глазами смотрела она на свой горящий дом. Стояла, нагнувшись вперед, с протянутыми руками, словно рванулась навстречу смерти.
– Справедливо! Справедливо! – повторяла она медленно, все тише… и вдруг, посинев, раскинув руки, упала мертвая на землю.
Суходембъе, 12 августа 1899 г.
Однажды
I

Ранним майским утром, чуть свет, в маленьком домике, стены которого так сильно покосились, что он почти припал к земле, растворилось окошко. Среди цветущих фуксий появилась седая голова, тихий голос что-то монотонно забормотал.
Это пан Плишка читал утренние молитвы.
Город еще спал.
Тяжкая, сонная мгла навалилась на мир, и кругом стояла загадочная и тоскливая, словно набухшая слезами, предрассветная тишь.
Дома, фабрики, сады маячили в сумраке, напоминая горы неподвижно лежащих тел. Лишь кое-где по крышам, по стеклам ослепших окон, по верхушкам деревьев скользили отблески утренней зари, как улыбка человека, сладко грезящего во сне, как взор, отуманенный мечтой, как румянец тревоги перед наступающим днем, который уже подползал неслышно из неведомых пространств, уже мерцал на грани ночи и зелеными глазами печали и заботы обводил землю…
Была тишина.
Молитвы пана Плишки шелестели, как молодые листья берез, а с затерянных во мраке домов, из невидимых водосточных желобов стекали тяжелые капли росы и стучали по крыше домика, стучали монотонно, неустанно, наводя дремоту.
Пан Плишка дочитал молитвы и усердно бил себя в грудь.
– Воронок!
Из глубины темной комнаты бесшумно выбежала собака и вскочила на подоконник.
– Служи, дурачок! Становись на задние лапы! Гляди вон туда! Там – господин твоего хозяина, понимаешь?
Воронок тявкнул, стал на задние лапы, привалившись спиной к горшкам с фуксиями, и бессмысленно уставился в темноту.
– Не обманывай господа бога! Ишь, хитрец, прислоняться вздумал!..
Но Воронок, не слушая больше хозяина, выскочил во двор и уже лаял под воротами.
– Пес – так он пес и есть, неразумная тварь! – с горечью проворчал пан Плишка. Поднеся к окну часы, он очень удивился: было только четыре часа. Никогда пан Плишка не просыпался так рано.
– Заболел я, что ли? До гудка еще полтора часа!
Тихонько, чтобы не разбудить никого, лег он опять в постель и пролежал довольно долго. В соседней комнате громко храпело несколько человек, а в третьей, маленькой, кто-то часто кашлял.
«Башмаки у него дырявые, вот и кашляет!» – подумал пан Плишка и встал, так как утро уже заглядывало в окно и освещало комнату.
В просторах земных кипел бесшумный, но смертный бой мрака с победоносно шествующим днем. А пан Плишка сидел у окна, машинально перебирал четки, машинально твердил молитвы и прислушивался…
Вот под окном мелодично защебетали ласточки, как бы молясь разгоравшейся на небе заре, наступающему дню.
Земля словно потягивалась со сна, а прудки у фабрики, еще недавно напоминавшие глаза, затянутые мутными бельмами, размыкали сумрачные веки и сквозь листья склоненных над ними тополей, как сквозь ресницы, сонно смотрели в небо.
По кирпичным стенам фабрики, мокрым от росы, перебегали блики света, и оттого казалось, что стены вздрагивают, просыпаясь. Фабричные трубы стояли на страже, высоко над стадом крыш и, как журавли, вытянув длинные шеи, раскрыв красные клювы, пили свет утра.
А над длинными грязными дорогами, тропками, канавами, рельсами, над темными еще улицами стлался туман, как пар от их дыхания, и, укрытые им, они сонно потягивались, распрямляя измученные, натруженные тела в ленивом оцепенении мечты об отдыхе, о долгом, долгом сне.
Пан Плишка тоже замечтался. Перебирал четки, шептал молитвы, рассеянным взглядом обводил выступавшие из мрака дома, но ничего не видел, погруженный в свой внутренний мир, хаос каких-то медленных, смутных мыслей, мимолетных ощущений, неясных трепетов души и внезапных озарений, странных предчувствий, слов, образов, тревог. Что-то в нем шевелилось, росло, и он сам не понимал, что это с ним, только чувствовал, как его охватывает глухая тоска. О чем? Этого он не знал и не сумел бы назвать то чувство, которое ширилось в его сердце…
Так томятся деревья в иные мартовские дни, убийственные дни ненастья, холодные, мокрые и ветреные. Но деревья тоскуют по солнцу и весне, а люди о чем? Люди, как и вечно умирающие и воскресающие деревья, тоскуют и плачут о том, что было и минуло…
Пан Плишка очнулся, когда из окутывавшего двор полумрака донесся резкий и протяжный скрип.
«Это Антоний», – подумал он.
Да, это был Антоний, старый рабочий, которому когда-то при взрыве котла на фабрике выжгло глаза. Теперь он, вращая огромное колесо, накачивал воду в верхние этажи.
Сквозь утренний туман, словно за матовым стеклом, видно было, как старик автоматически нагибался и разгибался, мерными и точными движениями, подобно живому маятнику.
А колесо скрипело протяжно, не умолкала жалоба утомленного железа. Воронок яростно лаял на старую дворняжку, которая приводила слепого Антония на работу.
Пан Плишка сегодня не мог дождаться гудка.
Он вышел на кухню и стал тихонько разводить огонь под плитой.
– Что, разве уже пора вставать? – спросил голос из угла, отгороженного ширмой.
– Нет еще. Тише, пани, не разбудите малого!
Он подошел к другому углу – здесь, тоже за ширмами, спал мальчик. На столике разбросаны были книжки и тетради, а ранец и гимназический мундир валялись на полу под столом.
Пан Плишка все подобрал, привел в порядок, с улыбкой посмотрел на разрумяненное сном лицо мальчика и, взяв его башмаки, пошел их чистить – он чистил их обычно на дворе перед домом, чтобы никого не будить. Башмаки были совсем худые, убогие детские башмаки, все в ранах, швах и заплатах, – трогающие сердце башмаки нищеты, без подметок, передков и каблуков, но с задорно торчащими целыми ушками. Пан Плишка всегда чинил их и чистил любовно, улыбаясь удивительно ласковой улыбкой, делавшей его похожим на доброго старого пса.
День уже подходил большими шагами, окна четвертых этажей зарозовели, окна в третьих были белые, во вторых – серые, словно сотканные из ледяного тумана, а в первых этажах они сверкали холодным суровым блеском полированного базальта.
«Надо будет купить ему новые башмаки», – подумал пан Плишка и вдруг сильно вздрогнул, потому что в эту минуту хриплый, пронзительный вой фабричного гудка прорезал тишину.
В большой комнате началась шумная суета. Четыре фигуры поднялись с коек. Это жильцы вставали и поспешно собирались на работу.
«Что-то со мной неладно», – размышлял пан Плишка по дороге на фабрику и все ускорял шаг, так как из трубы котельной уже вырывалось красное пламя, а в нижних помещениях окна ярко сияли.
Он занял свое место в подъемной машине и, зажав в руках стальной трос, ожидал сигнала.
В цехах было еще тихо. Нижние были залиты электрическим светом, верхние – освещены только бледными лучами зари, и в ее свете смутно рисовались мощные корпуса машин, напоминавшие стадо огромных зверей, лежащих как будто неподвижно, но уже подобравшихся для прыжка. Приводные ремни висели, как вырванные из тела жилы, как бессильно опущенные во сне руки.
Рабочие входили торопливо, здоровались друг с другом молча, кивком головы, окидывали тупым взглядом цех и бесшумно, с какой-то боязливой покорностью прилипали к машинам. Там и сям среди этих огромных железных скелетов шелестели слова недочитанной по дороге молитвы или слышался тихий разговор. Иногда чей-нибудь встревоженный голос звучал громче, но тотчас же затихал, и лишь утомленные глаза людей устремлялись к окнам, за которыми зеленели деревья, видны были поля, покрытые молодыми всходами, далекий лес… туда, где было солнце, воздух, тепло, вольная доля.
Но вот заревел гудок – сигнал приниматься за работу.
Люди машинально выпрямились, машины дрогнули, и поток огромной, страшной силы разлился по всей фабрике. Сжались и напряглись ремни, содрогнулись зубчатые колеса, ожили железные чудовища, задрожали стены, люди согнули спины.
Первый напор… Словно ураган ударил в неподвижные машины. Минутное колебание… тихий стон сопротивления… тяжелое, натужное, похожее на хрип, дыхание машин и людей… мгновение безмолвной страшной борьбы… И вот внезапно, сотрясая стены, дико завыли побежденные, пущенные в ход машины.
– Подъемник! В четвертый! – унылым эхом загудел голос в глубоком, темном четырехъярусном колодце, где работал пан Плишка на своей подъемной машине.
Он потянул канат и поплыл вверх медленно, беззвучно, как чудовищный паук по растянутой им паутине.
– Подавай в красильный!
И он снова спускался вниз в темноте; только сквозь четырехугольные отверстия в стенах мелькали перед ним, как в калейдоскопе, этажи, цеха, люди, машины, окна, груды готовых изделий. Подъемник прошел мимо сушильни, залитой розовым светом утра, и пана Плишку овеяло ужасно сухим и горячим воздухом, ударил в уши глухой, тревожащий гул машин, заключенных в металлические коробки; вот промелькнул отделочный цех, где воздух насыщен запахом соды, серого мыла, разогретых красок, хлором, влажными и жаркими испарениями прессуемых тканей; потом третий этаж в сероватом, словно мокром, дневном свете. Подъемник проходил через стригальное отделение, где в призрачном белесом тумане бумажной пыли холодно поблескивали длинные изогнутые острия стригущих машин, а люди маячили среди этой снежной метели, как бредовые видения фабрики, метавшейся в горячке непрерывного труда.
Дальше, ниже – промывочный цех. Лифт проходит сквозь чащу тесно сдвинутых, шумных станков, сквозь сеть передаточных и приводных ремней, которые тысячами рук, подобно страшным спрутам, охватывают все и сжимают, спускаются с потолков, проникают сквозь этажи, стены и дворы и неутомимо бросаются на валы, колеса, обвиваются вокруг них, скользят вверх и вниз, пугая своей неуемной, дикой силой, и наполняют фабрику тихим, но жутким криком торжества.
Отсюда – еще ниже, на самое дно фабрики, туда, где уже нет ни дня, ни ночи, – в красильный цех, где от огней газовых горелок в тумане разноцветных паров расходятся радужные круги света, где вечно, монотонно шумит и плещется вода, где стоит едкий запах кипящих химических составов, и стук машин, и хаос криков, движений, тусклых красок, где люди и машины изнемогают в судороге чудовищных усилий.
– Подавай! – гремел крик сверху, и пан Плишка тянул канат и поднимался. Он проезжал опять все четыре этажа, забирая по пути людей, товары, вагонетки, останавливался на минуту перед отверстиями, через которые подъемная машина сообщалась с цехами, погружался в ночной мрак, переходил из ночи в сумерки, в рассвет и на верхних этажах окунался в яркий дневной свет. Через окна сушильни он видел солнце и темную линию далекого леса, потом, спускаясь ниже, видел молодую листву тополей, и еще ниже – покрытые туманом пруды. А там его снова поглощала ночь, и во мгле нижних цехов маяками качались машины, а он ехал дальше, всегда одинаково медленно, бесшумно, автоматически…
Так пан Плишка ездил уже лет двадцать. Он никогда не хворал, ни разу не брал отпуска.
Он был старейшей машиной на фабрике, только машиной, ибо постепенно забывал о себе, о собственной жизни и по временам даже не помнил уже, кем был когда-то, где родился. Он уже не мог ни о чем ни думать, ни мечтать и, когда по вечерам сидел у себя в комнате, впадал в странное состояние. Он словно видел перед собой машины и ощущал в себе все движение фабрики. Через него как бы проходили бесконечные приводные ремни, тускло сияли всевозможные краски, вращались колеса, сверкая стальным блеском. Он слышал внутри себя грохот машин, его обволакивал густой туман приглушенных голосов, и, как бледные тени, забытые тени, мелькали силуэты людей. Все это проходило перед ним так явственно, ощущалось так живо, что не раз он боялся шевельнуться, чтобы не быть раздавленным этими ворочавшимися в нем чудовищами.
Постепенно пан Плишка так втянулся в жизнь фабрики, что жил только ею, понимал и ощущал только жизнь машин, только о них думал, думал с безмерной любовью и беспокойством. Что ему было до людей, которые, как волна, проплывали через фабрику и бледными призраками суетились около колоссов-машин, подстерегая каждое их движение. Люди служили этим машинам, как верные собаки, зависели от них, жили только по милости этих могучих, бессмертных владык, страшных своей мудростью и силой.
Пан Плишка презрительно усмехался, глядя на согбенные спины, изможденные, мертвенно-бледные лица, мозолистые руки… Чем были они, эти люди, перед мощными машинами с блестящими стальными телами? Жалкими, бренными существами, ничтожными пылинками.
За двадцать лет пан Плишка перевидал десятки тысяч этих несчастных людишек, выжатых фабрикой, как лимон, и выброшенных вон. Они исчезли, а фабрика жила, машины стояли. И только машины занимали место в жизни Плишки. О них он думал, перед ними благоговел, а людей презирал. И все больше врастал в жизнь фабрики.
Он замечал, что прошла еще неделя, только когда наступало воскресенье и он отправлялся в гости к своему капитану. И еще он знал, что, если в сушильню на четвертом этаже по утрам заглядывает солнце, значит пришла весна, а если солнце в отделочном цехе – значит уже лето. О приходе зимы он узнавал по снегу и еще по тому, что в стригальном цехе газовые рожки горели до полудня.
В сущности его ничто не интересовало. Он был и добр, и отзывчив, но это была пассивная доброта автомата, без участия воли и сознания.
Таков был пан Плишка до сегодняшнего дня. Но сегодня с ним творилось что-то непонятное.
Начать хотя бы с того, что он проснулся так рано! А перед самым перерывом на завтрак он поднялся на четвертый этаж только затем, чтобы, прильнув к решетке, отделявшей его колодец от мастерских, смотреть в окно, на небо, по которому плыли розоватые облачка, удивительно похожие на растрепанные мотки бумажной пряжи… Когда же гудок возвестил час завтрака, он спустился вниз, вышел во двор, на солнышко, и невольно подсел поближе к другим рабочим.
Его уже поджидал Антось с жестянкой горячего кофе.
Пан Плишка выпил кофе без всякого удовольствия: ему сегодня что-то не хотелось ни есть, ни пить. Хлеб он раскрошил и бросил стайке воробьев, которые всегда слетались к завтракавшим во дворе рабочим.
– Идешь в школу, Антось? – каким-то неуверенным тоном спросил пан Плишка у мальчика.
– Да, сейчас. Вот только снесу домой жестянку и пойду.
– Трудно тебе, небось, целый день учиться, а, Антось?
– Трудно? Нет, ничуть, – возразил мальчик медленно, засмотревшись на золотые солнечные блики, игравшие на поверхности пруда.
– В самом деле? – недоверчиво протянул пан Плишка.
Помолчали. Антось все смотрел на пруд, где солнце, проникая сквозь сень росших вокруг деревьев, купало в воде золотые косы. А пан Плишка смотрел на желтое, худое лицо мальчика, на его воспаленные веки, дырявые башмаки. Потом, тяжело вздохнув, отвел глаза и стал прислушиваться к тихой беседе рабочих, которые, сидя на деревянных настилах вокруг прудков, грелись на солнце…
– А знаете, пан Плишка, мы с мамой на Троицу поедем в деревню!
– В деревню? Зачем? – ужасно удивился пан Плишка.
– Как зачем? Отдохнуть на свежем воздухе… ну, и потом…
– Да что там хорошего, в деревне? Сидел бы лучше дома и занимался… Только башмаки трепать…
Антось, сердито посмотрев на него, взял жестянку и ушел.
Пан Плишка закурил трубку и медленно выпускал дым.
– Ага, значит, башмаки ему надо будет купить не сейчас, а когда вернется из деревни… Там он их изодрал бы в два дня. И чего они не видали в деревне? Глупые!..
Гудок уже звал на работу, и пан Плишка поспешно вытряхнул золу из трубки.
Долго думать о деревне не пришлось, потому что опять сверху и снизу полетели крики:
– Подъемник, в сушилку!
– Подавай в отделочный!
– Эй! В красильный!
И пан Плишка поднимался, спускался, возил, останавливался, забирал и выгружал, но делал это как-то рассеянно, потому что в мозгу у него гвоздем засел вопрос: зачем они едут в деревню?