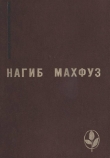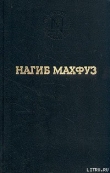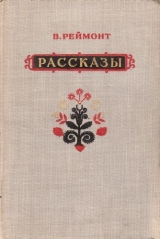
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Владислав Реймонт
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
– Выпьем за ваше здоровье! – решительно сказал Ясек.
Дед стал пить прямо из бутылки, и у него долго булькало в горле. Потом протянул бутылку Ясеку и сказал весело:
– Пей, сирота! И если хочешь душу спасти, вот тебе от меня три наказа: всю неделю работай, в воскресенье молись, беднякам помогай. И еще я тебе скажу, человече: не можешь пить рюмочками, валяй из бутылки!..
Затихло все. Женщина спала, свесив голову, у догоревшего огня, старик, хоть и таращил затянутые бельмами глаза на красные уголья, но все больше и больше клевал носом. Смолк и шопот в дальнем углу корчмы, и только ветер все сильнее стучал в окна и тряс дверь, да из-за перегородки порой доносились заунывные моления, проникнутые безнадежной скорбью.
Тепло и водка совсем разморили Ясека, его так клонило ко сну, что он уже вытянул ноги поудобнее и испытывал непреодолимое желание прилечь на полу у огня. Остатки настороженности и страха еще боролись в нем с усталостью, но с каждой минутой он все больше впадал в сонное оцепенение и ни о чем уже не помнил. Блаженное забытье, полное тепла, блеска огня, чьих-то добрых слов, покоя и тишины, баюкало его, туманило сознание, наполняло чувством довольства и безопасности.
По временам он просыпался вдруг, неизвестно отчего, окидывал взглядом корчму и с минуту вслушивался в бормотанье дремавшего деда.
– Ко всем душенькам человеческим, что томятся в чистилище, будь милостива, Мария… Скажу тебе, человече, что нужно нищему старцу: клюка, сума широкая да еще долгая молитва…
Дед окончательно проснулся и, каким-то чутьем угадав, что Ясек смотрит на него, заговорил уже связно и бодро:
– Слушаешь старика? Ну, ну, тогда выпей еще за мое здоровье и слушай дальше. Вот что я тебе скажу, человече: будь умен, но никому умом своим в глаза не тычь! Все умей видеть – но ко всему будь слеп. Живешь с дураком – так будь еще глупее его… с хромым рядом шагай так, словно у тебя и вовсе ног нету… с больным приведется жить – помирай за него… Дадут грошик – благодари, как за злотый… А натравят на тебя собак – стерпи. Палкой отдубасят – богу только жалуйся.
Верь мне, человече: делай, как я тебя учу, так будет у тебя и торба всегда полным-полна, и брюхо отрастишь, и будешь всех на веревочке водить, как глупого теленка… Хе! Хе! Хе! Не со вчерашнего дня я на свете живу, так всего насмотрелся, кое-что смекаю!.. У кого смекалка есть, тот не худо может прожить! К помещику в усадьбу придешь – ругай мужиков: наверняка дадут грош и объедки с панского стола. У ксендза брани и мужиков и помещиков – верных два гроша и отпущение грехов. А в мужицких хатах проклинай все начальство – и будешь есть сало и пить водку… Так-то, хлопец…
…За душу Юлины… Дева Мария, радуйся! – зашептал он уже бессознательно, сонным голосом, качаясь на лавке.
– Радуйся, благодатная. Помогите бедному калеке! – пробормотала в полусне и женщина, поднимая голову.
– Тише, дура! – вдруг прикрикнул на нее дед, сразу очнувшись, так как входная дверь громко заскрипела, и вошел высокий рыжий еврей.
– Ну, люди, в путь! Время! – сказал он глухо, и спавшие в углу тотчас вскочили, принялись одеваться и взваливать на спину узлы. Они собирались кучками и то растерянно толклись посреди избы, то отходили опять в угол. Все тихо и тревожно переговаривались, и в голосах слышалась не то грусть, не то ропот. Торопливые оклики, взволнованный шопот, брань, слова молитвы, которую твердили вполголоса, плач детей, топот, весь этот приглушенный, словно с трудом сдерживаемый шум создавал в мрачной и темной корчме атмосферу зловещих предчувствий и страха.
Ясек проснулся и, прижавшись спиной к остывшей печи, с любопытством наблюдал за суетившимися людьми, насколько можно было разглядеть их в темноте.
– Куда они собрались? – осведомился он у деда.
– В Бразилию.
– Далеко это?
– Ого! На краю света, за десятью морями.
– Зачем же они туда едут? – еще тише спросил Ясек.
– Первое – по дурости. А второе – нужда заела!
– А дорогу-то они знают? – все допытывался пораженный Ясек.
Но дед уже не отвечал. Растолкав клюкой свою поводырку, он вышел на середину избы, стал на колени и затянул плаксиво и певуче:
– За море отправляетесь, за леса и горы… на край света. Благослови вас Иисус, люди добрые! Помоги вам божья матерь ченстоховская и все святые за тот грош, что подадите бедному калеке… Пресвятая дева Мария, радуйся воскресению сына твоего!
– «…Милосердие твое безгранично», – скороговоркой подхватила молитву спутница слепого, опускаясь рядом с ним на колени.
– «Благословенна ты среди женщин!» – хором затянула вся толпа, выступая из углов.
Все стали на колени, набожно потупив головы. Раздавались тихие всхлипывания. Люди молились с горячей верой и смирением. Жаркое дыхание надежды оживило потухшие глаза и серые изнуренные лица, выпрямило сгорбленные спины и так ободрило этих людей, что они поднимались с колен уже сильными и полными решимости.
– Гершлик! Герш! – звали они корчмаря, который скрылся за перегородкой.
Им уже не терпелось отправиться в путь, в далекий мир, неведомый и оттого такой пугающий и манящий. Хотелось поскорее бежать от старой доли и лицом к лицу встретиться с новой.
Вышел Герш с фонарем. Все расплатились, затем он велел им выходить попарно, открыл дверь, и они двинулись – призрачная армия нищеты, шествие теней, закутанных в лохмотья, согбенных под тяжестью этого «завтра», навстречу которому они шли с великой надеждой…
И сразу скрылись в темноте под дождем. Только фонарь проводника блеснул на миг впереди среди качавшихся деревьев да сквозь шум леса и завыванье ветра из мрака этой жуткой ночи долетал скорбный, полный слезной мольбы и тревоги гимн: «Кто под твою защиту прибегает, господи». Слова гимна звучали, как стоны умирающего.
– Бедные! – шепнул Ясек, глядя им вслед, и дикая тоска сжала его наболевшее сердце.
Он вернулся в затихшую корчму, где было уже совсем темно, так как девка потушила лампу и ушла спать. В комнате за перегородкой утихли певучие голоса молящихся. Только слепой нищий не спал: он вместе с женщиной подсчитывал собранную милостыню.
– Невелик доход! Всего-то-навсего два злотых и двадцать пять грошей!.. Гм… Ну, ладно, пусть господь не зачтет им это и поможет им…
Он еще что-то говорил, но Ясек уже не слышал. Привалившись к остывшей печке, он кое-как укрылся подсохшим кафтаном и заснул, как убитый.
Было уже далеко за полночь, когда его разбудил свет фонаря, который бил прямо в глаза, и расталкивавшая его сильная рука.
– Эй! Вставай, брат! Ты кто таков? Паспорт есть?
Ясек моментально пришел в себя. Перед ним стояли два стражника.
– Паспорт у тебя есть? – спросил опять один из них, встряхнув его, как сноп.
Ясек, не отвечая, вскочил и треснул его кулаком в переносицу с такой силой, что стражник выронил фонарь и упад навзничь, а Ясек ринулся к двери и выбежал из корчмы. Второй стражник погнался за ним и, видя, что не догонит, выстрелил.
Ясек пошатнулся, вскрикнул и упал в грязь, но тотчас вскочил и скрылся во мраке леса.
II
Он мчался, как шальной, больно ударяясь о деревья, не чувствуя, что кусты царапают ему лицо, падал, поднимался и опять бежал, гонимый страхом. Ему чудилось, что погоня совсем близко, что его уже хватают за плечи и он слышит позади тяжелое прерывистое дыхание… Он напрягал последние силы и летел, как вихрь, пока, наконец, не свалился, смертельно измученный, заполз в кусты и долго лежал в полуобморочном состоянии.
Очнулся он от жестокой боли в боку. Приподнялся немного и со страхом, глазами загнанного зверя всматривался в темноту. Кругом ни души… Он не мог понять, где находится. Везде, куда ни глянь, качался и гудел угрюмый бор, теснилась густая молодая поросль.
Ясек едва дополз до ближайшего дерева и с воплем упал на землю – так страшно у него заболело в боку. Согнулся чуть не пополам и стонал сквозь стиснутые зубы. Боль издевалась над ним, расходясь от раны в боку по всему телу, впиваясь в каждый нерв острыми, бесконечно длинными и жгучими иглами. Он сорвал пучок мха и заткнул им рану, чтобы остановить кровь, которая теплым ручейком текла по бедру и ноге, – он ее чувствовал даже в сапоге.
Каждую минуту ему от слабости делалось дурно, и он сидел, ничего не сознавая. Потом, очнувшись, смотрел потухшими глазами в ночную мглу и бормотал сквозь слезы:
– Иисусе! Мария!
Скоро он уже и боль перестал ощущать, постепенно погружаясь в состояние полного бесчувствия и коченея от пронизывающего холода и непрерывно моросившего дождя.
А лес все шумел, и казалось, что это тьма вокруг бормочет сурово и зловеще.
Ночь тянулась медленно, ужасно медленно.
Ясек, выросший в здешних местах, раньше чувствовал себя в лесу, как дома, и ничего не боялся. Но сейчас, еле живой, он с суеверным ужасом смотрел на высокие деревья, похожие в темноте на привидения, и его постепенно охватывало невыразимое смятение.
Страх и отчаяние так сильно сжимали сердце, что ему казалось – это подходит смерть.
Он сидел неподвижно, боялся даже веками шевельнуть, глянуть в сторону, прошептать спасительное слово «Иисус». Вокруг все было так таинственно, и, казалось, этот жуткий мрак проникает в него, обволакивает все внутри, убивает в нем жизнь… А лес все о чем-то говорил сам с собой, вздыхал, по временам уныло гудел. Он склонялся над человеком, как будто всматриваясь, потом грозно выпрямлялся и снова наклонялся, все ниже и ниже, так близко, что Ясек ощущал на лице его ледяное дыхание. И чудилось ему, что сучья дубов, острые, как когти, тянутся к нему в темноте, ищут его… вот сейчас эти когти начнут разрывать его в клочья!
И он с немым воплем ужаса падал, теряя сознание. В горячечном бреду проходили перед ним мучительно яркие отрывочные картины недавнего прошлого… жизни в тюрьме… Вот он идет по тюремному коридору. Да, опять он в тюрьме! Оглядываясь по сторонам, он видит ряды бритых голов, низко склоненных над станками. Станки стучат, стучат без передышки.
– Ясек! Ясек!
Он вздрогнул. Кто-то тихо зовет его, но он не может угадать кто, потому что, боясь стоящих у дверей надзирателей, арестанты не смеют поднять глаз. Нет, должно быть, он ослышался!
Он смотрит в широкое окно – на верхушки деревьев, в необъятное небо, на далекие-далекие очертания гор. Опять вздрогнул. А, это звонок на обед! Потом будет звонок на ужин, вечером – звонок, возвещающий, что надо ложиться спать. Лязг кандалов, суровые лица часовых, блеск штыков. Его всегда в дрожь бросало при взгляде на них. Вот звучит команда… он не расслышал, что они кричат.
Ох, а эти ночи, страшные ночи в огромном помещении, бывшей монастырской трапезной! Ночи, когда подкрадывалась тоска и высасывала всю кровь, все силы, все слезы. Зимние ночи, морозные и белые от лунного света… Он не мог уснуть и молился про себя, глядя на лики святых, еще сохранившиеся на стенах.
Цепь воспоминаний обрывается. Он видит теперь свое бегство, четырехдневные скитания по лесу… Потом – пшиленская корчма… Слепой нищий… Крестьяне, уезжающие в Бразилию… Стражники… Выстрел.
Ясек очнулся. Боли он уже не чувствовал, но было ужасно холодно. Он съежился, прижался к дереву и ждал рассвета, а внутри тоска уже подняла колючую голову и грызла немилосердно.
Он бежал из тюрьмы домой. В свою деревню. На волю.
И все это там, за этим лесом, который сводит его с ума бесовскими наваждениями и загородил ему дорогу. Там – дом, мать, там спокойная, тихая жизнь и то великое счастье, которое он оценил только тогда, когда очутился за тюремной решеткой.
– «Туда! Туда!» – кричала его тоскующая душа так громко, так настойчиво, что он уже встал было, хотел итти, но снова сел, потому что не знал, где находится. Он заблудился, когда, как бешеный, не разбирая дороги, бежал от стражника. Нужно было дождаться утра.
Ясеку ни на миг не приходило в голову, что его ведь могут схватить и в материнской хате и опять отправить в тюрьму. Одно он знал – что там, в родной деревне, все его счастье, и туда он хотел вернуться во что бы то ни стало. Ему казалось, что, когда он туда доберется, кончатся навсегда все его страдания и злоключения. Ведь он не считал себя виновным. И в том, что его посадили в тюрьму, видел не волю справедливо карающего закона, а просто злобную месть управляющего, которого он слегка пырнул вилами.
«Погоди ты, чума аглицкая, я с тобой еще расправлюсь! Прикончу тебя, изверга!» – думал он, вспоминая ненавистного притеснителя.
В голове рождались тысячи планов мести, но быстро улетучивались, и он все чаще впадал в забытье. Он боролся с дремотой изо всех сил, но в конце концов, уже перед рассветом, заснул мертвым сном.
Он спал, несмотря на дождь, промочивший на нем все до нитки, несмотря на резкий холод мартовской ночи; примостился между выступающими корнями дуба, голову прислонил к его мощному стволу и спал.
Лес притих, как всегда перед утром. Склонившись над спящим, он как будто стоял на страже, укрывая его от дождя. Тьма понемногу редела, светлела. Вокруг разливался серый рассвет и будил птиц и зверей.
Из-под мощных ветвей елей-великанов вылетела стая ворон. С минуту они кружили высоко в воздухе, потом полетели к деревне искать корма.
Было еще темно. Только восток уже белел, и на этом призрачно-бледном фоне вырисовывались верхушки леса, напоминая очертания гор. А внизу, под деревьями, лежал густой мрак.
Ветер совсем утих, ели стояли неподвижно, в полном изнеможении опустив мокрые ветви и словно погружаясь в глубокий сон. Величием дремлющей силы веяло от них.
Лишь по временам какая-нибудь ветка, встрепенувшись во сне, стряхивала с себя дождевые капли, тянулась к посветлевшему небу, но снова впадала в тихое забытье. Иногда какой-нибудь могучий ствол едва уловимо дрожал, словно поеживаясь от холода, и, расправляя ветви, клонил вершину в сторону еще далекого солнца, блаженно отдыхая от ночных тревог.
В воздухе изредка возникал резкий звук – казалось, лес глубоко вздыхает во сне или вскрикивает, мучимый кошмаром. Но звук растворялся в воздухе, и снова наступала тишина.
Лишь тоненькие деревца, жавшиеся к стволам спящих великанов, молодая поросль орешника, осины, берез и грабов, тревожно перешептывались, теснясь друг к другу.
Можжевельник стоял неподвижно и гордо: покрытый броней твердых зеленых игл, по которым дождевые капли сплывали, не задерживаясь, он страдал от непогод меньше других. Зато длинные кудрявые побеги дикой малины цеплялись завитками за деревья, лезли на камни, оплетали муравейники, словно в отчаянии убегали, куда придется, от дождя, который мочил их нежную зелень и по тонким веткам стекал крупными каплями до самых корней.
Сосны нервно дрожали, а ели стояли неподвижно, словно каменные, укрытые пышным веером ветвей.
Рассвет серыми заплаканными глазами заглядывал все ниже, все дальше в глубь леса и пронизывал его зеленоватым дрожащим светом.
Лес затрепетал под его взором, но все еще спал.
Необозримые ряды деревьев-великанов, подобные колоннам в древней готической церкви, начинали выступать из мрака, а меж ветвей, как сквозь затканные паутиной стрельчатые окна, пробивались лучи зари, все светлея, все розовея. Они ползали по серым стволам, сверкали в дождевых каплях и, спускаясь все ниже, искрами осыпали землю, порыжелый мох, прошлогодние листья, дрожащие кусты. Они слабо осветили и лицо Ясека, который спал, прижавшись к корням дуба.
Тишину нарушил треск сучьев, и через минуту из густых зарослей кустарника вынырнули большие тела лосей. Лоси шли осторожно, вытянув вперед головы, ежеминутно останавливаясь и нюхая воздух. Почуяв Ясека, они сбились в кучу и остановились как вкопанные. Обнюхали спящего, но, когда Ясек вдруг что-то буркнул сквозь сон, внезапно шарахнулись назад и, закинув рога, умчались.
Понемногу в лесу пробуждалась жизнь. Сороки неистово перебранивались на лиственницах. Повиснув на их гибких ветвях, они качались вместе с ними и все время так кричали, что по всему лесу гудело эхо. Вылез из-под куста разбуженный ими заяц, присел, протер лапками глаза и стремглав ускакал в чащу. Крадучись, пробежала лиса, опустив хвост и обнюхивая все вытянутым вперед носом. Скользя среди зелени, как зловещая тень, она всех пугала. Птицы, крича, спасались от нее на деревья, белка, как бешеная, запрыгала по верхушкам, ветвям, сучьям, – она была повсюду и не была нигде, ее легкое серовато-рыжее тельце молнией мелькало среди листьев. А высоко над лесом тянулась длинная вереница галок, слышен был шум крыльев и отрывистые резкие крики. Стадом шли серны к журчавшему по камням роднику. Они так бесшумно пробирались меж деревьев, так легко ступали, что ни малейший шорох не нарушал безмолвия спящего леса, только чуть-чуть качались ветки орешника, когда они проходили под ним.
Лес все спал, хотя солнце уже вставало на горизонте, и его холодные алые лучи скользили по верхушкам, обрызгивали серые стволы, тончайшим, едва уловимым звоном звенели под зелеными сводами.
Когда Ясек проснулся, было уже совсем светло, и солнце заглядывало в лес сверху. Он вскочил, но пошатнулся и упал. В груди так закололо, что он не мог перевести дыхания, не мог шевельнуться. Все кости ломило, он чувствовал себя больным, разбитым. Попробовал было ползти на четвереньках, но не мог – нехватало сил.
– О господи, господи! – бормотал он в отчаянии.
Слезы заливали глаза и горохом сыпались по серым запавшим щекам. Он весь дрожал от мучительного сознания своего бессилия и заброшенности.
– Видно, помирать придется… Помру тут один! – простонал он тихо, и такой страх смерти напал на него, такая страшная тоска по людям, по близким, по жизни, что он собрал последние силы и пошел.
Скоро он сообразил, где он и в какую сторону надо итти. И хотя каждую минуту присаживался отдохнуть, хватался за стволы, а иногда падал без сил, ушибая и без того болевшее тело, он снова и снова вставал и тащился дальше.
– Только бы не помереть здесь! Только бы не помереть! – твердил он себе.
Когда колотье в груди немного утихло, а бок совсем перестал болеть, словно закостенев от холода, Ясек зашагал быстрее. Он снял шапку и запекшимися губами стал во весь голос читать молитву. Просил бога сжалиться над ним.
Еще до полудня он вышел на опушку леса, к полям, которые огромной круглой долиной раскинулись меж лесистыми холмами.
– Пшиленк! Господи! Пшиленк! – вскрикнул Ясек, не помня себя от восторга. Он присел под деревом и горящими глазами обводил эти знакомые, родные места.
– Наша деревня! Пшиленк! Пшиленк! – повторял он сто раз, упиваясь звуком этого имени, видом полей. Он весь трясся, выкрикивал какие-то бессвязные слова, протягивал руки к длинному ряду хат среди долины, пожирал глазами тополя, между которыми мелькали соломенные крыши, и струйки дыма, что вились над этими крышами, и мокрые дороги, и луга за деревней.
Воспаленными, усталыми, но счастливыми глазами, светлыми, как это утреннее небо, он блуждал по голым, почерневшим, раскисшим полям. В бороздах еще лежал снег, на выгонах и в канавах отполированной стальной лентой блестела вода. Чернели на межах старые корявые груши, похожие на присевших отдохнуть измученных птиц. А там, высоко на горе, за деревней сверкал на солнце золотой крест костела и виднелись потрескавшиеся стены монастыря. В стороне от них, над рекой, раскинулся господский парк, и окна дома сверкали, как полированные щиты. Блестели пруды в парке, искрилась вода в реке под веселыми, яркими лучами солнца, висевшего на бледном небе над самой деревней. А там, ниже, у речки, была и его, Ясека, хата.
– Иисусе! Я ксендзу на молебен дам и в Ченстохов схожу! Мария, мать пресвятая! – шептал он в порыве невыразимого счастья и волнения. Все было забыто: суд, бегство, рана, пережитые страдания. Перед глазами была родная деревня, и его всего переполняла опьяняющая, бурная радость. Со слезами умиления он благодарил бога.
Днем Ясек побоялся итти к матери напрямик, деревней, или даже обходным путем мимо монастыря. Надо было дождаться вечера. Он вернулся в лес, на поляну, где стояли высокие стога, зарылся глубоко в сено и тут лежал, пока не стемнело.
Перед закатом погода совсем прояснилась, слегка подмораживало. Холодный редкий туман окутал поля, и, когда зашло солнце, небо покрылось багряной чешуей, а местами на нем стояли лужицы крови. Грязь на дорогах быстро подмерзла и стала скользкой, как ремень. В свежем морозном воздухе остро пахло прелыми дубовыми листьями, иногда тянуло дымом из деревни.
Ясек шел домой прямой дорогой, через поля.
Каждую минуту он останавливался и отдыхал, сидя на меже или укрывшись под деревьями. Потом шагал дальше, все медленнее, и присматривался к каждой полоске, к каждому загону.
– Это Войтека, – бормотал он, нагибаясь к земле и поглаживая ее пальцами.
Он ни на что не глядел, ничего не видел, кроме этих полей, длинных загонов, покрытых черновато-зеленой озимью и кое-где изрезанных бороздами, полными снега.
Гасла на небе кровавая вечерняя заря, но отблески ее еще горели в лужах. Мокрое, истоптанное жнивье жалкими лохмотьями прикрывало голые поля. Поднятая осенью целина топорщилась пластами, посеребренными инеем. Там и сям разбросаны были лужки клевера, как зеленые ветхие бабьи платки, покрытые пятнами гнили.
Но Ясек приветствовал все это с восторгом, готов был кричать от радости.
Он чувствовал себя таким же опустошенным, как эти печальные поля, он был такой же ободранный, жалкий, исхлестанный дождем, как они, и в тысячу раз беззащитнее их. С какой-то необузданной нежностью припадал он к этой земле, словно отдавался в ее власть, словно хотел от нее набраться сил, терпения, стойкости. Становилось темнее, и он все ниже нагибался к загонам.
– Это Михала полоска. Пшеница, ого! – удивленно шептал он, трогая стебельки.
Темнело быстро, закат совсем побледнел, и синеватое небо покрылось уже росою звезд. Туман рассеялся, воздух был чист и прозрачен, так как мороз к вечеру усилился. В этом прозрачном воздухе леса, черной высокой рамой окружавшие долину, были хорошо видны и, казалось, придвинулись ближе.
До деревни было еще с полверсты. Ясек прошел капустник, изрезанный глубокими канавками, полными снега, потом болотистые лужки, залитые водой, под которой чувствовался еще крепкий лед.
Деревню было уже слышно. Блеяли овцы, часто доносилось мычание телят, ржали где-то лошади и скрипели ворота. Защекотал ноздри запах дыма. Тут и там среди деревьев, плетней, сараев уже мигали огоньки… Прозвенела в воздухе песня, но ее тотчас заглушил грохот телеги, которая галопом неслась по деревне. На ближнем дворе неистово гоготали гуси и кто-то орал во все горло:
– Петрик! Петрик!
Этот голос ударил Ясека как обухом по голове, парень даже зашатался.
Он шел теперь по деревне задами, тропкой, которая пролегала за оврагами.
Мать жила на другом конце деревни, за рекой, под монастырской горкой.
– Новую крышу поставил, – говорил Ясек сам с собой, оглядывая чью-то избу.
– А Вавжон, видно, погорел! – Он остановился на мгновенье, соболезнующе глядя на черную дымовую трубу, одиноко торчавшую посреди сожженного сада.
– Смотри-ка! Новую хату солтыс себе выстроил… Чужим горбом! – добавил он мысленно и зашагал дальше.
Он шел все медленнее, потому что опять заболел бок и к тому же шум деревенской жизни так радостно волновал его, что каждая жилка, каждый нерв в нем дрожали. Он готов был упасть на землю и благоговейно целовать ее, стать на колени перед каждым домиком, каждым садом, каждым сараем, молиться каждому камню, тополям, стерегущим хаты, огонькам в окнах, всей деревне, родной и любимой… Обессиленный этим огромным счастьем, он уже еле брел, в полубеспамятстве, как умирающий, собирая последние остатки жизни, чтобы только дотащиться до своего дома, – а там хотя бы лечь и умереть сейчас на пороге!
Он не помнил, как и когда дошел до материнской хаты. Открыть дверь нехватило сил, он упал на пороге и заплакал громко, отчаянно…