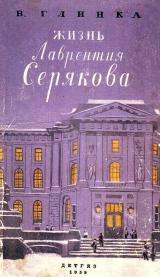
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
Несколько раз Лаврентий жестоко порезался, когда нож соскальзывал с дощечки. Делал перевязку, обдумывал более правильное положение пальцев при работе и продолжал дальше.
Марфу Емельяновну тревожила эта окровавленная повязка и, пожалуй, еще больше тот азарт, с которым предался он новому занятию, засиживаясь до полуночи. А ведь спать-то когда же? Изведется совсем. Но на ее робкие замечания Лаврентий отмалчивался и, вскакивая в четыре часа, бодро брался за метлу, потом, перед уходом в департамент, пошучивая, бинтовал руку чистой тряпочкой, а возвратившись и наскоро пообедав, вновь садился за свои дощечки.
Каждую готовую работу он тщательно мазал тушью и по многу раз оттискивал на бумаге, чтоб, рассмотрев самому, показать с некоторым торжеством матушке. Она видела, что получаются занятные картинки, и вправду похожие на те, что печатают в книжках. Радовалась удовольствию, которое эта работа доставляла Лавреше, поверила, когда сказал, что за такие дощечки, может, когда-нибудь станут платить больше, чем за переписку. Но все же очень хотела бы слышать чье-нибудь постороннее мнение, прежде всего Антонова, которого уважала за трезвую рассудительность. Что она, малограмотная, понимает? А он человек бывалый, столичный, всякого насмотрелся.
Но, когда заикнулась об этом сыну, он попросил, чтоб подождала говорить Антонову еще с неделю, пока не кончит. Перед приходом своего друга, утром, в воскресенье, Лаврентий тщательно убрал все рисунки и доски, а на вопрос гостя о руке соврал, не сморгнув, что, мол, порезался, обстругивая наметельник.
В субботу, через две недели после начала работы, Серяков сходил в типографию Главного штаба и, набравшись смелости, попросил оттиснуть прессом на хорошей бумаге свои картинки. Получилось так красиво, что и по дороге и дома вместе с матушкой он не мог на них насмотреться. А на другой день они оба едва дождались Антонова.
Старый писарь внимательно все выслушал, сравнил оттиски с листком из иностранной книги и решительно похвалил работу Серякова:
– Занятие отличное, и у тебя пойдет, как ты рисовать мастер. Вот буду на днях у Крашенинникова, попрошу – пусть-ка рекомендует тем, кто к книжкам картинки заказывает.
– А кто ж таков Крашенинников? – спросила Марфа Емельяновна.
– Давний знакомец мой, еще у Ивана Андреевича Крылова, царство небесное покойному, часто его встречал. Он Крылову книги откуда-то нашивал, а теперь старшим приказчиком в лавке у Смирдина служит. У него, поди, писателей много знакомых.
– Так вы думаете, Архип Антоныч, не зря Лавреша ночами сидит?
– По мне, пускай сидит, коли так прихватило, – улыбаясь, ответил Антонов. – Другой, Марфа Емельяновна, молодой парень, раз нет заказов на работу, что б делать стал? Сидел бы да на гитаре трынь да трынь. А то по трактирам пошел бы с товарищами. А этот, видите, бумажку для всех ненужную подобрал, и от нее что у него вышло. Мне бы, к примеру, такое и в голову не взошло. Поглядел бы, да и бросил, как петух с жемчужным зерном.
Серяков чувствовал себя окрыленным: ведь такой человек, как Крашенинников, о котором слыхивал и раньше от Антонова, может рассказать о нем кому угодно из писателей. Только бы справиться тогда с гравюрами…
В ближайшие дни он все ждал, не будет ли известий от Крашенинникова. Наконец спросил Антонова, не слыхать ли чего о заказе. Но тот ответил:
– Экой ты скорый! Жди. Обещался, записал для памяти. Через месяц позовут меня опять книги ихние поверять, в другой раз напомню.
Месяц! Легко сказать! У Лаврентия так и чесались руки резать и резать.
Но тут пришли один за другим хорошие заказы на переписку – за страницу по десять копеек, притом спешные, – и думать о «художестве» стало некогда.
Майор из пажеского корпуса дал переписать учебник по фехтованию с приятной добавкой за особую плату – перерисовать двенадцать позиций боя на рапирах из немецкой книжки.
Потом переписывал доклад какого-то чиновника генерал-губернатору о мостовых и освещении Петербурга. Текст был пересыпан цифрами, таблицами. Серяков узнал, что всех фонарей в городе 4300 штук, в какие часы в разное время года их должны зажигать и гасить, что на стекла в них, тряпки для протирания, починку и окраску ежегодно отпускают 25 тысяч рублей, а на горящее в них масло – 161 тысячу.
Это место доклада он прочел матушке, и они вместе посмеялись. Даже она, недавно приехавшая в Петербург, знала, что навряд ли половина этого конопляного масла сгорает в фонарях: значит, другую съедают фонарщики с кашей. Вот и выходит, что съедают они на 80 тысяч в год. И тут же, в следующих строках, говорилось, что фонарщиков-то всего 320 человек, по двое на каждые 25 фонарей, что обязанность их – «рачительно наблюдать, дабы вверенные их попечению фонари ясно горели всю ночь». Значит, сосчитал Лаврентий, на каждого приходится в год масла на 250 рублей. Недаром, говорят, они полицейским будочникам, чтоб пускали переночевать, пока фонари без присмотра гаснут, немалую часть этого масла отдают. Где уж одному столько съесть! Ведь это выходит пудов двести на человека.
Только окончил переписку этого доклада, как полковник Попов рекомендовал его заказчику для первого заработка по топографии. Нужно было вычертить по снятому местным землемером брульону план имения богатого симбирского помещика. Особенно доходно было, что владелец желал украсить план изображением фамильного герба в акварели и золоте, а также развесистым родословным древом, на котором в виде яблок были обозначены все члены семьи за двести лет.
За этими делами незаметно пришла осень. Рассветало все позже, и Лаврентий начинал работать в темноте, чуть ли не ощупью – фонари на улице действительно к утру все гасли.
В октябре на дворе стало известно, что барышня Катенька в селе Рыбацком нашла этим летом свою судьбу – выходит замуж за пожилого помещика. Сам подпоручик с женой увезли приданое в двух сундуках, и Катенькина маменька очень расхваливала соседям жениха – человека со средствами, владельца порядочного имения и кирпичного завода. Это он настоял венчаться в церкви Рыбацкого, на которую постоянно жертвует.
В тот вечер, когда новости дошли до Лаврентия, он загрустил: жаль стало Катеньку, такую светлую и приветливую. Корил себя, что, может, невольно стал виновником ее ссылки и замужества с нелюбимым. Он был уверен, что Катенька не могла полюбить пожилого барина. Верно, от разговоров о заводе, от воображаемых гор красноватого кирпича жених представлялся ему обязательно рыжим, вроде того Геннадия Васильевича, в честь которого когда-то назвали котенка.
В начале ноября выпал снег, потом еще и еще. Сразу накрепко встала зима. Работать от снега стало виднее, но так тяжело, что Лаврентий едва справлялся к нужному времени. Когда прибегал в департамент, руки и спина после лопаты, скребка и лома мучительно ныли. А это было особенно некстати при черчении, где нужны твердость линий и предельная аккуратность. Где мечтать о гравировании, когда вечерами и заказное переписывал-то через силу! После обеда ужасно клонило ко сну, но он садился за работу часов до восьми – девяти, когда валился на постель, как сноп. А в четыре часа матушка едва могла его добудиться.
К тому же с наступлением морозов в их комнате только во время утренней топки и днем бывало тепло – сказывался полуподвальный этаж. Писать приходилось в шинели. Жаль, что матушка распорола на какие-то поделки тот старый, но такой теплый халат.
Потирая коченевшие руки, Серяков уже не раз думал, не пора ли бросать это место – ведь недолго матушке или ему самому простыть и расхвораться. Теперь перепиской и черчением он, пожалуй, заработает на наем комнаты и на дрова.
То же твердил и Антонов, видевший, как похудел и побледнел за один месяц его друг. Верно, он сумел настроить и робкую Марфу Емельяновну, уже не раз заговаривавшую с сыном об уходе от Змеева. Но как угадать вперед? Скоплено у Серякова ничего не было. А тут все-таки сухо и под верной крышей.
Глава VI
Первые заказы. План княжеского имения
Однажды, уже в середине декабря, в чертежную пришел Антонов и, наклонившись к Лаврентию, сказал негромко:
– Сходи завтра к четырем часам в лавку Смирдина, к Крашенинникову. Петр Иванович его зовут. Только не запоздай гляди. Там будет тебя дожидаться сочинитель какой-то, нужно ему картинки резать.
Лавку Смирдина на Невском, в доме Энгельгардта, Серяков знал хорошо. Несколько раз в будние дни, утром, он заходил туда, чтобы взглянуть на великое множество книг, стоящих на полках. Заходил бы, верно, и чаще – там иногда выставлялись на прилавках продажные гравюры и литографии, – да не с руки нижнему чину без дела показываться в самой людной и нарядной части города.
Много хороших книг перечитал или хоть подержал в руках Лаврентий, на титульном листе которых было напечатано маленькими буквами: «Издание Александра Смирдина». Как-то читал в «Северной пчеле» статью, где было рассказано об этом человеке, платившем писателям так щедро, как никто до него не платил, отдавшем свой капитал на издания русских книг. Видал сборник «Новоселье» с заглавной гравюрой, изображавшей обед в честь открытия смирдинской лавки. Сидят Пушкин, Жуковский, Крылов и другие за длинным столом, стоит князь Вяземский с поднятым бокалом – поздравляет Смирдина. Правда, это было лет пятнадцать назад, в другом помещении. Да все равно, и сейчас, должно быть, расходятся отсюда по всей России лучшие книги, здесь бывают известные писатели и художники.
Крашенинников был первым, к кому обратился смущенный Лаврентий с вопросом о нем же. Седой, крупный, серьезный, он выслушал и посмотрел внимательно, потом, приоткрыв дверь за прилавком, ведущую во внутреннее помещение, позвал:
– Господин Студитский! Пожалуйте, к вам пришли. Молодой, опрятно одетый барин тотчас вышел оттуда.
– Вот топограф, что, говорят, гравирует на дереве.
– Очень приятно, – сказал Студитский, дружелюбно улыбаясь. – Зайдите сюда, нам здесь удобнее будет переговорить.
– Кивнув в сторону стоявшего за конторкой пожилого человека, он обратился к Крашенинникову:
– Александр Филиппович позволил им туда войти.
«Наверное, сам Смирдин», – подумал Лаврентий.
Доброе, очень усталое лицо, гусиное перо за бескровным, восковым ухом, как-то покорно-терпеливо слушает барина в дорогой шубе и меховом картузе.
В просторной комнате с тусклыми окнами во двор, как и в лавке, по стенам высились полированные полки с книгами. У круглого стола – несколько кресел, на этажерке – открытый ящик с сигарами, бронзовая чаша-пепельница, стопки журналов. Как бы угадывая мысли Лаврентия, Студитский обвел рукой вокруг:
– Сколько здесь известных людей бывает… Прошлый год видел, тоже в морозный день, сам Виссарион Белинский тут сидел, чаем грелся и с Александром Филипповичем беседовал.
Имя великого критика ничего не сказало Серякову. Он принадлежал к тем простодушным читателям, для которых существуют только повести, рассказы и стихи, а рассуждения о них кажутся выше понимания. Но он не раз видел эту фамилию под статьями, которые пропускал, не читая.
– А вы тоже писатель? – почтительно спросил Лаврентий.
– Ну что вы! – явно сконфузился Студитский. Попросив Лаврентия присесть к столу, он рассказал, что преподает географию в гимназии и в кадетском корпусе, напечатал несколько учебных книг и теперь хочет издать с картинками еще одну, написанную в виде путешествия детей с родителями по Южной Европе. Потом внимательно рассмотрел гравюры, принесенные Серяковым, видимо остался доволен и взял с этажерки красиво переплетенный том с бумажными закладками.
– Вот с чего их сделать нужно, – сказал он. – Издание не мое и очень ценное, французское, но как вас рекомендует Петр Иванович, то я его вам поверю. Гравюры, как видите, сделаны на стали, но это нам не по карману. При небольшом числе экземпляров – я издаю всего тысячу – выдержат и деревянные. Конечно, я понимаю, что в дереве выйдет не так тонко, но что же делать? Мои условия: пятнадцать рисунков по три рубля за штуку, всего сорок пять рублей, больше дать не могу… Подходит ли вам?
Серяков просмотрел заложенные гравюры. Они были различны. Некоторые попроще, как «Сенбернарская собака» – стоит мохнатая, черная над обрывом скалы, с круглой фляжкой на ошейнике. Или «Этна» – гора с седловиной, из нее курится дымок, а внизу – хижина и три фигурки. Но были виды городов – Рима, Венеции, Константинополя, в которых изображались перспективы зданий со множеством деталей. По три рубля за такие картинки, очевидно, слишком дешево. С ними он провозится, пожалуй, по три – четыре дня, если вообще сумеет сделать что-нибудь сносное.
«И все-таки, – думал Лаврентий, – если не возьмусь сейчас или начну торговаться да не сойдемся, так Крашенинников меня никому больше не рекомендует. Три рубля я зарабатываю за три вечера перепиской, а тут само дело куда приятнее, и на круг по три дня на каждую, пожалуй, выйдет. Возьмусь!»
В тот же вечер Серяков засел за работу. Выбрал для начала одну из самых трудных – «Собор Святого Петра в Риме»: круглая, охваченная с обеих сторон симметричными колоннадами площадь с обелиском и фонтанами, дальше – фасад собора, за ним – группы зданий и возвышенность с деревьями. Тщательно прорисовав карандашом на бумажке и перенеся рисунок на доску, Лаврентий сильно упростил свою задачу по сравнению с оригиналом и все-таки видел, как она трудна.
На другой день начал гравировать. Кропотливая будет работа! Больше сотни колонок, меняющих размер в перспективе, восемьдесят окон в домах, сложные линии архитектуры многоярусного собора… Это тебе не солдат у будки и не куры с петухом!..
К концу следующего вечера по тому, сколько удалось вырезать за десять часов, понял, что просидит за «Святым Петром» не меньше недели. Но его ждала еще неприятность. Когда уже решил, что пора ложиться, буквально при последнем штрихе, усталая рука соскользнула с линии радиальной дорожки на площади, и нож глубокой бороздой пересек колоннаду здания за нею и небо. Разом было испорчено все сделанное, приходилось начинать сначала.
«Ничего, – утешал себя Лаврентий, вспоминая неудачи при начале работы в чертежной. – В каждом деле, видно, поначалу не без промашек».
Но, когда прошло еще три вечера, а доска, несмотря на самую усидчивую работу, была готова только наполовину, его забрала печаль. Он явно не мог за три рубля убивать столько времени. Деньги у матушки были, он знал, на исходе. Переписка, взятая до свидания со Студитским, стояла. Если продолжать гравировать, нужно ее уступить кому-нибудь. А чем тогда жить? И еще в этот вечер сильно порезал руку. Даже на дорогую французскую книгу брызнула кровь.
«По всему выходит, нужно отказываться. Видно, не судьба стать гравером. Какие тут мечты о художестве! Знай пиши да черти. Счастье, что этому-то обучили… Хорошо, что с отказом пойдешь не в лавку Смирдина, а на квартиру к Студитскому. Да все равно, Крашенинников узнает и больше никому не рекомендует. И перед Антоновым стыдно. Верно, он опять просил Крашенинникова, увидев, как замучиваюсь на дворницкой работе, выручить хотел… Но что уж там, не быть все равно гравером. Мало, значит, оказалось таланта, сорвался на первой же пробе…»
Просидев не разгибаясь еще вечер и целое воскресенье и кончив гравюру при свече, Серяков твердо решил завтра же отказаться. Матушке он ничего не говорил, но она все понимала по его расстроенному лицу, пыталась было уговорить продолжать работу, даже показала две заветные пятирублевки, которые сэкономила на черный день. Но Лаврентий молча проверил, как просох и разгладился под прессом отмытый от крови лист, и, через силу поев, завалился спать – ведь завтра опять нужно было с четырех часов разгребать нападавший за ночь снег.
На другой день пошел из департамента в типографию, попросил сделать оттиск. Что ж, получилось вполне сносно, не зря труд потрачен. И все-таки нельзя за такие деньги работать…
В ранние зимние сумерки Серяков подходил к дому на Фонтанке, где жил Студитский. Легкий морозец приятно бодрил, и снег весело поскрипывал под сапогом. По льду с криком катались ребята, которых матери еще не загнали домой. Кажется, все было уже решено, и все-таки грызло сомнение.
«По одежде судя, учитель человек состоятельный, – думал Лаврентий. – Может, как услышит, сколько работал над этим собором, так и сам догадается предложить прибавку… По шести рублей я бы взялся все вырезать».
Вход в квартиру Студитского оказался со второго двора. Взбираясь по темной и нечистой лестнице на верхний этаж, Серяков думал, что нет, видно, не богат человек, если тут поселился. То же подтвердила обитая рваной клеенкой дверь, которую открыл сам учитель.
Комната, куда Студитский ввел топографа, освещалась двумя свечами, стоявшими на заваленном книгами письменном столе. Лаврентий рассмотрел, что хозяин был в заношенном байковом халате и стоптанных туфлях. Он явно смутился неожиданным визитом, которого, должно быть, ожидал не ранее как через неделю, и, попросив извинения, поспешно прошел в боковую дверь, за которой слышался женский голос, напевавший колыбельную песенку. Можно было различить, как негромко переговаривался он там – должно быть, с женой.
«Верно, подумал, что я гравюры уже готовые принес, а денег нет расплатиться…» – догадался смущенный Серяков, оглядываясь. Потертая мебель, тусклое зеркальце, облупленная печка. На старом фортепьяно лежат ноты, рукописи и ворох каких-то вырезанных из картона разноцветных букв.
Одергивая халат, возвратился Студитский. Лаврентий подал ему свою досочку, оттиск с нее и с чувством некоторой вины – ведь он взялся и учитель на него надеялся – рассказал, сколько времени потребовала одна только эта гравюра.
– К сожалению, я не мог продолжать работу по условленной цене… И еще, простите, вот книгу кровью залил. Хоть и отмывал, да все же видно немного.
Студитский внимательно разглядывал доску и оттиск, только при словах о крови как-то пугливо глянул на открытый Серяковым лист, на забинтованные пальцы и рукой махнул досадливо – пустое, мол, стоит ли говорить об этом.
– Дам по пяти рублей, только продолжайте, – сказал он решительно. – Дал бы и больше, поверьте, да видите, не по-барски живу. – Он грустно улыбнулся. – Работаю, работаю, в двух заведениях детей учу, не первую книжку выпускаю, азбуку придумал из вырезных букв, как бы подвижной букварь, – все признают ее очень нужной, – на летних вакациях три года песни народные в двух губерниях записывал и тоже издал, а все не выбьюсь из недостатков… Трудно нашему брату-разночинцу себе дорогу проложить… Только тем и утешаюсь, что делаю все несомненно полезное… – И прибавил почти просительно: – Ведь у вас следующие гравюры, наверное, пойдут куда легче.
– Хорошо, постараюсь сделать, – ответил Серяков. Он внутренне дрогнул, почувствовав в словах учителя неумышленный, но бьющий прямо в него укор. Как будто сказал: «Нельзя так легко опускать руки, надо делать свое дело, как бы трудно ни было…» И денег не прибавил бы – все равно после таких слов надо взяться.
И вновь он засел за работу. Даже рождественские праздники и канун Нового года провел не разгибаясь над своими досками. Кое-как, наскоро проглатывал праздничную матушкину стряпню и опять брался за нож.
А по утрам вставал через силу, лопатка и скребок казались пудовыми, рубаха под старой шинелью мгновенно прилипала к спине. Шестого января к вечеру все пятнадцать досок были готовы. Назавтра в типографии оттиснули целый альбомчик, и тамошние знакомцы очень расхваливали гравюры. Но Лаврентий видел их недостатки. Особенно плох Колизей, изображенный чуть сверху, – просто какое-то решето ломаное!
Готовый принять любую критику, пошел он к Студитскому. Что говорить, не только Колизей не удался. Под Чертовым мостом в Швейцарии вместо бурлящей воды тряпки какие-то плывут. Но учитель нашел все вполне пригодным для книги, отсчитал семьдесят пять рублей, поблагодарил и крепко пожал руку.
Домой Лаврентий летел как на крыльях.
«Первый заработок гравера! Мою работу напечатают, по ней будут учиться, ее запомнят тысячи детей. Ведь если каждую книжку прочтут хоть десять детей, значит, уже сколько тысяч! Вот она, польза, о которой говорил Студитский! В ней будет и моя доля. Теперь, наверное, пойдут заказы… Жалко, что не поставил под гравюрами хоть самые маленькие инициалы…»
– Матушка! Я завтра же от здешнего места отказываюсь! – сказал он, выкладывая на стол свое богатство. – Авось новым умением да перепиской на жизнь заработаю. Затоплю сейчас еще разок печку, выспимся нынче в тепле. А вы собирайте поесть чего-нибудь, да побольше!
Через неделю они переехали в деревянный флигель на Озерном переулке, в отдельную комнату с кухней, заплатив за два месяца вперед.
Серяков вздохнул свободно. Возможность спать до начала девятого часа после восьми месяцев дворницкой службы казалась блаженством. Вновь начал брать у товарищей книги, порой читал вслух матушке. Работа по переписке и черчению не переводилась. Но гравюр, увы, по-прежнему никто не заказывал.
Просить Антонова вновь обратиться к Крашенинникову Лаврентий совестился. Ведь и так знает, как тянет его любимое занятие, придется к случаю – сам не забудет.
Как-то старый писарь принес показать номер журнала «Иллюстрация», где был напечатан портрет Крылова и вид кабинета, где он скончался.
– Вот на этом диване, бывало, и басни свои пишет, и кушанье ему человек подносит, и работу мне тут же дает, а перед тем так прочитает в лицах, что навек запомнишь. Видите, Марфа Емельяновна, на портрете каков – толстый…
– А ведь резано-то на дереве, – заметил Серяков, – и надпись иностранная. Неужто все за границу делать отправляют?
– Может статься. У нас всё так: свои мастера без дела сидят, а немцам и французам в пояс кланяемся, – сказал Антонов.
– Вы, Архип Антоныч, коли еще этот журнал где увидите, принесите опять посмотреть, – попросил Серяков.
Он жадно рассматривал картинку за картинкой. Были такие, что ни за что не сделать – с разнообразным и свободным штрихом, видно в совершенстве передававшим портреты, пейзажи. Но большинство – простенькие, эти и он мог бы вырезать.
Через неделю Антонов принес еще два номера «Иллюстрации». В одном понравился Лаврентию ряд портретов, явно карикатурных. На первом был изображен пузатый человечек с хохолком на закинутой назад головке. Идет на высоких каблучках, словно петушок задорный. Подписано: «Музыка». На другом – тоже пузанчик на высоких каблуках, но с более длинными вьющимися волосами над высоким лбом и с красивым профилем, прямо как на греческой статуе. Подпись: «Живопись». Третий рисунок изображал длинного-предлинного барина в клетчатых брюках, на журавлиных ногах, голова гладко облизана, должно быть волосы жидкие, а нос толстый, дулей вниз свесился. Он говорит что-то, протянув вперед руку с выставленным указательным пальцем. Под этим стояло: «Литература».
За пирогом Антонов пояснил со слов чиновника, у которого поверял счетные книги и взял на время эти журналы, что это музыкант Глинка, живописец Брюллов и писатель Кукольник, он же издатель этой самой «Иллюстрации». А рисовал всех художник Степанов, большой мастер подмечать смешное. И что они, те-то трое, очень знаменитые и большие между собой приятели.
Антонов был первым советчиком Марфы Емельяновны по всем покупкам. И, когда они занялись обсуждением какого-то хозяйственного вопроса, Лаврентий опять взялся за журналы.
«Знаменитые! – печально думал он, глядя на карикатурные портреты. – Только для господ они знаменитые. А что я о них знаю? Читал где-то, что Глинка пишет музыку, слышал, как чиновники в департаменте спорили, когда в театре «Руслана и Людмилу» играли, – одни хвалили, другие бранились. А самому вовек не услышать: солдата ведь в театр не пустят. Разве через семь лет… Ну, да бог с ним, с Глинкой этим. Можно мне его и не знать. Брюллов – другое дело! Вот чьи картины хоть бы одним глазком посмотреть! Про «Последний день Помпеи» сколько писано. Литографию как-то у одного заказчика видел, так и от нее глаз не оторвать. Истинно чувствуешь, что последний день пришел – молния, здания падают, люди в ужасе мечутся… А ведь в литографии еще цвета нет. И висит-то сама картина рукой подать – в Академии художеств, на Васильевском. Да не посмотришь: солдата и туда не пустят… Тоже через семь лет, значит?.. Кукольник всех знакомее, читал его не раз. Поначалу, в Пскове, очень нравилось – складно, звучно, такие герои благородные, а злодея сразу узнаешь. Многие кантонисты пьесу «Рука всевышнего отечество спасла» наизусть выучивали. Потом, здесь уже, попадались в журнале рассказы, тоже ничего себе. А в прошлом году взял было какую-то трагедию про итальянцев и дочитать не мог. Слов громких много, кто-то с ума сходит от несчастной любви, духи, черти какие-то ему являются. Да, верно, образования моего мало. Недаром же так знаменит человек».
В апреле Серяков увидел в лавке на Литейном только что вышедшую книгу Студитского и с волнением купил ее. Картинки выглядели совсем недурно. Даже странно было думать, что это его работа. Дома он перелистал книгу не раз вместе с матушкой. Ведь и она знала каждую гравюрку, выучила с его слов, как которая называется.
Два вечера Лаврентий читал вслух матушке, и оба остались довольны, что картинки его помещены в хорошей книжке. Молодец учитель, интересно и понятно написал! Вот такую географию ребенок запомнит: в ней не только названия городов, рек и гор, а еще история страны рассказана. Особенно заняли Лаврентия повествование о помпейских раскопках, от которого стала понятней картина Брюллова, и легенда о Вильгельме Телле с добавлением, как создалась Швейцарская республика, как управляется выборными от кантонов. Это место Лаврентий прочел Антонову, а тот попросил дать ему прочитать всю книжку.
Конечно, Лаврентий дал, хотя немножко жалко было и на неделю расставаться со своими картинками – так он ими гордился. Но и грустил при взгляде на них. Вот и может он резать не хуже тех, что работают для журналов, а что толку?
В середине мая, когда Серяков выходил после работы из департамента, его остановил рослый ливрейный лакей.
– Скажи-ка, служба, – обратился он к Лаврентию, – где б мне тут сыскать топографа? Нашему князю его потребовалось.
– А на что он вашему князю? – спросил Серяков.
– План, видишь ты, вотчины нашей начертить надобно.
– Это можно. Я топограф.
Лакей переменил тон на более уважительный:
– А коли так, то пожалуйте со мной к их сиятельству. Тут недалече, в доме Шлиппенбаха квартируем.
– А как фамилия вашего князя? – осведомился Лаврентий дорогой.
– Князь Одоевский, Владимир Федорович.
– Писатель известный! – воскликнул Серяков.
Он читал «Русские ночи», сказки и особенно хорошо помнил трогательную и печальную повесть «Княжна Зизи».
– Они самые, – кивнул лакей. – Они у нас камергер при дворе и в Публичной библиотеке директор, книги пишут и на музыке играют, даже опыты с огнем разные делают. Однажды едва сами не сгорели. Книг у нас много тысяч стоит, всё читают да читают… Однако барин добрейший.
На углу Бассейной и Литейного они вошли в подъезд. По устланной ковром лестнице поднялись во второй этаж.
Оставив Серякова в прихожей под присмотром сидевшего тут с книжкой мальчика-казачка, ливрейный великан пошел докладывать. Сквозь растворенные двери Лаврентий видел большую комнату в три окна.
Лакей рассказывал правду – ее наполняло такое множество книг, какое он видел только в лавке Смирдина. Закрывая почти целиком стены, они стояли в застекленных шкафах и на открытых полках, лежали на столах, на диване. Даже на полу под окнами высилось несколько стопок. Старинные, светлой свиной кожи переплеты чередовались с новыми, более темными, тисненными золотом, и с простыми бумажными обертками. Тут и там между книгами втиснулись какие-то медные и стеклянные приборы и сосуды. На двух шкафах желтели человеческие черепа. Сквозь приспущенные белые шторы солнце заливало комнату матовым ровным светом.
Но вот из двери, видной в глубине кабинета, показался хозяин. Серяков понял это по тому, как почтительно провожал его ливрейный лакей.
Наружность Одоевского не удивила Лаврентия, особенно после того, что увидел в его комнате. Это был среднего роста сухощавый пожилой человек с добрым и задумчивым выражением лица, одетый в длинный, доверху застегнутый сюртук. Остановившись недалеко от двери в переднюю, он поднял по-детски ясные голубые глаза и, увидев ожидающего солдата, поманил его к себе. Но не начальнически, одним пальцем, а как мать зовет ребенка – движением обеих протянутых вперед ладоней.
– Здравия желаю, ваше сиятельство, – сказал Лаврентий, переступая порог.
– Здравствуйте, мой друг. Вы топограф? – Одоевский взял со стола свернутую трубкой бумагу. – Вот посмотрите, можно ли по этому сделать план.
Серяков развернул лист – это был брульон, выполненный умелой рукой.
– Это мое имение Дроково в Рязанской губернии. Я там много жил в детстве, особенно его люблю. Вот дом, где я рос. Видите? – Одоевский указал обозначенные на плане строения над рекой. – А вот как он выглядит в натуре.
Он подошел к одной из книжных полок и снял с боковой стенки небольшую акварель. Изображен был барский дом на пригорке, перед ним – цветники, а сзади – купы деревьев.
– Не угодно ли будет, чтоб в уголке плана я изобразил этот дом в какой-нибудь растительной виньетке? – предложил Лаврентий.
Ему захотелось украсить лист, который, как он видел, почти сплошь будет занят скучной штриховкой хлебных полей и покосов.
– В самом деле? Это может быть очень своеобразно! – обрадовался Одоевский. – А вы делали уже подобные работы?
«Довольно ли, мол, у тебя умения?» – перевел себе этот вопрос Серяков. Но не смутился – картуши в чертежной были хорошей практикой.
– Случалось, – сказал он. – Если вашему сиятельству не понравится, то берусь тотчас перечертить план, разумеется, без всякого дополнительного вознаграждения.
– Ну что вы, зачем же! – чуть сконфуженно улыбнулся Владимир Федорович. – Сделайте, сделайте, пожалуйста, как сказали… Сколько же я вам буду обязан за труды?
Лаврентий назвал цену, что не раз получал за черчение подобных планов, – пятнадцать рублей. Одоевский согласился, и топограф ушел, унося брульон и акварель, оставив свой адрес.
Два, три, четыре вечера сидел он, склонившись над чертежной доской, ярко освещенной двумя дорогими восковыми свечами. За открытыми окнами затихал в белой ночи шум города, матушка спала за занавеской, неторопливо тикали недавно купленные стенные часики с голубым жестяным циферблатом.
Ну, вот план и закончен. В левом верхнем углу – рамка из подцвеченных акварелью по-осеннему желтых и красноватых дубовых и кленовых листьев: таковы главные породы деревьев парка в Дрокове. А в этой рамке белеет дом, от которого сбегают к реке цветники. Рисунок сделан только коричневой тушью – так строже, лучше отделяется от раскрашенного плана.








