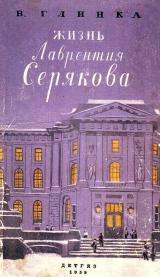
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Целые дни сидел Лаврентий в своей комнате, то целиком поглощенный движением штихеля, то слыша окружающие привычные звуки. Вот за стеной в кухне матушка осторожно, чтобы не помешать ему, переставляет ухватом сковороды и горшки. Дальше, в их комнате, глухо щелкает на счетах Антонов. Он весной вышел в отставку, но работает не меньше пасынка, проверяя чьи-то конторские книги. Во дворе визжат и играют дети, разносчик выпевает: «Рыбы, рыбы свежей!..» Вот загудел паровик на Московской дороге…
Вечерами, когда Серяков возвращался с прогулки, после чая Архип Антонович читал им с матушкой газету. В Вене шла конференция дипломатов, там пытались отклонить назревавшую войну, но с Дуная все больше пахло порохом, и русские корпуса, вступив в Молдавию и Валахию, стояли в полной боевой готовности.
Притулившись на диване, Лаврентий думал о своих товарищах топографах – их всех после производства отправили в южную армию. Как они там? Работают на съемке, колесят верхом по степи, чертят и спят в палатках, может иногда вспоминают его… А он вот прилег здесь, закрыл усталые глаза, в которых и сейчас стоит доска с головой бородатого старика, слушает чуть глуховатый голос читающего Антонова. А если открыть их, то увидит матушку, склонившуюся над своим шитьем или отбирающую смородину для варенья… Здесь все так мирно. А там, на другом конце России, вот-вот начнется война… У каждого своя судьба… «Вот провалюсь со своей гравюрой и, может, тоже поеду по железной дороге до Москвы и дальше на лошадях в армию; мимо замелькают верстовые столбы, прохожие, обозы, как когда-то на большой дороге, по которой шел с этапом… А завтра начну гравировать волосы за ухом, усилю морщинки у глаза…»
Так прошло лето. В конце августа Серяков сделал пробный оттиск со своей доски, еще кое-что подправил. Оттиснул снова и остался доволен. Уж никак не картинка для книжки, не виньетка, как ни толкуй. Но что скажут в совете? Что скажет прежде всех Григорович?
10 сентября был последний срок представления программы. Утром 7-го Лаврентий наваксил сапоги, начистил до яркого блеска пуговицы мундира и герб на каске, выбрился тщательнее обыкновенного и с оттиском под мышкой вышел из дому.
Григорович принял Серякова не сразу. К нему только что вошел с докладом правитель дел академии, румяный толстяк Всеславин. За дверью кабинета ворчливо гудел бас чем-то явно недовольного конференц-секретаря.
– Пустое, пустое, оставьте! Разве это программа? – доносилось до Лаврентия. – Какие это скульпторы?.. Они печники, просто печники, они только и умеют, что глину мять…
«Эх, не вовремя я пришел! Сейчас ему все худо покажется», – думал Серяков, чувствуя, как замирает сердце и начинают дрожать руки.
Всеславин вышел из кабинета хоть и с улыбкой, но розовее обычного. Увидев Лаврентия, сказал негромко:
– Грозен нынче Василий Иванович! Такую пыль из пустяков поднял, просто беда!.. Ежели без крайности, и не суйтесь, пожалуй…
Но Серяков все-таки вошел. Григорович сидел за письменным столом и сердито посапывал, читая какую-то бумагу, держа ее далеко от глаз. Он мельком покосился на остановившегося у порога и опять уставился в бумагу.
– Ну что, батюшка, скажешь? Как твои опыты? Что тебе еще от академии нужно? – спросил он наконец ворчливо.
– Принес вам первому показать, Василий Иванович, – сказал Лаврентий и подал свой лист.
Конференц-секретарь нехотя отложил бумагу и все с тем же насупленным лицом взял гравюру. Вгляделся, потом отодвинул подальше от глаз. Нашел на столе лупу, посмотрел в нее тут и там. Наконец встал, прошел, прихрамывая, к окну и, выставив лист на свет, все смотрел и смотрел не отрываясь.
Лаврентий стоял ни жив ни мертв. А Григорович, будто чтобы помучить, ничего не говорил, а все рассматривал его работу. Наконец не спеша возвратился к столу, бережно положил гравюру и шагнул к замершему Лаврентию.
– Вы молодец! – сказал он прочувствованно. – Молодец и истинный художник! Вот что значит талант и упорство! Уж если что решился сделать, то и сделал отлично. Поздравляю вас, мой друг, поздравляю от всей души!
И, взяв голову залившегося краской Серякова в пухлые старческие ладони, три раза поцеловал его, обдав запахом сигары и душистого мыла. При этом Лаврентию показалось, что на выцветших, с красными жилками глазах конференц-секретаря что-то блеснуло. Да и у него самого разом подкатил к горлу радостный комок.
А Григорович уже опять взял в руки лист и, всматриваясь в него, весь расплылся в улыбку.
– Прелестная, небывалая вещь… Просто отлично… Отлично, мой друг!.. – приговаривал он. – Вы мне нынче праздник устроили, спасибо вам. А то все работы несут пустые, ревматизм одолел, пишут в канцелярии плохо. Все из рук вон… А тут вы так порадовали… Идите же, батюшка, сейчас же от меня к Шебуеву, Уткину и Бруни, всем им покажите немедля. Тут есть на что посмотреть, право. Да всем так и говорите, что, мол, Василий Иванович видел и в восторге, в совершенном восторге… А потом ко мне обратно принесите обязательно. Я еще посмотрю и кое-кому покажу.
Этот день был настоящим триумфом Серякова. Прямо от Григоровича он пошел к ректору. Все еще бодрый, несмотря на глубокую старость, Шебуев внимательно рассмотрел лист и, хотя, конечно, Лаврентий не упомянул об отзыве Григоровича, тоже расхвалил его и выразил уверенность, что звание художника будет обязательно присуждено.
Разговор с Уткиным навсегда запомнился Серякову. Ведь Уткин – знаменитый гравер, высший в России авторитет в этом искусстве.
В мастерской старого профессора был еще какой-то франтоватый господин, видимо, его гость. После того как Лаврентий назвал себя, Уткин тотчас вспомнил, что в совете разбирали его просьбу о программе по гравированию на дереве и что было немало споров, разрешать ли ее.
– Покажите же нам, что вы сделали, – закончил он.
Так же внимательно, как Григорович, смотрел он на лист, сначала через обычные свои очки, а потом через огромную лупу, изучал, казалось, каждый кусочек изображения, каждую линию. Только делал это не молча, а чуть ли не с первой минуты восклицая:
– Великолепно! Прелесть! Прекрасно!.. – И, обратившись к почтительно стоявшему за его стулом гостю: – Что же после этого стоят наши гравюры на меди, когда на дереве можно делать такие вещи?
– Только, смею заметить, Николай Иванович, – отозвался тот, – я впервые вижу подобное искусство в ксилографии. Это возможно только для редкостного артиста. – Он слегка поклонился Лаврентию. – Позвольте спросить, сколько же вы работали?
– Все прошедшее лето.
– Следовательно, месяцев пять, не более… Это очень быстро. Я полагаю, на меди довелось бы резать такую гравюру не менее двух лет!
– Да, да, не меньше, – подтвердил Уткин, опять берясь за лупу.
После Серяков узнал, что говоривший с ним был Пищалкин, ставший через несколько лет вместо Уткина профессором гравирования на меди.
Совершенно счастливый, Лаврентий пошел к Бруни в Эрмитаж.
Так вот что удалось доказать ему, безвестному солдатскому сыну! Вот каковы преимущества гравюры на дереве! Овладей только рисунком и техникой штриха да не жалей сил, и сможешь делать вполне серьезные гравюры не хуже, чем на меди…
Федор Антонович подтвердил:
– Вы этой работой подняли свое искусство на небывалую высоту. Теперь никто не сможет сказать, что гравюра на дереве годится только для книжной иллюстрации. Ведь так можно достойно репродуцировать сокровища любой картинной галереи.
Свой «Портрет старика» Лаврентий снова принес Григоровичу только на следующее утро. Ведь нужно было показать его Клодту, когда вернется из Артиллерийского училища. Забежал домой, пересказал радостные новости матушке с Антоновым и, передохнув за обедом, отправился на Стремянную.
Константин Карлович рассматривал гравюру один, потом вместе с Михаилом, наконец позвал жену и дочь и просил подать бутылочку настойки. В этом скромном доме не нашлось другого вина.
– Что не удалось мне, сделали вы! – взволнованно сказал он, чокаясь с Серяковым…
Уже давно замолкли в своей комнате обрадованные матушка и Архип Антонович, уже на колокольне Владимирской церкви пробило полночь, а Лаврентий все лежал без сна в постели.
«Нужно как-нибудь достать адрес и написать о сегодняшнем Нестору Васильевичу и Линку… Люди совсем разные, но обоим я многим обязан, – думал он. – Вот было бы хорошо, если бы князь Одоевский пришел на выставку в академию, увидел гравюру и вспомнил, как помог мне и ободрил…»
Серяков не выдержал, встал, зажег свечу и вновь посмотрел на «Голову старика». А ведь и правда хорошо сделал!
24 сентября 1853 года в протоколе совета Академии художеств было записано среди других постановлений: «Рассматривали гравюру на дереве, изображающую «Голову старика» с картины Рембрандта, исполненную по программе для получения звания художника состоящим в числе учеников академии кондуктором-топографом Лаврентием Серяковым. Определено: Серякова удостоить звания неклассного художника и, по утверждении его в общем собрании академии, представить о нем военному начальству как о доказавшем настоящею гравюрою необыкновенные и редкостно хорошие успехи в гравировании на дереве».
Передавая Лаврентию, как обсуждалась в совете его гравюра, правитель дел Всеславин рассказал, что несколько членов, горячее всех Бруни, Григорович и сам вице-президент, знаменитый скульптор граф Федор Толстой, настаивали, чтобы дать Серякову за столь небывалую и отлично выполненную гравюру прямо звание академика. И как было всем неприятно, когда Шебуев вдруг вспомнил, что с этим званием, по уставу академии, обязательно связан чин не ниже титулярного советника, по военной табели – капитана. Ну был бы он хоть с самым маленьким чином, все как-нибудь можно бы, а о солдате и говорить нечего.
«Голова старика» появилась в октябре среди дипломных работ на академической выставке и сразу сделала имя автора широко известным знатокам и любителям. В «Отечественных записках» поэт и художественный критик Аполлон Майков напечатал отчет о выставке, в котором Лаврентий прочел и много раз перечитал такие строки: «Гравирование на дереве доведено, кажется, г. Серяковым до такого совершенства в «Этюде головы старика» Рембрандта, которого оно достигло только во Франции. Положительно невозможно узнать, что гравюра его была резана на дереве, а не на меди».
Глава XIII
И лавры не вечно зелены. Еще одна ступенька вверх
В начале октября академия сообщила военному министерству, что Серякову присуждено звание художника, но и через два месяца еще не было никакого ответа. Лаврентий знал, что теперь его нельзя превратить снова в «нижнего чина», но все же тревожился от этой полной неизвестности. Отпустят ли его из военного сословия или прикажут рисовать и гравировать какие-нибудь картинки с предметами вооружения, вроде тех, что копировал когда-то в батальоне кантонистов? Все ведь может быть…
Конечно, сейчас военному начальству не до него. 21 октября Россия объявила войну Турции, на Дунае уже сражались, и Франция с Англией вот-вот вступят в войну, встревоженные победой адмирала Нахимова у Синопа.
В декабре на выставке побывал царь. Его сопровождал вице-президент академии граф Толстой. Наверное, именно он обратил внимание Николая на гравюру Серякова, расхвалил ее как нечто исключительное и небывалое.
– Надо его поддержать, – сказал царь.
Эти слова были услышаны многими, запротоколированы в журнале совета академии, дошли, верно, и до военного министерства через сопровождавшего императора генерал-адъютанта. В январе в академию пришла копия царского приказа: «Кондуктора-топографа Серякова за необыкновенный его талант произвести в коллежские регистраторы, дать ему место в военном министерстве и выдать из кабинета на обмундирование».
Даже при всей радости от этого приказа, завершавшего его долголетний путь «нижнего чина», даже при всей привычке к казенному языку Лаврентий, прочтя в академической канцелярии эти строки, почувствовал их нелепость. «За необыкновенный талант произвести в коллежские регистраторы». За талант наградить чином! Да еще самым мелким, в котором состоят в России многие тысячи канцеляристов, писцов, смотрителей почтовых станций… Вот ерунда-то! Приказал бы: «Уволить навсегда из военного сословия, предоставив заниматься своим искусством», – другое было бы дело!
Хотя, по правде сказать, он и сам не знал, что делать теперь со своим искусством. Гравировать картины Эрмитажа? А кто бы их стал покупать? Вон Агин и Бернардский попытались издавать отличные картинки к «Мертвым душам», и что из этого вышло? Сейчас нет на всю Россию ни одного иллюстрированного журнала, кроме «Листка» Тимма, в котором все как есть заполнено войной, светской и придворной жизнью. Видно, правду говорил Линк, что «грамотность с крепостным правом несовместима». До распространения картин великих художников тоже никому нет дела. Так и выходит, что его теперь признанное мастерство мало кому принесет пользу.
Царская воля была немедленно выполнена. Серяков мог именоваться отныне «вашим благородием» и на полученные деньги оделся в новую форму, скинул наконец мундир унтера-топографа. А вот места ему не предоставили никакого.
Некоторое время Лаврентий ждал, что его вот-вот вызовут и назначат рисовальщиком каких-нибудь картушей на планах, вроде тех, что делал, бывало, у полковника Попова. Только бы не к барону Корфу, в департамент военных поселений! В новом месте авось никто не будет смеяться, что после шести лет обучения в Академии художеств вновь вернулся к прежнему занятию.
Но никто не присылал за ним, и сам он не шел никуда с просьбами. Может, и вовсе забудут. Хотя и на это надежды мало: случается, что медленно работает канцелярская машина, но наверное, рано ли, поздно ли, вынырнет из нее какое-нибудь назначение.
А пока нужно что-то зарабатывать на жизнь, ведь даже жалованья унтер-офицера ему больше не выдавали. Придется сходить к Клодту, Крашенинникову, Студитскому, попросить вспомнить о нем при случае…
Не собрался еще осуществить такого решения, как Клодт сам прислал за ним сына. Серякова не было дома, когда заходил Михаил, и матушка передала только, что просили прийти не откладывая. Окрыленный надеждой на работу, Серяков поспешил на Стремянную. Константин Карлович встретил его без обычной улыбки и сразу провел к себе в кабинет.
– Печальные вести о Линке, – сказал он, садясь и указывая Лаврентию на стул. – Сегодня в училище приходил ко мне муж его сестры. Он ненадолго приехал в Петербург по делам и разыскал меня. Шарлотта помнила, что я служу в Артиллерийском училище.
– Но что же с Генрихом? – встревоженно спросил Серяков, потому что Клодт смолк и грустно смотрел куда-то вдаль.
– Не можем ли мы ему помочь?
– К сожалению, нет… – покачал головой Константин Карлович. – Слушайте. До декабря прошлого года Линк служил у богатого помещика Криштафовича, был домашним библиотекарем и конторщиком. А тут поссорился с хозяином и ушел. Поссорился, потому что уже несколько лет помещик продавал – другого слова не подыщешь – целые артели своих крестьян подрядчикам на проводимую поблизости… в Варшаву, что ли… железную дорогу. Летом они работали на дороге, а зимой голодали, потому что поля обрабатывали кое-как бабы, дети и старики.
– Это я знаю. Видел, когда был дворником, крестьян, которые побирались здесь, тоже запроданные помещиками на постройку Московской дороги, – сказал Лаврентий.
– Да, это, видно, везде так делается, – продолжал Клодт. – А в декабре, когда подрядчик заранее приехал к помещику заручиться на будущую весну новым договором, крестьяне его увидели и возмутились: «Не хотим больше идти работать впроголодь и семьи свои губить!..» Попросили они Генриха Федоровича, которого хорошо узнали и которому вполне доверяли, поговорить с помещиком… Он поговорил, даже поспорил, сначала пытался доказать, что это для него же невыгодно в будущем, что крестьяне его обнищают, потом сказал, что это бесчеловечно. Должно быть, разговор вышел крутой, потому что Линк после этого взял расчет и переехал к сестре в Минск. Но крестьяне не успокоились и стали посылать ходоков с прошениями к губернатору, в Казенную палату и еще куда-то… На несчастье, Генрих Федорович продолжал бывать в селе – у него осталась там привязанность, крестьянская девушка, на которой он собирался жениться. Помещик обвинил его в подстрекательстве крестьян к бунту. Должно быть, и в самом деле Линк давал им советы, куда жаловаться, писал прошения. Его арестовали у этой девушки. Панские гайдуки и полицейские избили его, связали и повезли в город на дровнях, едва прикрыв только старой холодной шинелью. А был крепкий мороз. В городе посадили в острог. Он простудился страшно, и его скоро перевели в тюремный лазарет…
– Неужто умер? – не выдержал Серяков.
– Да, двадцатого января… И просил Шарлотту, которую к нему пустили перед концом, передать вам и мне свой последний дружеский привет… Жалеет, мол, что рано приходится умереть, но не жалеет о том, что сделал. Уж если умирать, так за что-то доброе и справедливое…
Полночи бродил Серяков по улицам после этого разговора, не замечая, что февральская вьюга засыпала его снегом с ног до головы, что промерз и устал. Несколько раз останавливался у подъезда на Стремянной, из которого выходили когда-то с Линком на вечерние прогулки. Сердце разрывалось от тоски и возмущения. Вспоминались крестьяне, которых видел когда-то просящими милостыню на улицах, – оборванные, худые, голодные. Вспоминался лазарет, в котором лежал в горячке. Верно, тюремный-то был еще хуже, где же тут выжить?.. Ах, боже мой, боже мой! Что же это такое? Неужто никогда не придут в Россию справедливость и человечность?.. Что же он-то, Серяков, должен делать, чтобы быть достойным своего покойного друга?..
Работа сама нашла Лаврентия в начале марта. Однажды утром перед домом, где жили Антоновы, остановилась карета, запряженная раскормленными лошадьми. Из нее вышли два осанистых иеромонаха. Богомольная старуха соседка с поклонами проводила их во двор и указала дверь художника. Усевшись в комнатке Лаврентия, старший монах начал речь восхвалением известного многим таланта его благородия, после чего предложил ему взять на себя руководство граверной мастерской Киево-Печерской лавры, с тем чтобы и самому участвовать «своим искусным резцом» в изображениях, украшающих книги, которые выпускает лаврская типография. При этом держаться, конечно, надобно не нового вкуса, чтоб не смахивало на светские картинки, а работать по старым киевским образцам XVIII века, к которым привыкли молящиеся. Условия службы отличные: отдельный домик с прислугой, отоплением, освещением, лошади для выезда в любое время с конюшни митрополита, а летом – дача на берегу Днепра. И сверх того, разумеется, хорошее жалованье.
Но разве такой работы хотел Лаврентий? Разве стоило учиться в академии, чтобы копировать изображения святых из старых книг? Он отвечал, что благодарит за честь, но он человек не свободный – чиновник военного министерства, со дня на день ожидает назначения, а потому и не может никуда уехать. Но иеромонах возразил, что на сей предмет его преосвященство напишет военному министру, и, верно, ответ получится благоприятный, конечно если господин Серяков согласится. Лаврентий и тут нашелся что ответить. Сейчас он накрепко привязан к Петербургу, решившись весьма скоро начать гравирование новой большой доски, уже на звание академика. Недовольный иеромонах насупился, и Серяков схитрил, добавив, что, получив это звание, он, верно, будет больше подходить к предложенной высокой должности, а пока готов резать здесь для лавры, готов хоть сейчас же, если ему вручат оригиналы и подойдет оплата.
На том и порешили. Через день Лаврентий уже сидел над старинным томиком, искусно переплетенным в тисненную золотом свиную кожу. Картинки, к его удивлению, не походили на виденные им раньше церковные гравюры московской работы. Здесь явно чувствовалось влияние европейского искусства, а порой без труда можно было угадать, с какой известной гравюры на религиозный сюжет копировал мастер.
Серяков сказал иеромонаху правду. С самого рассказа Всеславина о прениях в совете он подумывал взяться за гравирование на звание академика. Раз за «Голову старика» хотели дать это звание, значит, присудят за следующую – надо думать, лучшую доску. Нужно ковать железо, пока горячо, пока есть возможность без помехи заняться этим. Звание академика уж наверное избавит его от должности рисовальщика каких-нибудь форм обмундирования. Да что формы! Это бы еще полгоря – там хоть люди, лошади, ландшафты, – а вот рисовать, скажем, ружейные замки, курки, то, как должно скатывать шинель или попону, – это, право, и в мыслях наводит уныние.
В апреле Серяков отправился к Бруни и рассказал о своих планах.
– Конечно, конечно, беритесь не откладывая, – поддержал его Федор Антонович.
И вот они опять ходят по залам Эрмитажа, выбирая картину. Василий Васильевич тоже ковыляет следом и мимикой, а порой и вставленным в разговор словом участвует в обсуждении.
– Тут колориту много, – говорил он шепотом Серякову, указывая большим пальцем через плечо на только что обсужденную картину. – Она больше живописью берет, а тебе неспособна.
Успехами Лаврентия Василий Васильевич гордился чрезвычайно: подумать только, свой брат солдат и вот что сделать сумел! Такой очень просто и в академики выйдет…
«Ты, главное, куражу не теряй, все выйдет в аккурате», – подбадривал он Серякова, если тот говорил, что картина ему нравится, но трудна для гравирования.
Однако по сравнению с прошлым годом у Лаврентия было куда больше «куражу». Он уже не прочь был взяться за композицию из нескольких фигур. Должно же что-то отличать новую задачу от прежней. Особенно привлекал Рембрандт с его контрастами света и тени. Небольшую картину «Неверие апостола Фомы» – вот что хотелось награвировать. Посередине светлая, распространяющая сияние фигура Христа и отшатнувшийся, не верящий его воскресению Фома. Вокруг – живописная группа учеников. Нечто важное, значительное чувствовал Серяков в теме картины: так же, как Фома, не верят многие тупые люди всему, что выходит из круга их застывших, ограниченных понятий… Ну, хотя бы тому, что к крепостным должно относиться по-человечески… Бруни согласился с его выбором, и назавтра с прошением в руке Лаврентий вновь вошел в кабинет конференц-секретаря.
– Здравствуйте, батюшка, что скажете новенького? – с новой, радушной интонацией встретил его Григорович.
– Опять прошение хочу подать, Василий Иванович. Конференц-секретарь пробежал глазами бумагу и, явно огорченный, развел руками:
– Нельзя, батюшка, никак нельзя…
– Да почему же, Василий Иванович? Мы с Федором Антоновичем…
– Ну, уж Федору-то Антоновичу это забыть и вовсе непростительно. Да что с него возьмешь, с астронома рассеянного? Дело в том, батюшка, что, по уставу, получить звание академика можно только через три года после звания художника. В этом, согласитесь, есть немалый смысл. Должен же художник иметь время усовершенствовать свой талант, чтобы получить новое почетное звание. А у вас прошло всего полгода, и совет не сможет этого разрешить…
Лаврентий стоял опечаленный. Да, выходит, зря обнадежил его забывчивый Бруни. А он-то уж размечтался, даже доску Вагнеру вчера большую заказал… Ну что ж, придется ждать…
Наступила тусклая, трудная полоса в жизни Серякова. Заказов, кроме лаврских, не было никаких. Оставалось много времени, чтобы читать, гулять, но разве для этого он учился? Ему исполнилось тридцать лет, а что он сделал? Что сделает дальше для своего искусства? Что толку от диплома, когда гравировать нечего?..
Не раз, читая известия с Дуная, из Севастополя, Лаврентий чувствовал себя чуть ли не дезертиром. Товарищи там бьются, вот уже имена двоих напечатаны в списке убитых, а он здесь знай режет картинки к житиям святых!.. Порой казалось, что Антонов, разговаривая с Марфой Емельяновной о войне, презрительно косится в его сторону: я-то, мол, отставной гвардеец, когда было мое время, честь России защищая, под Бородином сражался и до Парижа врагов теснил, а ты что?..
В конце 1855 года о Серякове вдруг вспомнили в военном министерстве и назначили рисовальщиком при Главном штабе с жалованьем 12 рублей 50 копеек в месяц. Пришлось-таки рисовать солдатиков с ружьями для нового руководства в стрельбе из нарезных штуцеров, а потом гравировать множество планов сражений подошедшей к концу войны. За этой работой постоянно вспоминались товарищи топографы, которые так дружески относились к нему когда-то, так сочувствовали в истории с Корфом, радовались поступлению в академию. Из восьми произведенных в 1852 году живым остался только один. Двое были убиты под Силистрией, пять легли в Севастополе. Недолго покрасовались в эполетах, бедняги… Зато самого Лаврентия через полгода службы в Главном штабе произвели в губернские секретари – вышел срок пребывания в первом чине – и одновременно прибавили 2 рубля 50 копеек жалованья. Вот уж истинно по поговорке: «Чиновник спит, а чины идут». Он порадовался: приблизился, значит, срок, когда можно будет заняться гравированием на звание академика.
Но вот после смерти императора Николая заметно повеяло чем-то новым, дышать стало посвободнее. Даже в военном ведомстве как-то разом примолкли восхвалители старых начал – палки и фрунтовой муштры. Война, проигранная бездарными генералами, несмотря на героизм солдат и младших офицеров, и явная техническая отсталость армии и флота были у всех на устах.
Передавали, что уничтожат департамент военных поселений и несчастное сословие кантонистов. Рекрутские наборы были отменены на несколько лет, и говорили о введении всеобщей воинской повинности.
В столицу все чаще доходили слухи о волнениях крестьян, об убийствах помещиков. Народ больше не хотел терпеть ненавистную крепостную кабалу и брался за вилы и топоры. Все чаще в любом кружке, даже в канцеляриях заговаривали о близком освобождении крестьян, спорили, на каких оно произойдет условиях. Все знали, что по этому вопросу заседает некий секретный комитет из высших сановников.
Оживилась и литература. В журналах начали печататься статьи по политическим, историческим и философским вопросам, смелее, чем в 40-х годах, затрагивалась и критиковалась внутренняя жизнь России. Но иллюстрированного издания, где мог бы работать Серяков, все еще не было.
– Не до картинок в такие годы, – сказал ему как-то Клодт. – Но погодите, скоро и ваш штихель понадобится.
Осенью 1856 года Серяков начал рисунок «Неверия апостола Фомы». Трехлетний срок с получения звания художника прошел, и совет академии разрешил ему новую программу. Звание академика было теперь особенно нужно. При новых веяниях авось академика не станут силком держать на военной службе. А к тому времени, когда оно будет получено, по пророчеству Клодта, верно, начнут выходить иллюстрированные издания или можно будет взяться за гравирование знаменитых картин. Должен же появиться когда-нибудь на них спрос!
Опять Лаврентий стал ходить в Эрмитаж, но, занятый днем в штабе, мог рисовать только в праздники. Изредка удавалось отпроситься у начальства и в будни, но тогда приходилось брать служебную работу на дом. Первое время в зале Рембрандта Лаврентий чувствовал себя очень одиноким: не сновал около, не ободрял его больше Василий Васильевич. Он умер в прошлом сентябре, как рассказывали лакеи, с горя после сдачи Севастополя.
«Все не верил тогда, – вспоминали они, – плакал даже несколько раз, тут в углу усевшись, да на нас на всех сердился. Егора перовкой по груди ударил. «Врете всё, твердил, не может такого быть, чтоб француз нас одолел…» А потом и помер дома в одночасье. Не пришел в должность два дня, Федор Антонович на квартиру курьера послали, а он уж на столе лежит…»
Не появлялся в зале и Бруни: он опять уехал за границу покупать что-то для Эрмитажа. Но к святкам он возвратился в Петербург, одобрил сделанное Лаврентием и по-прежнему стал подходить к нему по утрам.
Однажды Федор Антонович ввел в зал Рембрандта одетую во все черное пару, примерно одного с ним возраста. Лаврентий обратил внимание на статную фигуру мужчины, его совершенно седые, красиво вьющиеся волосы и живое, открытое лицо. Спутница его также располагала к себе приветливой улыбкой и естественными манерами. Бруни говорил с ними по-французски, они слушали внимательно и смотрели на картины с редкостным для господ интересом.
«Кто это? – думал Серяков. – На важных бар не похожи. У него на фраке нет ни одного ордена. Верно, какой-нибудь знаменитый иностранный художник или ученый…»
Встретив Бруни в тот же день при выходе из Эрмитажа, он решился спросить, кто были эти гости.
– А что, хороши? – оживился Федор Антонович. – Таких нельзя не заметить. Это, дорогой Серяков, старые-старые мои знакомые. Мы не виделись больше тридцати пяти лет, с того времени, как я уехал в Италию… Он – Иван Александрович Анненков, тогдашний кавалергардский офицер, из тех, кого сослали за 1825 год, а теперь, слава богу, возвращают. А она – его жена, француженка. О! Это целый роман. Она была красавица, продавщица в одном модном магазине. Они любили друг друга, и, когда его сослали на каторгу, она добилась разрешения ехать за ним в Сибирь… Мы, ученики академии, ходили в магазин на нее любоваться… Так радостно было увидеть их снова вместе!..
Возвратившись домой, Лаврентий рассказал об Анненковых матушке и Архипу Антоновичу.
– Эх, вот бы сейчас и мой Александр Михайлович вернулся! – грустно вздохнул Антонов. – Уж как бы я его встретил! Как бы порадовался и он за меня…
А Серяков с глубоким волнением думал о виденных нынче людях, прошедших жизнь так смело и достойно, о том, что пережили они в Сибири, и как радостно им приехать в Петербург, где началась эта такая крепкая любовь… Потом подумал, что нужно у кого-нибудь узнать, вернули ли Петрашевского, Достоевского и других. И, так же как Антонов, загрустил, что вот дорогой ему Линк уже никогда не вернется к своему искусству, никогда его не увидишь…
Ранней весной Лаврентий представил свой рисунок в совет, получил разрешение гравировать и принялся за работу. Задача оказалась неизмеримо труднее, чем прежняя. Созданное в чисто рембрандтовской манере «Неверие Фомы» все построено на световых контрастах, у большинства фигур нет четких контуров.
Уже летом Лаврентий понял, что к осени никак не поспеет. Что ж, лучше просидеть лишние полгода, да зато добиться своего. К тому же от двойной работы – на службе и дома – очень уставали глаза, иногда болела грудь и приходилось отлеживаться по целым вечерам. Видно, здоровье уже не то, что было у дворника купца Змеева…








