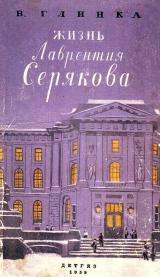
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Об Оленьке Кюи говорил, разумеется, с меньшим жаром. Но и она была девица с характером и умела быть самостоятельной. Ее мать, овдовев, вскоре снова вышла замуж, и Оленька предпочла поселиться у дяди вместе с возвратившейся к нему Александриной. Она хотя не имеет состояния, а только небольшую отцовскую пенсию до замужества, но тоже разборчива в женихах, хотя ей уже двадцать лет.
В субботу, как ни звал его Кюи, Лаврентий не пошел вечером к Недоквасовым. Но в воскресенье после обеда отправился гулять и оказался около голубого домика в то самое время, когда компания направлялась в парк. Оленька, как нарочно, вышла последней, и опять они пошли позади всех.
Она была так же просто одета, хотя в другом, светло-зеленом платье, улыбнулась Серякову еще приветливее и тотчас же начала разговор с того, на чем прервалась неделю назад их отдельная от других беседа: о книгах. Оленька прочла недавно «Белые ночи», и повесть ее очень взволновала.
– Право, я в конце едва не плакала и готова была негодовать на Настеньку, так мне жаль было мечтателя.
– А как же Настенька могла поступить иначе? – спросил Лаврентий.
– Наверное, никак. Но сколько она ему горя принесла!..
– Но и радости сколько. Разве он согласился бы не знать ее?
Они так увлеклись разговором, что отстали от всей компании, одни вошли в парк и стали подниматься в горку по средней аллее. В конце ее, на скамейке, их ожидал юный студент.
– Я от них сбежал, – сказал он, улыбаясь: – всё по-французски трещат, а я ничего не смыслю. Позвольте мне идти с вами, Ольга Алексеевна.
– Конечно. – Она оперлась на его руку и через несколько шагов, пройденных в молчании, обратилась к Лаврентию: – Так, значит, вы никогда не бывали на месте дуэли? Тоже романтическая повесть, только с куда более печальным концом.
– Дуэли Пушкина? А разве это здесь? – встрепенулся Серяков.
– Нет, то на Черной речке, версты три отсюда, пожалуй. А здесь, в парке, место дуэли Чернова с Новосильцевым. Никогда о них не слыхали?
– Нет, – сознался Лаврентий.
– Тогда пойдемте, я вам все расскажу и покажу, – сказала Оленька. – А вы, Мишель, верно, слышали уже эту историю?
– Слышал давно от Александра Петровича, с ваших же слов, но охотно еще раз послушаю, – ответил студент.
Серякову показалось, что при имени Александра Петровича Оленька нахмурилась, но тотчас отвернулась, чтобы скрыть это.
За деревьями показались белые здания. Шедшая далеко впереди компания уже приближалась к ним.
– Вон и Лесной корпус, – сказала Лаврентию Оленька. – Но нам нужно идти не туда, а почти к самой дороге.
Свернули в другую аллею, спустились под горку, обогнули пруд, опять углубились в парк и наконец сошли с дорожки. Молодые деревья обступили и разъединили их. Пятна вечернего солнца, пробиваясь сквозь листву, пестрили платье и кружева на плечах шедшей впереди девушки.
– Вот здесь, смотрите, – сказала она, останавливаясь.
Они были почти в углу парка. С одной стороны, шагах в десяти, за деревянным забором, пролегало Выборгское шоссе. С другой, много дальше, за таким же забором, виднелся желтый двухэтажный каменный дом, из-за которого высилась колокольня небольшой церкви.
– Видите круглую плиту в траве? – спросила Оленька. – Тут стоял бедный Чернов. А вон там, за дубком, – вторая такая же. С того места стрелял Новосильцев. Расстояние – восемь шагов.
– Но из-за чего же они поссорились? – не выдержал долгого вступления Лаврентий.
– Я сейчас расскажу, что в детстве слышала, – продолжала девушка. – История эта не короткая, а потому вы устраивайтесь здесь. – Она указала на землю около себя и сама опустилась на каменную плиту.
Студент и Серяков сели на траву, и Оленька начала рассказ.
В 1823 году в Могилеве родовитый гвардеец Новосильцев познакомился с семьей генерала Пахома Кондратьевича Чернова. Этот генерал выслужился из солдат благодаря отчаянной храбрости, выказанной во многих войнах. У Чернова была красивая дочь, Екатерина, и сын Константин, юный офицер. Новосильцев, посланный в Могилев по служебным делам, увидел Екатерину Чернову в церкви, стал бывать в доме ее родителей и через несколько недель посватался. Предложение приняли, состоялась помолвка, и жених уехал в Москву, где жила его мать, чтобы получить ее благословение. Но чванная и богатая аристократка, урожденная графиня Орлова, и слышать не хотела о таком браке. «Чтоб моей невесткой была внучка поротого мужика, какая-то Чернова, да еще Пахомовна!»– возмущалась она. Сын не сумел настоять на своем, да, видно, и образ могилевской красавицы уже потускнел в его памяти.
Черновы тщетно ждали его возвращения. Прошло три месяца. Отец невесты написал Новосильцеву, прося объяснить поведение, бросающее тень на доброе имя девушки. Ответа не последовало. Могилевское общество шушукалось, что гвардеец отказался от невесты неспроста. Брат ее, офицер Семеновского полка, почел себя обязанным вступиться за честь сестры. Узнав, что Новосильцев в Петербурге, он встретился с ним и заявил, что Черновы уже не хотят этого брака, и требовал только, чтобы Новосильцев съездил в Могилев и при свидетелях получил официальный отказ от самой Екатерины, – тогда ее доброе имя будет восстановлено. Слабохарактерный аристократ сознался во всем Чернову, обещал выполнить то, что от него требовали, и опять не исполнил обещания.
Вскоре генерал Чернов умер, и его вдова с дочерью переехали к сыну в Петербург. Здесь Новосильцев стал вновь бывать у них и влюбился пуще прежнего. Опять отправился он в Москву, но вновь встретил сопротивление матери и, сказавшись больным, малодушно не извещал ни о чем Черновых. Взбешенный Константин поехал в Москву, явился к Новосильцеву, назвал его бесчестным человеком и вызвал на поединок. И опять Новосильцев заверил брата своей невесты, что все улажено, и назначил срок свадьбы. Он даже представил Чернова своей матери, которая испугалась за жизнь своего детища и приняла Чернова как родного.
Но назначенный срок прошел, Новосильцев медлил и вдруг вызвал на дуэль Константина. До него дошли слухи, будто бы брат невесты говорил перед отъездом в Москву, что заставит его жениться. Чернов принял вызов, но решительно отвергал возводимое на него обвинение. Тем, кто брался вновь уладить дело без пролития крови, он говорил:
«Мог ли я желать себе зятя, которого нужно вести к венцу под пистолетом? Но нельзя допустить, чтоб богатство и чванливая спесь оскорбляли ни в чем не повинную девушку. Я буду стреляться насмерть с обидчиком моего семейства».
Противники съехались на окраине рощи Лесного корпуса ранним утром в сентябре 1825 года. Новосильцев был ранен в живот, Чернов – в голову. Секунданты на руках перенесли Новосильцева в харчевню, стоявшую у большой Выборгской дороги, где он через сутки и умер. Чернова увезли в его квартиру в казармах Семеновского полка. Он мужественно выдержал мучительную операцию, но также скончался через две недели.
– Похороны Чернова были страшно многолюдные, – рассказывала Оленька. – За гробом его шли все, кто возмущался деспотизмом чванной старухи, сгубившей сына и ни в чем не повинного юношу. Первыми шли секунданты Чернова – его двоюродный брат, известный поэт Рылеев, и писатель Бестужев-Марлинский, которым самим скоро предстояло так много выстрадать. А за толпой провожавших ехало множество карет с дамами. В одной из них плакали мать и сестра бедного героя. А тело Новосильцева увезли в Москву и похоронили в родовом склепе под плитой с раззолоченными гербами.
– Каково-то было матери Новосильцева! – вздохнул студент.
– Она долго горевала и каялась – сын-то был единственный, – продолжала рассказчица. – Вот она и построила церковь на месте той харчевни у дороги, где он умирал, а рядом – богадельню. И камни велела положить на тех самых местах, где они стояли и были смертельно ранены…
– Верно, старуха ужасно мучилась, – отозвался и Серяков, взволнованный рассказом Оленьки.
– Конечно, мучилась, – как бы нехотя согласилась она. – Но подумайте, сколько людей сгубила! Сына, Чернова, девушку бедную, которая в монастырь, говорят, пошла, их мать, ослепшую от слез… Разве это богадельней загладишь?
– Оленька! Мы едва вас нашли! – раздался с дорожки голос Александры Дмитриевны, и между деревьями замелькали платья дам.
– Идемте, мы направляемся домой!..
И на этот раз Лаврентий простился у крыльца голубого домика и поспешил на Озерный.
Шагая длинной дорогой, он вспоминал слышанный нынче рассказ. Вот и опять промелькнули те, чью память так чтил Архип Антонович и чтил недаром…
Потом стал думать, что, конечно, и теперь матери-аристократки норовят породниться только с богатыми и знатными, а остальных людей презирают и унижают… Да разве только матери охраняют от чужаков свое сословие? «В баре лезешь?!» – вспомнилось ему восклицание взбешенного Корфа. «Кто тебя сюда впустил?» – вторил полковник в Эрмитаже… Что ж, пожалуй, и сегодня пора ему подумать, место ли солдатскому сыну в этом барском кружке. Александрина – генеральша, Оленька – чиновничья дочка… В лучшем случае его ждут снисходительные взгляды. Впрочем, судя по сегодняшнему рассказу, Ольга свободна от дворянского чванства… Или зря об этом сейчас думать? Ну, почувствует малейший намек – и уйдет от них без сожаления…
В следующее воскресенье Лаврентий застал общество, состоявшее из нескольких барышень, живших по соседству, и молодых чиновников и студентов в палисаднике перед домом. На вкопанном в землю столике играли в лото. День был пасмурный, решили не гулять и вскоре перешли в гостиную: пили чай, играли в фанты, в колечко и танцевали.
Среди малознакомых людей Серяков только вначале чувствовал себя стесненным. Вскоре это ощущение прошло, верно потому, что главная хозяйка, спокойно-повелительная Александра Дмитриевна, сказала Лаврентию несколько любезных фраз о том, что много слышала о нем хорошего от Наполеона Антоновича, а Оленька явно взяла его под свое покровительство. Она выбирала Лаврентия в фантах, танцевала с ним чаще, чем с другими, и с интересом расспрашивала о занятиях в академии, о профессорах, о тех художниках и писателях, которых видел. Особенно заняли ее рассказы о скульпторе Клодте, о Глинке, чьи романсы она очень любила. Когда Серяков рассказал ей, как его взволновал «Жаворонок», Оленька, казалось, поняла с полуслова и так ласково, сочувственно глянула, как, право, еще никто никогда на него не смотрел.
В этот же вечер Лаврентий познакомился с титулярным советником Недоквасовым, краснощеким крепышом неопределенного возраста, служившим в канцелярии Лесного корпуса. Пригласив Серякова в маленький кабинетик, где не видно было книг и бумаг, но под столом стояли торговые весы и медный горнец, Недоквасов предложил гостю трубку и похвалил за то, что не курит. Затем осведомился, сколько получает жалованья, и, помолчав, распространился о том, где и почем покупает всякую провизию.
Затосковавшего Серякова выручила Оленька – позвала в гостиную, где для кадрили не хватало кавалера.
В один из вечеров на следующей неделе Наполеон зашел к Лаврентию, чтобы вновь излить восторги перед умом и красотой Александрины. Но и к прежним рассказам об Оленьке он добавил новый.
Существовал некий студент, по имени Александр Петрович, который ходил за ней неотступно два года, явно ей нравился, и все полагали, что они непременно поженятся. Но весной, вскоре после того как молодой человек окончил Медико-хирургическую академию, произошел разрыв. Окружающие ломали голову над его причиной, но знала ее только поверенная Оленькиных тайн, Александрина.
Узнал под величайшим секретом и Наполеон, верный приближенный своей генеральши. Все случилось оттого, что, уже получив согласие Ольги, Александр Петрович в самый канун отъезда для свидания с родными в Саратов обмолвился, что ему предстоит добиться разрешения на брак у своего отца, чиновника. Родители написали недавно, что прочат ему богатую невесту. Оленька осведомилась, знал ли он о планах родителей раньше. Он ответил, что слышал, но, пока не окончил курса, и речи о браке всерьез не было. И тут Оленька очень рассердилась, почему не сказал об этом раньше – ведь они столько разговаривали о его родных. А теперь она поставлена в какое-то унизительное положение – судьба ее зависит от того, сумеет ли он отказаться от другой невесты. Упрекнула жениха в том, что должен был раньше дать понять родителям, если ему действительно чужды их расчеты. Она выпытала от ошеломленного ее словами Александра Петровича, что саратовская невеста недурна собой, дочь статского советника и с большим приданым. И тут уж наговорила, что не потерпит никаких жертв, что он, может, будет потом раскаиваться, женившись на бесприданнице, и почти выгнала из дому.
По мнению опытной Александрины, происшедшее было не более как ссора влюбленных. Оленька погорячилась, и, верно, все бы уладилось, если бы Александр Петрович не уезжал на другой день, еще не успев остынуть от обиды.
Свой рассказ Кюи закончил так:
– Конечно, она много плакала, но только наедине с Александриной, сильно похудела и сразу стала куда серьезнее. Приятель Александра Петровича – вы его там не раз видели, юный такой студент, – иногда пытается заговорить с ней об уехавшем, верно по его же просьбе, но Оленька и слышать ничего не хочет… Вот мы с Александрой Дмитриевной и решили, что вам нужно все это знать, чтоб не сказать чего невпопад, не задеть больную струнку…
Лаврентий поблагодарил Кюи за предупреждение и, когда тот вышел, прежде всего подумал:
«Так вот почему она с такой горечью рассказывала новосильцевскую историю! Судьба с ней самой сыграла нечто похожее… Только, наверное, здесь Александрина не права – навряд ли Оленька зря погорячилась. Не похоже, чтобы она могла незаслуженно обидеть человека…»
Еще четыре воскресных вечера, благо в академии из-за холеры начало занятий было отложено, Серяков провел в прогулках по окрестностям голубого домика или танцуя под его гостеприимным кровом и возвращался оттуда вместе с Наполеоном далеко за полночь.
Оленька была первой девушкой, с которой он говорил, как с равной, с которой чувствовал себя легко и свободно. Разговаривая с ней или танцуя, он смотрел в милое, оживленное лицо, слушал ласковый голос и чувствовал душевный подъем, становился словоохотлив и остроумен. Около нее ему было так хорошо, что не замечал бегущих часов и всегда уходил домой с сожалением. Его удивляло и радовало согласие их вкусов. Когда она дала ему прочитать «Записки охотника» и «Антона Горемыку», то оказалось, что их заняло и тронуло одно и то же. Им ни разу не прискучило говорить друг с другом, и всегда за неделю накапливалось немало такого, что хотелось рассказать в воскресенье.
Оленька ни от кого не скрывала своего интереса к жизни Серякова. Как только он приходил и здоровался, она спрашивала:
– Ну, что у вас нового? Что гравировали, что прочли, кого видели? – И, не обращая больше внимания на других гостей, отводила в сторону, чтобы расспросить и рассказать самой.
Даже Лаврентий, малознакомый со светскими обычаями, сказал ей однажды:
– Не обиделись бы другие гости, Ольга Алексеевна, что вы только со мной разговариваете.
Но она ответила, не задумываясь:
– Да я ведь до вашего прихода три часа их занимала. Пусть-ка теперь Александрина потрудится. Мне с ними скучно, я наперед знаю, что кто скажет. Пусть себе хором романами Дюма восхищаются, а я с вами поговорить хочу.
Очевидно, взаимное расположение заметили теперь уже все члены воскресной компании. Оленьке и Лаврентию не мешали разговаривать в палисаднике или в гостиной, а на прогулках они всегда шли рядом. Заметил это тяготение и дядюшка Недоквасов, потому что, вновь зазвав Серякова в кабинет, где с прошлого раза прибавился строй четвертей с наливками на подоконнике, завел прямой разговор о его будущем.
Лаврентий так же прямо рассказал о своем неопределенном положении:
– По закону я нижний чин из кантонистов, числюсь вроде как в откомандировке. В любую минуту, если высшее начальство прикажет, превращусь опять в унтера-топографа. Очень хочу стать художником, но учиться еще предстоит года три. А за это время всякое может случиться. Конечно, я надеюсь, что, окончив академию, освобожусь навсегда от военного сословия. Но кто же знает, дадут ли курс кончить? Может, все-таки придется послужить еще топографом, пока не произведут в офицеры…
– А чем плохая служба офицера-топографа? – возразил дядюшка Недоквасов. – Мне говорили, можно немалые деньги получить сверх жалованья за планы имений, которые летом, когда топографы на съемках, заказывают помещики. И зимой, в городе, тоже часто домовладельцы в них нуждаются. А про художников, я слышал, будто очень бедно живут…
Тут в кабинет вошла Оленька и, послушав с минуту, сказала с явной досадой:
– Боже мой, дядя Митя, вам-то что до всего этого? Пойдемте, Лаврентий Авксентьевич, смотреть, как monsieur Глухов будет показывать китайские тени…
Ночью, придя домой, Серяков впервые задумался о том, что может случиться дальше. По дядюшкиным словам, ясно видно, что в доме, должно быть, они с Александриной обсуждают его как возможного жениха Оленьки… Слов нет, она ему с каждым разом все больше нравится, все радостней отправляется он на Выборгское шоссе. Наверное, так именно и приходит настоящая любовь. Но при всем этом разве может он сейчас думать о женитьбе? Заработки неверны, будущее неизвестно. Жена унтер-офицера? Смешно сказать… Оленька – чиновничья дочка, барышня с пансионским образованием, говорит и читает по-французски. Пусть и это все не препятствие, если б она его полюбила, а он стоял на твердой дороге. Но дорога-то ведь какая зыбкая! Может ли он за собой кого-то тянуть, когда сам как по канату ходит, того и гляди сорвется!
Понял ли это сегодня Дмитрий Петрович? Не обманывает ли всех и он сам – «почти офицер и почти художник», как представил его глупый Кюи? Хорошо еще, что сама Оленька ясно понимает его положение – он ей все рассказывал. Но кто ж ее знает?.. Может, честнее будет перестать ходить в голубой домик? Или еще раз поговорить с ней?..
Следующее воскресенье выдалось дождливое, опять все не выходили из гостиной, играли в лото, танцевали, и поговорить не было возможности, да и не хотелось портить счастливые часы. Оленька была оживлена, очень внимательна к Серякову и на прощание сказала:
– Приходите пораньше в воскресенье, пообедайте у нас, пожалуйста… Сегодня мы двух слов с вами не сказали… – и крепко пожала ему руку.
А в субботу, когда Лаврентий после вечера, проведенного на Озерном, собирался ложиться спать, к нему вошел явно взволнованный Кюи.
– Мне нужно сообщить вам известие, которое, наверное, вас очень расстроит… – начал он, краснея и смотря в сторону.
– Что такое? Случилось что-нибудь у Недоквасовых? – встревожился Серяков.
– Нет, но скоро случится! – уже совсем трагическим голосом отвечал Наполеон. – В следующее воскресенье Ольга Алексеевна выходит замуж, и вас просили быть гостем на ее свадьбе.
Лаврентий постарался скрыть охватившее его волнение и растерянность.
– За кого же и отчего так спешно? – спросил он.
– За своего прежнего жениха, Александра Петровича, – отвечал Кюи. – Представьте, в среду он явился к Недоквасовым без всякого предупреждения, прямо с дороги, какой-то словно выгоревший весь, лет на десять старше, чем был… Он все лето лечил холерных в своем родном городе, а теперь получил место в Туле и приехал вновь просить Оленьку выйти за него замуж… От отца своего привез ей письмо – просит о том же… А у него самый кратковременный отпуск – всего две недели… – Тут Наполеон взглянул на Серякова и забормотал виноватым голосом: – Мне, право, так тяжело, любезный Лаврентий Авксентьич, потому что это я ввел вас в их дом… А вы, сами не замечая, может быть, и почувствовали что-нибудь… этакое…
– Ничего, ничего, не беспокойтесь, Наполеон. Я все понимаю, – отвечал Серяков.
Кюи взглянул еще раз ему в лицо и поторопился уйти, сказав, что скорее должен ложиться – завтра ему, будущему шаферу, предстояло немало хлопот.
Оставшись один, Лаврентий потушил свечу, распахнул окно и сел на подоконник.
Сейчас, когда узнал, что Оленька для него навсегда потеряна, когда почувствовал такую острую боль, что едва скрыл ее от Наполеона, он вдруг понял, что, видно, и вправду полюбил. Весь мир отступил куда-то, осталась только эта боль, навалившаяся непомерной тяжестью, от которой некуда было уйти.
И снова клял свою солдатскую долю, что лишала его даже права на мысли о любви, о женитьбе… Ведь недаром им так хорошо было вместе и с каждым разом все лучше. Видно, и Оленьке он был ближе других, верно и она, зная все о его положении, не давала воли своему сердцу… Неспроста этот лекарь сейчас приехал – наверное, написал ему тот студент, чтоб поторопился, а то навек потеряет ее…
Серяков смотрел в темноту безмолвного двора, на крыши домов, уходившие вдаль, на звезды и не видел ничего, кроме Оленьки, такой бесконечно милой и желанной. В первый раз за много лет его искусство, матушка, академия – все, чем жил, о чем постоянно думал, перестали существовать, всего его захватило горе, боль и гнев на свою судьбу.
И эту ночь и следующий день Лаврентий то сидел на окне, то ходил из угла в угол, то ложился на кровать в своей комнате. Не открыл на звонки Антонова – только он один и мог так долго звонить у двери, присланный обеспокоенной отсутствием сына Марфой Емельяновной. Но никого не хотелось видеть. Нужно было побыть одному, скрыть от всех то, что чувствовал.
Поздно вечером Кюи постучал к Лаврентию, передал запечатанный конверт и, ни слова не сказав, поспешно ушел. Серяков развернул набросанную карандашом, видно наспех, записку.
«Лаврентий Авксентьич! Я знаю, что виновата перед вами. Верьте одному – вы мне были как родной человек с самого первого взгляда. Вы, наверное, это сами заметили, потому что я не умею нисколько притворяться. Я думаю, если бы мы еще ближе познакомились и вы сочли меня достойной, я не посмотрела бы ни на что и ждала бы вас, сколько нужно, хоть годы. Но А. П. приехал… Он ни в чем передо мной не виноват, я была к нему несправедлива. Простите меня и поверьте, мне самой сейчас нелегко. Но иначе поступить не могу. Желаю вам счастья и знаю – вы будете большим художником.
О. Н.».
«Видно, вчера Кюи все-таки что-то заметил и рассказал ей», – подумал Серяков.
И опять он запер двери, дунул на свечу и зашагал в темноте по комнате. Эх, доля проклятая! Ведь чувствуй он себя полноправным человеком, не держи себя все время на тугом поводу, – стал бы чаще видеть Оленьку и, может, осилил бы этого Александра Петровича… Но она-то не виновата перед ним, не виновата, как Настенька… Добрая, благородная душа, сама пишет, что ждала бы его сколько нужно… А вот и не пришлось ждать… До чего же все похоже на «Белые ночи», просто удивительно! Недаром так было близко обоим, так брало за душу… Только одного и Достоевский не придумал: все-таки его мечтатель – человек свободный. Но и подневольный солдат при всей нынешней боли не жалеет, что встретил Оленьку…
За неделю Лаврентий немного справился с собой, хоть не раз бывало, что штихеля валились из рук, хоть осунулся так, что все замечали и спрашивали о здоровье. После долгих колебаний решил идти на свадьбу – пусть Оленька видит, что рад ее счастью, пусть не будет у нее тяжело на сердце.
Венчали в новосильцевской церкви. Серяков стоял далеко от новобрачных, за пришедшими поглазеть соседками и богаделками, и не рассмотрел как следует жениха. И к чему ему знать, каков этот счастливый молодой лекарь? Видел только, что рослый, худощавый блондин стоит рядом с Оленькой, там, где так хотел бы стать он сам… Нужно было собрать все силы, чтобы простоять здесь весь обряд, не дать никому заметить, что с ним творится.
В голубом домике было шумно и тесно. Оленька в белом шелковом платье была очень красива, но показалась Лаврентию бледной и не такой сияющей, как, бывало, здесь же, совсем недавно, во время фантов или танцев.
Когда в череде гостей Лаврентий подошел чокнуться с молодыми шампанским, Ольга посмотрела ему в глаза прямо и твердо и сказала только одно слово: «Спасибо». Но ему показалось, что прозвучало это слово иначе, чем сказанные другим, – поблагодарила не за поздравление, а за то, что простил ей свою боль и пришел.
Он пил и ел, сколько было нужно, танцевал со многими барышнями, но в самый разгар веселья ушел через кухню, чтоб никогда больше не приходить сюда.
На другой день Кюи зашел к нему вечером и сказал несколько прочувствованных фраз о мужестве и самообладании. Но, увидев строгое лицо Серякова, поспешил пожать ему руку и, пробормотав совсем невпопад что-то невнятное о красоте Александрины, оставил его одного.
…С 1 октября занятия в академии и гравирование заняли Серякова так, что, казалось, некогда стало думать о чем-нибудь, кроме повседневных работ. Но еще долго в классах, в мастерской и дорогой на Васильевский остров вставали перед ним картины недавнего прошлого. Образ Оленьки лишь медленно-медленно отступал в тень, недавняя боль сменялась грустью.
Думала и Марфа Емельяновна о случившемся в жизни сына. Материнским чутьем с того воскресенья, когда не зашел на Озерный вечером, она поняла, что в жизнь Лаврентия вошла девушка. Не раз, придя раньше обычного обедать, он спешил идти к новым знакомым на Выборгскую сторону, а в лице его появилось небывалое выражение оживленности и счастливого беспокойства. Уж она-то по себе знала, что значит этот отблеск счастья, это нетерпеливое ожидание. Разве не так же год назад ждала она своего седого Архипа Антоныча? И вдруг все потухло. Она ничего не спрашивала и почти все поняла. Как солдату жениться! Что хорошего принесет он девушке? И опять горько упрекнула покойного мужа, что, по своей вине, угодив под красную шапку, обрек и сына на ту же долю.
В середине октября в артель возвратился Линк, и все стало очень похоже на прошлую осень. Так же Лаврентий, уходивший чуть свет в академию, заставал товарищей за граверным столом, так же после второго похода в классы он досиживал свои часы уже один, при лампе. Но реже бывало весело в мастерской, меньше рассказывал и шутил Клодт, реже заезжал вдруг постаревший, озабоченный, торопливый Башуцкий. Лаврентий заметил – редактор не так уже гладко говорит и чаще прикрывает глаза, собираясь с мыслями. Александр Павлович все толковал теперь о новых заводах художественной бронзы герцога Лейхтенбергского и купца Шопена, произведения которых будто не уступают лучшим французским. Однажды на ломовике привезли целый ящик образцов – золоченых чернильниц, канделябров, масляных ламп, настольных колокольчиков, – и Серяков рисовал, а Линк гравировал их для статьи Башуцкого, прославлявшей успехи отечественной промышленности.
Дела изредка заходивших за небольшими заказами Агина и Бернардского шли плохо, цензура запретила многие новые гравюры к «Мертвым душам».
Некоторое оживление в вечернюю жизнь артели вносил Петр Карлович Клодт, работавший теперь над барельефами для памятника Крылову в Летнем саду. Уже несколько месяцев в мастерской его жили медвежонок, волк, лиса, обезьяна и ворона. Клодт любил животных, умел наблюдать их, его карандаш за граверным столом набрасывал целые пантомимы из маленьких выразительных фигурок. Обычно неразговорчивый, он оживлялся и становился красноречивым, рассказывая о своих «натурщиках». Особенно заняли слушателей приключения медвежонка-подростка, свободно гулявшего по мастерской. Однажды поздно вечером мишка выбрался на улицу через форточку, которую сторож позабыл закрыть. Выйдя на пустынную набережную Невы, медвежонок сначала побродил в одиночестве, но потом увидел встречного человека и направился к нему, чтобы поиграть. Шедший из гостей мастеровой перепугался до полусмерти, увидев поднявшегося на задние лапы медведя, и бросился бежать. Но мишка не отставал и следом за парнем вломился в двери подвала на 3-й линии, где жило несколько мастеровых. На счастье, среди них оказался один из формовщиков академии. Он узнал клодтовского питомца и отвел его в мастерскую, предварительно угостив стаканом водки.
Больше всего этой истории смеялся простодушный Кюи, и Лаврентий с удовольствием смотрел на его оживившееся лицо. В последнее время Наполеон как-то присмирел и побледнел – видно, и у него что-то не ладилось на Выборгской стороне.
Вечером во время прогулки – они по-прежнему изредка гуляли вместе перед сном – Серяков сказал Линку:
– До чего же будет рад Архип Антоныч, что его любимому писателю собираются ставить памятник!
– Да, это хорошо, – согласился, без всякого воодушевления Генрих Федорович. – Но знаете, Лаврентий, у нас Крылова желают понимать только как поучительного детского сказочника. Поэтому именно в Летнем саду памятник поставить решились. А Пушкин, Грибоедов и Лермонтов долго еще монументов от благодарного потомства не дождутся. Навряд ли мы с вами их увидим…
– Ну, почему же, – возразил Серяков. – Портреты и книги их продаются, их любят, читают…
– Продаются у нас всё более портреты царей и цариц, господ министров, генералов и всяких сановников – такие покупают охотно купцы, офицеры и чиновники. И читают у нас только в городах, население которых составляет пять процентов всех подданных империи, а для прочих грамотность при крепостном праве почитается вредной… Впрочем, вы, пожалуйста, о таких материях не думайте. Ваша задача пока одна – чтоб в академии все шло как по масленице. Как у вас там?
Но Серяков не мог не думать. Каждое оброненное Линком замечание присоединялось к тому, что раньше слышал и читал, обдумывалось во время долгих походов на Васильевский остров.
А в академии все шло своим чередом. Профессора хвалили рисунки Лаврентия, неизменно ставили ему первые номера, и в этом году он надеялся перейти в натурный класс.
«Только бы дали окончить курс, только бы подольше не вспоминало обо мне военное начальство!» – думал он постоянно. Однако начальство о нем не забывало. В ноябре Серякова вызвали к Григоровичу.
– Как, батюшка, хотел бы ты послужить в батальоне кантонистов учителем? – спросил конференц-секретарь.
Сердце Лаврентия замерло. Что же это? Ведь шесть лет назад он едва вырвался из учителей в писаря, когда пешком с арестантами пришел из Пскова в Петербург. Неужто все начинать сызнова?
Видно, мысли его отразились на лице.
– Не очень, кажется, тебя такая карьера прельщает, – усмехнулся Григорович. – Говори прямо, хочешь или нет?
– Никак нет, ваше превосходительство, – заторопился Серяков. – Ведь это, поди, будет означать конец моему здешнему учению.
– Так же и я думаю, – кивнул конференц-секретарь. – Запрашивает барон Корф, можно ли назначить тебя учителем в учреждаемое при здешнем батальоне кантонистов граверное заведение. Конечно, ты мог бы там обучать мальчишек, да на занятия, верно, времени не оставалось бы… Вот я и отпишу барону, что совет академии находит необходимым оставить тебя всецело здесь в связи с отличными успехами.








