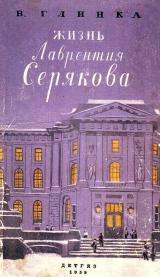
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
– Эх, Василий Иванович! «Деревяшки», «профанация»… По-прежнему поборник «чистого искусства»! Ему до книг, до журналов и дела нет… Однако как же нам поступить? Академический диплом вам нужнее всего на свете. Но и нам ваш штихель терять не годится… Завтра же поговорю с Башуцким. Мы, пожалуй, сбавим вам жалованья рублей пятнадцать, и будете ходить два раза в день в академию. А днем и вечером гравировать – в общей сложности часов семь. Выдержите?
– Выдержу, – твердо сказал Серяков.
Теперь дни замелькали еще быстрее: академия – артель, опять академия – артель. Рисунок – там, гравирование – здесь. Отоспался в воскресенье, повидал матушку и Антонова – и опять пустил завод на неделю.
– Хорошо, что вы крепкого сложения и ходите пешком, так что моцион и свежий воздух вас укрепляют, – говорил Линк, заходя к Лаврентию перед сном. – Другой от таких ежедневных трудов, пожалуй, схватил бы чахотку, а вы вполне здоровым выглядите.
Жаль, однако, что вам совсем некогда почитать. Когда я жил вместе с сестрой, то вечером ей читал вслух, и она так привыкла, что теперь мужа перед сном ей немного читать заставляет… Вот я принес один номер «Современника», здесь напечатан рассказ Тургенева. Прочтите при случае, Белинский его очень похвалил… А я теперь, знаете, каждое воскресенье в Публичную библиотеку хожу иностранные журналы рассматривать. Там много по художеству и другие новости узнаю из целого мира.
Но у Серякова так явно слипались глаза, что Линку редко удавалось заинтересовать его даже восторженным рассказом о красоте и уме новорожденного племянника. Только бы добраться до постели да не проспать завтра первого стука дворничихи, не опоздать в академию…
Разнообразили такое существование только вечерние разговоры в мастерской.
Сюда, чтобы повидать своего учителя Клодта и давнего приятеля Линка, еще летом иногда заходили гравер Евстафий Бернардский и его неразлучный друг, рисовальщик Александр Агин. Несмотря на молодость – обоим было лет по тридцать, – они вдвоем создали уже множество отличных иллюстраций. Последние два года друзья работали над большой серией рисунков к «Мертвым душам», которые выпускали отдельными тетрадями. Но, хотя гравюры были выразительные, острые и живые, а цена весьма умеренная, продавались они плохо. Надеявшиеся на успех авторы-издатели истратили все, что имели, задолжали за бумагу, за печать. Плохо одетые, часто полуголодные, они шутили над своими затруднениями, но не прекращали работать для следующих выпусков. В декабре у них не стало дров. Однажды оба друга явились в артель «погреться» и остались ночевать в комнате Линка.
Клодт рассказал об этом Башуцкому. Агину и Бернардскому были сделаны заказы для «Иллюстрации», и они водворились в граверной. Притащив одеяла и подушки из своей нетопленной комнаты, друзья устраивались на ночь на широком столе в мастерской, столовались вместе с граверами, кредитуясь до получки у Линка, и вносили в вечерние разговоры неизменную веселость, рассказы о городских художественных новостях и своих замыслах.
Для Серякова работа этих художников представляла немалый интерес. Бернардский резал артистически, с удивительной свободой и точностью повторяя рисунки своего друга. Но еще более поразило Лаврентия, как рисовал Агин. Для пустячного рисунка последней страницы «Иллюстрации» – карикатуры, изображавшей чиновников, выходящих из департамента, – он сделал пять вариантов. И, когда Клодт заметил, что это излишне – и первый был очень хорош, Агин ответил, как бы извиняясь:
– Не умею иначе, Константин Карлович. Не успокоюсь, пока не почувствую, что лучше сделать не смогу.
Через две недели друзья разжились деньгами, купили дров и перебрались домой, но продолжали получать заказы для «Иллюстрации» и часто заходили в артель по делам или просто вечером «на огонек», посидеть в мастерской.
Как-то, уже в феврале, Бернардский принес показать Клодту оттиск с только что оконченной им гравюры к «Повести о капитане Копейкине». Лаврентий был поражен ее художественной и обличительной силой. Перед устланной ковром и украшенной живыми растениями лестницей стоит жалкий капитан-инвалид, безрукий, безногий, облаченный в затрепанный военный сюртук. Он пришел просить вельможу о пенсии, он заслужил эту пенсию кровью, пролитой за отечество. Ошеломленный роскошью дворца, еще здесь, в прихожей, снял он измятую фуражку. Хотя до приемной еще далеко, но уже ясно, что ждет просителя наверху. На возвышении восседает в покойных креслах важный швейцар, разодетый, как павлин, при шпаге и с булавой. Он неторопливо нюхает табак, не удостаивая вошедшего ни малейшим вниманием.
На Клодта картинка произвела такое же впечатление, как на Серякова.
– Пропустит ли цензура? – спросил он, не отрывая глаз от выразительных фигур. – Ведь это просто какой-то поединок беззащитной бедности с наглым и самодовольным равнодушием. Это обвинение бюрократии.
– Бог милостив, – улыбнулся Бернардский.
– Бог-то бог, – заметил Линк, – но время уже не такое, как два года назад было… Цензура куда строже стала.
Когда заходила речь об академии, друзья-сотрудники убежденно критиковали ее направление, высмеивали профессоров – поборников классицизма.
В одном разговоре Агин заметил:
– Только Брюллов на голову выше остальных. Жаль, что вам, Лаврентий, не придется, видно, у него поучиться. На той неделе зашел я к нему и просто поразился: постарел, исхудал, обрюзг, глаза колючие, замученный. Какая-то серьезная болезнь его гложет.
– Да, не будь Брюллова, не видать бы Федотову признания, – согласился Бернардский. – Разве Марковы, Григоровичи и Бруни согласились бы, что Федотовские чиновники и купцы достойны одобрения академии наравне с белотелыми вакханками и фортунами их воспитанников!
– А мне говорили, что Брюллов вначале отговаривал Федотова выходить в отставку и заниматься только искусством, – сказал Клодт.
– При первом разговоре действительно он советовал ему не бросать службу, – подтвердил Бернардский. – Мне сам Павел Андреич этот разговор тогда же пересказывал. Но тут, надо полагать, играла роль уверенность, что рисунку нужно учиться с детства, как самого Брюллова учили. А с другой стороны, может быть, и то, что академическим учителям он не верит, недоволен ими.
– Уж если всерьез говорить о Брюллове, – вновь оторвался от своего рисунка Агин, – так, мне кажется, он за последние годы сам начал чувствовать ложность академического пути, рад бы вырваться из его тесных рамок, особенно не удовлетворен навязанной ему ролью иконописца в Исаакии. Да нет уже сил создать что-то новое, бороться за него… Устал, болен, в плену у нашего Петербурга, в котором не расправишь крылья… Но как раз поэтому он так горячо поддержал Федотова, когда увидел, каких успехов тот достиг, когда понял его направление, неразрывное с новой, нравственной идеей.
– А что за история вышла у Брюллова с учеником Боклевским? – осведомился Линк. – Мне говорили, что провалил хорошую программу именно за смелость идеи.
– Я ничего об этом не слышал, – сказал Клодт. – Но вы, Агин, верно, что-нибудь знаете?
– Знаю, – кивнул Агин. – Но сначала пусть Генрих расскажет, что ему передавали.
– Мне передавали, что Боклевский сделал отличный эскиз «Тайной вечери», на котором Христос за трапезой с учениками не сидел в комнате, как принято изображать, а возлежал на плоской кровле восточного дома, на коврах, под темным звездным небом. И будто Брюллов за это отступление от канона разбранил его и последний номер поставил.
– Вот как все можно повернуть, – развел руками Агин. – А мне Карл Павлович сказал, что эскиз был просто плохо нарисован и потому получил низкий балл. И я, право, этому верю, потому что не раз видел, как смелому ученику при хороших способностях Брюллов помогал, хотя бы наперекор всему совету.
– Да, и я помню, как он за Шевченко горой стоял, как радовался, что удалось его освободить от крепостной зависимости, – подтвердил Клодт. – Все тогда знали, что он написал превосходный портрет Жуковского и бесплатно отдал разыграть в лотерею на выкуп своего Тараса, чтобы тот мог в академии учиться.
– А что о Шевченко слышно? – спросил Линк. Клодт ничего не ответил, только пожал плечами. Но Лаврентию показалось, что при этом он указал глазами туда, где за работой сидели Кюи и Бернард, – не стоит, мол, при молодежи об этом говорить…
Укладываясь в постель в этот мартовский вечер, Серяков вспоминал то, что говорилось об академии. Под влиянием не раз слышанного и своих наблюдений он уже несколько месяцев думал, что действительно, видно, устарело направление той классической живописной школы, которое так недавно казалось ему совершенным. Помогали разобраться в этом и книги, в которых шла та же борьба между старыми и новыми вкусами, между Куколышком с его единомышленниками и гораздо более близкой Лаврентию так называемой «натуральной школой». Начало этой школы положили повести Гоголя, и продолжена она была Достоевским, Тургеневым и еще некоторыми из тех, кто окружал Белинского.
Но школы школами, а рисовать его в академии выучат, выучат на совесть. Серяков чувствовал, что за прошедший год стал рисовать совсем иначе. Часы работы в классах не пропали даром. А ведь это важнее всего для гравера. Вон Бернардский, поди, именно в академии научился мастерству рисунка, которое видно во всех его досках…
Лаврентий уже собирался потушить свечу, когда в комнату на цыпочках вошел Линк. От него вкусно пахло снегом и ветром – ходил проводить Агина и Бернардского. Даже не снял еще своей единственной на все сезоны холодной шинели. Видно, захотелось перемолвиться с приятелем перед сном.
– Слушайте, Генрих Федорович, – сказал Серяков, – о чем это насчет Шевченко наш барон не хотел там говорить?
– А вы разве Тараса Григорьевича знали? – спросил Линк, садясь на табуретку около кровати.
– Не знал, где же мне было? Но видел много гравюр по его рисункам и от вас же слышал, что он очень талантлив.
– Скажите – был талантлив, – грустно поправил Линк. – А теперь навряд ли что еще нарисовать сможет.
– Но что же с ним?
– Сдан в солдаты без выслуги и отправлен в Оренбургский край. Да еще строжайше запретили рисовать и писать… Он ведь и поэт еще…
Лаврентий сел на постели:
– Да за что ж? И почему в солдаты? Ведь он не крепостной больше, а свободный художник.
– От крепостного или солдата до свободного художника у нас путь долгий, а обратно можно мгновенно пролететь, – наставительно сказал Линк. – Шевченко так жестоко наказали, говорят, именно за стихи против правительства, против крепостного права… Время сейчас, lieber Серяков, очень крутое наступило… Надо и остерегаться строжайше. За любую малость схватят и такое сделают… – Он красноречиво потряс себя за воротник шинели, осыпав Лаврентия брызгами растаявшего снега.
– Отчего?
– Вот и видно, что вы газет не читаете… Нынешний 1848 год в истории особо запомнится… Во Франции недавно революция опять произошла, короля прогнали, учредили республику. А следом за тем в Вене и Берлине тоже волнения пошли.
– Ну хорошо, – сказал Лаврентий, – про это я слышал в академии, но то в Европе, а нам-то что ж? У нас ведь все спокойно.
– Ах вы, дитя в солдатской форме! – усмехнулся Линк. – Молите бога, чтоб и на нашей «Иллюстрации» все это не отозвалось. – Он потрепал приятеля по плечу, задул свечку и вышел в коридор.
Занятия в академии шли успешно, за каждый рисунок Серяков получал первые номера, и в апреле его перевели в старший гипсовый класс, где рисовали уже не головы, а фигуры и группы. Вскоре после этого он встретил в коридоре Григоровича.
– Что, батенька, проборка моя тебе на пользу пошла?
– Так точно, ваше превосходительство! Что еще мог ответить Лаврентий?
– А как же устроился с Башуцким?
– Работаю меньше и получаю меньше.
– Однако хватает тебе? Вроде осунулся малость… – Из-под нависших бровей испытующе смотрели на Серякова голубые выцветшие глаза. – При таких успехах можно в совете пособие попросить. Я поддержу.
– Покорнейше благодарю, мне хватает и так…
Денег на жизнь Лаврентию действительно вполне хватало, но к весне он стал чувствовать ужасную усталость, совсем как в зимние дворницкие месяцы. Едва заставлял себя встать вовремя по утрам, в академии и в граверной мучительно боролся с дремотой, часто засыпал за чайным столом.
– Смотрите, Серяков, так и сорваться можно, – тревожился Линк. – Позвольте мне поговорить с бароном, чтобы еще вам здесь часов убавили. Пусть платят хоть двадцать рублей. Возьмите у меня сколько нужно, а летом опять все пятьдесят получите и отдадите.
– Спасибо, Генрих Федорович, справлюсь. Через полтора месяца конец занятиям, тогда отдохну. А то ведь нехорошо получится: комнатой и прочим буду пользоваться, а работать меньше всех.
В конце мая, как-то вечером, уже после чая, Серяков сидел один в граверной и кончал очередную доску. Раздался резкий звон колокольчика у входной двери, и через минуту Кюи в халате заглянул в мастерскую:
– Не знаете, Лаврентий, Линк скоро вернется?
– Вероятно, скоро, он гуляет не более получаса. А кто там?
– К нему господин Бернардский.
Следом за Кюи в дверях показался поздний гость.
– Можно, я здесь подожду? – спросил он.
– Конечно, – сказали в один голос Кюи и Серяков.
Наполеон ушел к себе, Лаврентий продолжал работать. Он скоро заметил, что Бернардский очень расстроен. Сидит, уставившись в одну точку, и на глазах как будто слезы.
– Не принести ли вам воды, Евстафий Ефимович?
– Спасибо, не нужно… Нынче умер дорогой мне человек.
В передней стукнула дверь – со своим ключом пришел Линк.
– Что случилось, Евстафий? – спросил он с порога.
– Умер Виссарион Григорьевич, – не поднимаясь с табурета, отвечал Бернардский, и слезы побежали у него по щекам. – Агина нет в городе, уехал с братом в Кронштадт, я и зашел к вам…
Линк обнял приятеля за плечи и увел к себе.
Через полчаса, окончив работу, Серяков пришел в свою комнату. Бернардский и Линк говорили вполголоса, но через легкую переборку было слышно почти каждое слово.
– Нет, ты подумай, Генрих, – возмущался Бернардский, – всякая мерзость живет, а такой человек умирает в тридцать семь лет!
– Это, мой друг, в нашей России весьма обыкновенно… Возраст Пушкина…
– Да, да, именно… И представь, к нему в последнюю неделю два раза приходили из Третьего отделения, все требовали к генералу Дубельту…
– Тс-с-с! – зашикал Линк и через минуту спросил, еще понизив голос: – Ну, а у Петрашевского ты всё бываешь?
– Бываю, как всегда, по пятницам.
– Лучше бы вам не собираться пока, переждать несколько.
– Думаешь, следят?
– Непременно следят. Сейчас вверху ужасно обеспокоены. Чего же больше, когда Бутурлинский комитет, как мне сказали, сочинения Кантемира и Хемницера печатать Смирдину запретил… А что там такое вредное, если сто лет назад написали…
– Быть того не может!
– Очень может, – твердо сказал Линк. – Скоро, верно, ничего, кроме календарей, печатать не станут. Общество посещения бедных закрывать придумали…
– Слышал сегодня, – отозвался Бернардский.
– А что в нем предосудительного было? – продолжал Линк. – Собирались, рассуждали, сколько бедных в Петербурге. И такое уже нельзя… Теперь и подумай, как можно сравнить их собрания с вашими разговорами! У вас что ни пятница, то проекты освобождения крестьян читают…
– Так ты полагаешь…
Собеседники перешли на шепот, но еще не раз долетали до Серякова имена Белинского и Петрашевского.
Глава XI
Нелегкий год. Голубой домик
Наступило жаркое и тревожное лето 1848 года. Эпидемия холеры, о которой было слышно прошлой осенью, что валит тысячами людей на юге России, докатилась теперь до столицы. Выходя в мелочную лавочку или на Озерный, Лаврентий слышал толки обывателей, сколько и в каком доме заболело народу, читал расклеенные полицией объявления. В них настрого приказывалось пить только кипяченую воду, тщательно мыть и кипятить овощи, добавлять в питье уксусу, окуривать помещения и одежду серой, натираться камфарным маслом.
Все, кто побогаче, выехали из города по дачам и поместьям, туда, где меньше людей, где можно вернее отгородиться от мира и надеяться, что никто не занесет страшной болезни. Будочники, «хожалые» унтеры, квартальные надзиратели и прочие полицейские чины без разбору тащили в холерные лазареты всякого бледного и слабого на вид простолюдина. Тащили туда же и пьяных, хотя от самих полицейских несло водкой за сажень. Говорили, что пьяниц холера не берет, но как тут разобрать, здоровый ли человек выпил по привычке или трезвенник напился оттого, что почувствовал в себе смертельный недуг?
В народе ходили темные слухи, что воду и пищу отравляют поляки, венгерцы, французы. На рынках хватали и смертно били итальянцев-разносчиков, немцев-акробатов, тирольцев-шарманщиков – всех, что по обличью не наши и лопочут не по-русски.
По городу для порядка и устрашения круглые сутки разъезжали кавалерийские патрули. Цокот копыт по булыжнику и фырканье коней, особенно слышные ночью, сменялись скрипом казенных фур, в которых везли на кладбище засмоленные гробы из холерных лазаретов.
Линк отменил вечерние прогулки, и они с Серяковым подолгу сиживали перед сном на подоконнике в граверной, слушая эти звуки. Каждому припоминалось то, что было связано с прошлым холерным, еще более страшным 1831 годом.
Генрих Федорович рассказывал, как мучительно было видеть страдания родителей, умиравших у него на глазах, не знать, чем помочь им. Плача, стучался он к соседям, прося хоть совета, и никто не хотел даже открыть, только кричали, чтоб не касался их дверей зараженными руками. Он вспоминал, как маленькая Шарлотта цеплялась за рубашку мертвой матери, когда пьяные лазаретные служители железными крючьями тащили трупы на телегу, чтобы бросить в прибитый к ней ящик с известью.
Они жили на Вознесенском и видели в окно, как народ бежал к Сенной, где били лекарей за то, что будто они травят, а не пользуют, как нужно, больных холерой. Потом Генрих мыл полы, как научила его осмелевшая соседка, а Лотта ходила за ним по пятам, просила есть и спрашивала, скоро ли вернется маменька…
Лаврентий, которому было шесть лет, плохо помнил события жаркого лета 1831 года, когда шло восстание военных поселян. Они с матушкой жили тогда в деревне под Старой Руссой. Отец с полком ушел на польскую войну. Ночью над сожженными засухой полями плыл тревожный набат – восставшие звонили во всех окрестных селах. По улице мимо их окон ходили поселенцы с оружием из разгромленного цейхгауза, кричали, что в штабе спрятана отрава. Матушка, крестясь и дрожа, стояла перед образами, а ему наказывала спать. Наутро сосед-поселенец сказал ей, носившей городское платье: «Марфа Емельяновна, царский указ пришел, чтоб всех господ бить. Надевай-ка сарафан, а то, не ровен час, и тебя в реку бросят».
Этих слов Лаврентий так испугался, что накрепко припал к материнским коленям.
Но гораздо лучше запомнилось ему, как за десять убитых в их округе офицеров и лекарей чиновники, приехавшие из Петербурга с отрядом казаков, арестовали и забили в колодки триста поселенцев. Каждая пятая изба превратилась в тюрьму. А после восьми месяцев заключения, великим постом, триста приговоренных наказывали плетьми и шпицрутенами на двух плацах за селом.
Хоть матушка запрещала, он с товарищами побежал смотреть на казнь. Ох, уж лучше бы не бегал! До сих пор не забыть привязанное к деревянной кобыле обвисшее тело со вздутой синей спиной. Палач после каждого удара полной горстью смахивает кровь с ременного кнута. Десятки исхудалых, обросших бородами людей ждут под конвоем той же участи… А на другом плацу полторы тысячи солдат резервных батальонов били шпицрутенами своих отцов и братьев-поселян. Сквозь плотный строй серых шинелей доносился до толпы односельчан, согнанных смотреть на экзекуцию, прерывный хриплый крик: «Братцы, помилосердствуйте! Братцы, простите!..»
Вытянулись на снегу желто-синие вытащенные за фронт покойники, едут мимо дровни, покрытые рогожей, те самые, что вспоминал он перед страшной картиной Бруни…
– Что ж, значит, что тут было, то и там… – задумчиво сказал Линк, прослушав рассказ Лаврентия. – Конечно, народ наш невежественный – «отравители», «яд» и прочие глупости. Но холера есть только предлог. Накопилась ненависть и брызжет на тех, кому не доверяют, кто, по мнению простолюдина, на все способный, – на господ и приспешников их. Я не сомневаюсь, кто сейчас пускает слухи об отравителях французах, венгерцах, о всех ненавистных правительству нациях… Я полагаю, Лаврентий, что их пускает не кто иной, как сама полиция.
– Зачем, Генрих Федорович?
– Чтоб отвести глаза народу, отклонить гнев его от себя, от господ своих, от тех, кого ненавидят за вековое угнетение… Константин Карлович отправил в село Мурино свою семью и столовался вместе с граверами. Клодтовская кухарка готовила на всю артель под строгим надзором самого хозяина и нередко при помощи доморощенного кулинара Кюи.
Лаврентий не боялся холеры, ел за двоих, спал крепко, но постоянно тревожился за Марфу Емельяновну и Антонова. Раза три в неделю бегал он после работы на Озерный. А они были неизменно бодры и дружны, но боялись за него еще много больше, чем он за них.
В июле заболела сестра Линка, и он, бросив работу в артели, переехал к ней на Пески. Шарлотту удалось выходить, заболевание оказалось не сильным, но вслед за нею захворал ее муж. Генрих превратился в сиделку и няньку: надо было помогать едва вставшей с постели сестре в уходе за больным и за полугодовалым племянником. Наконец поправился и муж Шарлотты, но Линк остался до осени жить на Песках, работая там для «Иллюстрации».
Башуцкий все лето исправно навещал артель – в этом году он проводил лето в городе. Петергоф был оцеплен противохолерными военными кордонами, и ездить туда каждый день не разрешалось. Серякову казалось, что Александр Павлович как-то потускнел, то ли от общих тревог, то ли от неуспеха журнала, который, по верному предсказанию Линка, а может, из-за холеры стал расходиться куда хуже, чем при Кукольнике.
Бернард был мрачен и молчалив, почти не покидал квартиры, без конца мыл руки и полоскал рот, ел мало, не подходил к фортепьяно, гравировал кое-как и часами лежал, запершись в своей комнате, читая романы и, должно быть, прислушиваясь к своим ощущениям – не появятся ли симптомы болезни.
Зато Кюи был по-всегдашнему весел и беззаботен. Цезарь писал ему каждую неделю из кадетского лагеря, что благодаря строгому карантину у них нет ни одного больного, и Наполеон, просидев положенные часы в граверной, чуть ли не каждый вечер, как бывало и прошлым летом, исчезал куда-то в гости до полуночи, а то и дольше. Он смеялся над холерой и утверждал, что боится заразиться только «через прачку». Встав спозаранку, сам стирал, крахмалил и гладил свои щегольские сорочки, очевидно сберегая деньги на осень, когда нужно будет побаловать Цезаря.
– Пир во время чумы? – спросил Клодт, увидев однажды его выходящим из квартиры переодетым после работы с ног до головы, в свежих перчатках и с тростью под мышкой.
– Я наполовину француз, Константин Карлович, – отвечал Кюи. – В моем отце – ветеране наполеоновской гвардии – течет гасконская кровь, и я предпочитаю заболеть, танцуя и любуясь красивой женщиной, а не валяясь на своей кровати. – Он кивнул в сторону комнаты Бернарда.
– «Memente sana corpus sanum est», – рассмеялся Клодт. – Держу пари, что вы проживете до ста лет.
– Во всяком случае, надеюсь умереть не от пролежней, – отвечал Кюи и, взмахнув блестящим цилиндром, побежал вниз, прыгая через три ступеньки.
Этим летом Кюи еще больше пришелся по душе Лаврентию. Он иногда выходил из дому вместе с Наполеоном, чтобы пройтись перед сном, как, бывало, с Линком. И каждый раз получал приглашение отправиться к его знакомым, с неизменной оговоркой, что идти, к сожалению, придется далеко. Но Серяков отказывался и, проводив товарища до Невского, возвращался домой или на Озерный. Он порою старался представить себе, каковы люди, в общество которых так стремится хоть на час-другой веселый Кюи. Пошел бы, пожалуй, посмотреть на совсем не известную ему беззаботную жизнь, да разве будешь чувствовать себя хорошо среди знакомых Наполеона в солдатском мундире?
Однако судьбе было угодно, чтобы Лаврентий познакомился с ними. Как-то, уже в конце августа, когда эпидемия явно пошла на убыль, после воскресного обеда у матушки он отправился погулять и забрел далеко в глубь Выборгской стороны.
Здесь, в деревянных домиках, окрашенных в веселые цвета, жили дачники и постоянные обитатели этой петербургской окраины. В палисадниках грелись на солнце немудреные цветы, в садах зрели яблоки, и старухи варили варенье в сияющих медных тазах. Куры, гуси, кошки и собаки не спеша переходили дорогу. Из открытых окон доносились звуки фортепьяно и гитар. В группах гуляющих пестрели недорогие платья и зонты дам и девиц, клетчатые панталоны молодых франтов. Звучал смех и веселый говор. О холере, казалось, здесь никто и не думал.
Впереди открылся парк Лесного корпуса. «Не пора ли обратно?» – подумал Серяков. Нужно бы поспеть на Озерный к вечернему чаю.
Он повернул к городу и через несколько минут разминулся с компанией молодежи, которая вышла из палисадника перед деревянным домиком, окрашенным в светло-голубой цвет.
– Лаврентий Авксентьич! – окликнул его знакомый голос.
В последней паре, ведя под руку осанистую, нарядную даму, выступал Кюи.
Ушедшие вперед остановились. Наполеон представил своего товарища.
– Без малого офицер-топограф, без малого же свободный художник и полностью – отличный гравер.
После взаимных поклонов спутница Кюи скомандовала:
– Оленька! Возьми господина топографа под свое покровительство и веди гулять с нами. Allons, monsieur Napoleon, on n'offensera pas votre ami ici!
– Лаврентий хотел было откланяться, но посмотрел на подошедшую девушку и остался. Свежее и миловидное лицо ее приветливо улыбалось, карие глаза смотрели доверчиво и прямо.
– Вы, кажется, шли впереди нас и вдруг повернули обратно. Почему это? – начала она разговор, идя рядом с Серяковым. Теперь они замыкали шествие.
Лаврентий сказал, что уже давно гуляет и собирался еще навестить кое-кого в городе.
– А вы бывали в этом парке? – спросила она.
– Нет, не случалось.
– Тогда вам будет очень интересно. Там на многих деревьях написано, как они называются по-латыни и где растут по всему свету. Вы любите растения?
– Люблю, только знаю о них очень мало.
– Я вам все покажу, я в этом парке почти что выросла. В детстве видела, как его из обыкновенной сосновой рощи превращали в учебный парк для лесных кадетов, сажали привозные кусты и деревья, и наблюдаю из года в год, как они растут.
Простота ее обращения разом покорила Лаврентия. Ему случалось наблюдать издали жеманных и неестественно веселых или капризных барышень и барынь, читать и слышать о них, но эта казалась совсем другой. Она шла без шляпки и зонта, свободной и твердой походкой. Щеки ее и лоб блестели, как это бывает у детей после тщательного умывания. На шее, в ушах и на пальцах не было никаких украшений. Но светло-синее платье, бледно-желтая кружевная шаль на плечах и скромная черная обувь показались Серякову очень красивыми. Она почти не смотрела на него, и это помогало не смущаться. Взглядывала, только когда спрашивала что-нибудь, а слушая ответ или рассказывая сама, смотрела под ноги или по сторонам.
За двадцать минут неспешного пути до парка спутница Лаврентия сумела многое узнать о нем и рассказать о себе. Серяков услышал, что в детстве она жила здесь совсем рядом, в Новосильцевской богадельне, где отец ее был смотрителем, потом училась в пансионе и приезжала сюда же летом. А теперь, последние три года, после того как отец умер, живет у дяди в голубом домике. Она редко бывает в городе – незачем ездить, разве в Гостиный двор. Довольно много читает, но немало занята и хозяйством дяди, вдовца, потому что его дочь, кузина Александрина, – тут барышня кивнула на спутницу Кюи, – не любит этого, а ведь надо же кому-нибудь подумать о хозяйстве.
– Знаете, когда я была маленькой, ужасно жалела, что я не мальчик, а то обязательно стала бы лесничим, – сказала она, когда они вступили в парк и пошли по аллее, огибавшей небольшой пруд. – Я и теперь не забыла, что тогда выучила. Вот смотрите, это барбарисовый куст, по-латыни Berberis vulgaris. Его привезли из Крыма. Если выдолбить мягкую сердцевину, то можно сделать тоненькую дудочку и тянуть через нее воду, как через соломинку… А это, вон впереди, такая темная, мохнатая, высокая, – пихта, Abias sibirica, приехала с Урала, она кузина нашей сосны… А вот и береза, по-ученому она зовется Betula…
Подходя ближе, Лаврентий читал латинские надписи на дощечках, привешенных к деревьям, удивлялся ее памяти, а она смеялась его похвалам.
Должно быть, чувствуя, что он будет стеснен, попав в первый раз в многолюдное общество, Ольга Алексеевна – так звали новую знакомую Серякова – первую половину прогулки шла с ним позади всех и только на обратном пути вступила в общий разговор, исподволь помогая своему спутнику принять в нем участие.
У крыльца голубого дома, на крепких тесовых воротах которого была прибита дощечка с надписью «Дом титулярного советника Недоквасова», Лаврентий остановился. Его пригласили остаться, выпить чаю и потанцевать, но он хотел еще зайти на Озерный, где будут беспокоиться, отчего не был вечером, и откланялся.
– Приходите с monsieur Кюи, мы вам будем рады, – сказала на прощание величественная Александрина.
И, когда он отошел довольно далеко, до него донесся тот же самоуверенный, громкий голос, спрашивавший в палисаднике или на крыльце:
– Ну, Оленька, как тебе показался нынешний chevalier servant?
И спокойный ответ:
– Очень вежливый и, кажется, неглупый…
За неделю Лаврентий узнал от Кюи многое о дамах, живших в голубом домике. Александрина, или Александра Дмитриевна, была единственной дочерью означенного на воротах вдового чиновника Недоквасова. Лет десять назад, шестнадцатилетней девочкой, ее выдали замуж за дальнего родственника, пожилого подполковника, приехавшего в отпуск с Кавказа и тотчас после свадьбы увезшего ее в какую-то крепость на берегу Черного моря. Вскоре боевого супруга Александрины произвели в полковники, через пять лет – в генералы. А тут он скоропостижно скончался, оставив бездетной молодой вдове хорошую пенсию и почетный титул «ее превосходительства». Александрина водворилась под отчий кров, жила независимо и весело, не спеша с новым браком, хотя в поклонниках у нее недостатка не было.
– Это новый тип женщины, отчасти похожей на Жорж Санд! – с жаром повествовал Кюи. – Вы понимаете, она так много выстрадала от деспотизма отца и мужа, что особенно ценит свою свободу. Да и кто ровня ей по красоте, по душе и образованности?.. Сейчас она располагает своими средствами, и папаша ходит на задних лапках… О! Она умеет командовать, моя генеральша!.. – Блаженное лицо Наполеона красноречиво говорило, что он счастлив быть в числе подчиненных красивой Александрины.








