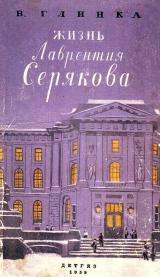
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Глава IV
И так всю жизнь? На ночном дежурстве
Бежали дни, недели, месяцы. Незаметно в каждодневной работе промелькнули весна и лето, снова холодный дождь мочит булыжную мостовую Преображенской площади, разливает по ней такие широкие лужи, что их, чертыхаясь, обегают писаря и топографы, спеша по утрам в департамент.
Стачиваются перья, покупаются новые, опускаются в подаренный Антоновым шагреневый кошелек гривенники, двугривенные, рубли, и каждый месяц отправляется матушке письмо «с денежным вложением», опечатанное почтовыми сургучными печатями. Чего же больше желать?
Но иногда, и чем дальше, тем чаще, засыпая после целого дня, проведенного за столом, Серяков спрашивал себя: неужто так и пройдет жизнь в тщательном очинивании перьев, в их скрипе по бесчисленным листам бумаги? Присыпал написанное песочком, перевернул лист, исписал следующий, поставил последнюю точку. Пошла бумага на подпись, отправили куда адресована, там прочтут, подошьют, потом снесут в архив. А ты за эти дни уже настрочил сотни новых страниц.
Вот скоро два года будет, как он только это и делает.
Поседеют волосы и бакенбарды, как у Антонова, как у других, что гнут спины в департаменте по двадцать лет. Уйдет в плечи голова от долгих часов сидения за бумагами, вдавится постоянно прижатая к краю стола грудь. Еще, может, и глаза ослабеют, очки в железной оправе оседлают нос.
И для чего всё это? О чем мечтают его товарищи, чью судьбу он, видно, разделит? Да все почти об одном: выслужить фельдфебельский оклад, а кто посмышленее – производство в чиновники, жениться на дочери какого-нибудь канцеляриста или на мещанке с приданым – домиком на Петербургской, на Выборгской. Настаивать наливки, есть по воскресеньям пироги, почитать «Северную пчелу» – книг-то чем старее, тем меньше читают. А в будни всё писать, писать, писать. И в сорок и в пятьдесят лет писать в той же комнате с окнами на аракчеевский дом.
На женихов из департаментских писарей всегда найдутся охотницы, если только не пьет лишнего. Жена чепец будет носить, детей в люди выведут… Недаром две опрятные, с хитрыми глазами свахи шмыгают каждое воскресенье в подъезд на Спасской и то один, то другой писарь с ними пересмеивается, торгуется вполголоса о приданом, а то и ссорится. Глядишь, и сыскал жених невесту, не видавши ни разу.
Ну, не нравится, так можешь не жениться, а прожить век бобылем, как Антонов, как двое других стариков, что занимают лучшие углы здесь, в команде. Однако раз ты писарь, то все равно пиши и пиши всю жизнь: днем – в департаменте, вечером – для заработка… В скрипе перьев, в шелесте бумаги, в запахах сургуча, чернил, ваксы и казенного сукна пройдет вся твоя жизнь. Эх, тоска какая смертная!
А что толку об этом думать? Или лучше было в Пскове тянуть лямку учителя и фельдфебеля? Небось там только и мечтал не быть битым и самому никого не бить, а теперь этого мало? Чем такая жизнь плоха? Не дворянин какой уродился, чтоб дорогу себе выбирать. Солдатский сын, кантонист… И прозвание – Серяков – самое подходящее: серый, рядовой, ничем не отличимый от тысяч таких же.
Вполне ясно, что дальше делать: подкопить денег, выписать из Пскова матушку, поселиться с нею на «вольной» квартире, покоить ее, чтоб больше не работала на чужих людей. Вот и все. А коли будет время оставаться от переписки, то читать хорошие книжки, рисовать что-нибудь. Можно завести синицу или канарейку, пение ее слушать, смотреть, как прыгает, пьет, купается. Под песни ее еще веселее, поди, рисовать-то.
Эх, Лаврешка, Лаврешка! И все-то тебе мечтается рисовать. А писать кто же будет?..
Рисование было самой большой радостью Серякова. За ним он забывал все тягостное и неразрешимое. Когда карандаш ходил по бумаге, больше нечего было желать, время останавливалось. Но рисовать доводилось редко больше получаса в день. На ненужных, бросовых листочках изображал он что-нибудь из виденного в комнате или на улице – фуражку на вешалке, стол и писаря, склоненного над бумагами, дома, фонари, солдата у будки в воротах. Каждый раз с усилием заставлял себя оставить любимое занятие. Нельзя на него терять время.
Но неожиданно именно рисование принесло значительную перемену жизни.
Писарям полагалось в очередь нести суточные дежурства по канцелярии своего отделения. Выходило это не чаще раза в месяц. Обязанности самые простые: если привезут спешные бумаги, принять их, посмотреть, кому адресованы. Спешное – послать с дежурным вестовым на дом к начальству. Изредка поручалось переписать что-нибудь обязательно нужное к завтрашнему утру. Но чаще ничего казенного можно было не делать. Пиши в тишине да при даровом освещении свое, что взял на стороне.
Однажды, в августе 1845 года, у Серякова во время дежурства не случилось переписки. Накануне сдал спешную, за которой просидел неделю не разгибаясь. Книги тоже не было – забыл взять. Спать дежурным разрешалось только после десяти часов, когда закрывались ворота и двери департамента. А спать Лаврентию в этот день хотелось очень, плечи и спина болели от бесчисленных часов сидения за перепиской. Чтобы не задремать ненароком, он взял большой лист писчей бумаги и, разлегшись на длинном столе, где сиживало четверо писарей в ряд, под ярким светом масляной лампы начал набрасывать пером шестерку коней с римской колесницей и двумя воинами. Уж за рисованием-то он не заснет!
Только на днях носил пакет в Гвардейский штаб и, ожидая, пока распишутся в получении, любовался в окошко на такую бронзовую колесницу над аркой. Теперь захотелось нарисовать ее, но не в фас, как видел, а в три четверти, чтоб яснее изобразить упряжь коней, высокий, покрытый орнаментом передок колесницы, вооружение воинов.
Лаврентий увлекся рисунком и не обратил внимания, что по коридору, дверь в который была полуоткрыта, послышались, приближаясь, чьи-то быстрые, твердые шаги. Только когда они замерли у самой двери и внятно звякнули шпоры, он оторвался от своей колесницы и посмотрел, кто это: не знакомый ли? Все топографы, жившие в том же доме Лисицына, носили по форме шпоры и нередко задерживались в чертежной департамента сверх положенных часов.
Но в дверях стоял сам начальник топографического отделения, полковник Генерального штаба Попов. Лаврентий поспешно соскочил со стола и вытянулся. Хоть слышно было, что Попов совсем не строгий, спокойный и ученый офицер, поэтому ждать от него грубости, да еще в почти что неслужебной обстановке, не приходилось, но кто ж его знает?
– Ты что же делаешь? – спросил дружелюбно полковник и вошел в комнату.
– Да вот рисую кое-что, ваше высокоблагородие, чтоб не заснуть.
Попов взял в руки лист.
– Очень, очень хорошо… И лошади и люди вполне удались… – говорил он, рассматривая. – С чего же ты срисовал? – Ища какой-нибудь картинки, он обвел глазами стол, глянул на руки Серякова.
– По памяти, ваше высокоблагородие. Видел третьего дня на Главном штабе…
– Где ты обучался?
– В Псковском батальоне военных кантонистов, там же был учителем. В 1843 году оттуда переведен в писаря, – отрапортовал Лаврентий.
Попов опять внимательно посмотрел на рисунки.
– Отец, что ли, у тебя художник или иконописец был?
– Никак нет, нестроевой рядового звания Самогитского гренадерского полка.
– Удивительно! Ведь ты, братец, чистая находка! У меня нет ни одного топографа, чтоб так рисовал. А в нашем деле это очень нужно. Хочешь ко мне перейти?
Серяков опешил от неожиданности. Но полковник и не ждал ответа. Он взял перо, которым рисовал Лаврентий, спросил фамилию, имя, записал на краю листа и сказал:
– Завтра же покажу барону, попрошу немедленно тебя перевести в топографы.
Давно замерли в коридоре шаги, а Серяков все стоял на прежнем месте, вспоминая случившееся. Потом лег на деревянный канцелярский диван и долго не мог заснуть. Но уже не от печальных размышлений, как бывало в последние месяцы.
Перевод в топографы означал, что у него будет работа куда более по душе. Черчение планов, раскраска их акварелью – все ближе к рисованию. Люди там куда образованнее, чем писаря, держат экзамен перед поступлением. Топографы все с унтер-офицерским званием, через восемь лет службы – верное производство в прапорщики. И не в строй, а в самый, можно сказать, полезный корпус. Больше половины топографов каждое лето проводят на съемках, живут по деревням в окрестностях Петербурга, под Новгородом, а то в Харьковской, Екатеринославской, Херсонской губерниях… Ох, как он по природе стосковался в этом каменном городе!.. А приработки по черчению планов, слышно, оплачивают выше переписки. Только бы директор согласился на перевод!
Во главе департамента стоял уже не генерал Клейнмихель, а барон Корф, про которого шла молва, что он – грубый крикун, людей ни в грош не ставит. Даже старшие чиновники и офицеры перед ним трепетали.
«Ну, авось Попов сумеет как нужно доложить, – успокаивал себя Лаврентий. – Да и не все ли равно барону, где какой-то солдат гнет спину: в канцелярии или в чертежной? А вдруг скажет: «Какое у него образование? Школа кантонистов? Мало. Нельзя перевести».
Наутро Серяков от волнения едва сидел на своем месте. Он ничего не сказал о вчерашнем разговоре товарищам и даже Антонову, встретившемуся в коридоре.
Директор, живший напротив, в деревянном аракчеевском доме, начинал прием ровно в десять часов. Около этого времени Лаврентий, как бы невзначай, вышел к лестнице и видел, как спустился к подъезду полковник Попов, при шпаге, с папкой дел для доклада.
Прошел томительный час. Серяков больше поглядывал за окно и на дверь, чем писал.
Вдруг полковник вошел в канцелярию.
– Серяков! – позвал он громко. – Завтра с утра явишься ко мне в чертежную. Его превосходительство переводит тебя в топографы с условием сдачи экзаменов через два месяца.
Писаря обступили Лаврентия:
– Что? Как? Сам просился?
Он рассказал все как было. Одни радовались, другие, не скрывая зависти, начали высчитывать, насколько он обгонит их по службе, если доведется им выслужиться в чиновники.
Вскоре подошло обеденное время, и Лаврентий поспешил в счетное отделение, чтобы порадовать Антонова своей новостью. Но тот уже знал ее. Улыбаясь, он обнял Серякова:
– Умен полковник! Разом соловья от петухов отличил.
Для приема в топографы с правами на будущее производство нужно было выдержать экзамен по программе уездного училища и, сверх того, быть осведомленным в глазомерной съемке, чтении и черчении планов. Два месяца на подготовку было для Серякова, что называется, «в обрез».
Жил он до экзаменов с писарями, ходил в старой форме, но с разрешения начальства не работал ни в канцелярии, ни в чертежной, а, сидя днем в пустой каморе, зубрил по учебникам и чертил на грифельной доске. На второй месяц пришлось бросить вечернюю переписку, покупать больше обычного свечей и заниматься полночи в столовой нижнего этажа. Не раз думал, что не успеет подготовиться, и бранил себя невеждой, тупицей.
Но в назначенное время, в середине октября, Лаврентий успешно выдержал экзамены перед комиссией из офицеров Генерального штаба и приказом барона Корфа был переведен в топографическую роту № 9, прикомандированную к департаменту, с одновременным производством в унтер-офицеры.
Настало время перебраться этажом ниже, в помещение топографов. Там было куда просторнее, в каждой комнате стояло два – три больших стола для вечерних занятий. Но расставаться с соседством Антонова, со своим углом, было все-таки грустно.
В последний вечер в булатовской зале Антонов выставил к чаю щедрое «отвальное» – калачи, копченую рыбу, тульские пряники. Старому писарю, видимо, тоже было грустно лишаться приятеля, уходившего на новую дорогу, но он держался бодро и говорил только о деловом. Сначала о том, какая «чистая» топографическая служба даже в офицерских чинах: нет у тебя множества подчиненных – значит, нет и возни с их продовольствием, обмундированием, строевой выучкой, а только инструменты, готовальня, бумага, кисти да краски. Потом рассказал, что Петр Петрович Попов не аракчеевским выученикам чета – слыхать о нем, что обращением вежлив, перед начальством спину не гнет, за своих топографов стоит горой. Наконец, Архип Антоныч пустился в рассуждения, что при отставке из этого корпуса сыщется всегда землемерная служба в любой губернии. Было видно, и сам он подумал, что ожидает полюбившегося ему юношу, и других расспросил. А в заключение, подсев на койку уже улегшегося Лаврентия, сказал:
– Ты, брат, не спеши переписку бросать. Покудова что к делу навыкнешь, узнают твою способность, а тут-то рука набита, заработок верный. Я вот также уже счетную часть знал, а всё пером не гнушался.
Совет показался Серякову дельным. И хотя новые товарищи посмеивались над ним, Лаврентий уже без недавних печальных размышлений исправно строчил лист за листом и посылал деньги матушке.
Немало пришлось израсходовать впервые в жизни и на свое новое обзаведение. Форма топографам полагалась драгунского образца: каска с черным волосяным султаном, шашка, шпоры. Одевались они щеголевато, вроде юнкеров в полках. Отличаться от товарищей Лаврентию не хотелось, и на пригонке мундира и рейтуз в ротной швальне он отвалил портным целую трешку, чтоб получше всё сделали.
В департаменте топографы пользовались особым положением. Начинали работу не в восемь, как писаря, а в девять часов, кончая ее тоже в три. Помещение, отведенное под чертежную, было просторное, светлое.
Полковник Попов дал Серякову всего несколько практических наставлений и посадил за копировку, чтобы «набить руку», поручив присмотреть за ним опытному топографу.
Поначалу Лаврентий сильно заробел. Красивые, четкие, тщательно отделанные вплоть до орнаментальных рамок карты и планы казались ему недосягаемым совершенством. В первые дни как ни был он тщателен и аккуратен, а не раз портил начатую работу и, сгорая от стыда, краснел почти до слез.
– Ничего, не боги горшки обжигают, – успокаивал учитель. – Поверь, поначалу я вовсе ничего не умел, а вот выучился же. Опять чередой побежали дни и недели. Отношения с новыми товарищами наладились быстро. Но все же наступавший 1846 год Лаврентий встретил не с ними, а этажом выше, за столиком Антонова, который, очевидно, был тронут этим.
В великом посту Серякова и его товарищей взволновало происшествие с топографом Воскресенским. Этот живой юноша был известен как местный поэт. Среди его стихотворений, ходивших по рукам, одно обличало невежество и казнокрадство начальника канцелярии князя Шаховского. Стихи были посредственные, но забавляли, и все их знали наизусть. Вскоре после назначения в департамент и Лаврентий исподволь выучил три строфы:
Князь Шаховской отменно службу знает,
Он к писарям за выправку и почерк очень строг,
Но мягкий знак от твердого никак не отличает,
И фразу заверни хоть в сорок строк.
В ученье был ленив. Да княжеское ль дело
Учиться? Все равно идут ему чины.
К тому ж безгрешные доходы так умело
Дерет немалые он с матушки-казны.
Дрова, мундирное сукно, чернила, перья —
На всем наш князь имеет свой профит.
И шире поперек становится Лукерья,
И сам толстеет он и громче все кричит.
Каким-то путем эти стишки дошли теперь до Шаховского. Князь пришел в неистовство, кажется, более всего от упоминания о своей домоправительнице и наложнице, толстухе Лукерье. Он бушевал целое утро, отправил под арест двух писарей и, подкараулив в коридоре Воскресенского, кричал на него и топал ногами. Топограф попытался ответить что-то, но Шаховской заорал еще пуще и ударил его по лицу.
На шум из чертежной вышел полковник Попов. Будучи прямым начальником топографов департамента, он приказал Воскресенскому идти к своему месту и очень учтиво попросил князя рассказать, что произошло, пообещав сам взыскать с виновного. Потерявший самообладание Шаховской понес что-то о кляузном писаке, который осмелился оболгать его, не посчитавшись с титулом и чином. Попов просил прочесть ему возмутительное сочинение и сказать, почему князь считает автором его именно Воскресенского.
Дальнейшего разговора топографы, притаившиеся за дверью чертежной, не слышали – начальники ушли объясняться в кабинет Попова. Но вскоре Шаховской выскочил в коридор, крича, что не позволит грубить себе всякому унтеру, в чьей бы команде он ни состоял.
Так он и повернул дело – подал барону Корфу рапорт, умолчав о стихах, но сочинив рассказ, будто топограф Воскресенский дерзко говорил с ним, а потому надлежит немедленно его разжаловать в рядовые и удалить из департамента.
Подал и Попов от себя барону записку, как говорили, изложив в ней все как было и даже приведя самые стихи, но указав, что нет оснований приписывать их Воскресенскому, да и вообще топографу. Мало ли кто в департаменте мог сочинить плохие вирши. О Воскресенском тут же дана была наилучшая аттестация и сообщено, что именно он чертит самые ответственные планы, представляемые военному министру.
Топографы и писаря с тревогой ждали решения барона. За перевес мнения Попова говорило, что он был старше на два чина и прямой начальник Воскресенского.
К тому же Шаховской носил гражданский чин коллежского асессора, а военные начальники не любят давать чиновнику восторжествовать над офицером. Но, с другой стороны, все знали, что Корф более расположен к льстивому Шаховскому, вечно вертевшемуся около его особы, чем к независимому Петру Петровичу.
Наконец вышло решение: за дерзость, проявленную в ответах начальнику канцелярии, топографа Воскресенского лишить унтер-офицерского звания до выслуги, оставив в департаментской команде топографов.
Конечно, Петр Петрович не мог быть этим вполне доволен. Но что поделаешь? Военная служба не терпит повторных возражений высшему начальству.
Передавали, что он сказал Воскресенскому: «Походите за стишки в солдатской шинели, это у нас и с большими поэтами бывало. Через полгода представлю о вас барону с наилучшим отзывом – авось согласится вернуть вам галуны…»
А топографы опасались:
– Эх, не забудет зловредный Шаховской, что не дал ему Петр Петрович съесть Воскресенского, будет и впредь нам гадить!.. Но еще больше тревожился этой весной Серяков за матушку. Писем от нее не было два месяца. А обычно сообщала о своем здоровье и делах обязательно каждого первого числа. Обеспокоенный Лаврентий написал прежнему псковскому сослуживцу-фельдшеру и со второй почтой получил ответ, что он побывал на Петровском форштадте и нашел Марфу Емельяновну больной.
Простудилась во время великопостной службы в церкви, пролежала более месяца, но сейчас, после оказанного им медицинского пособия в виде банки свиного сала с перцем для растирания, уже почти оправилась. Наконец написала и сама матушка, что начала выходить, но еще слаба и благодарит за присланные деньги.
Несколько дней Серяков ходил озабоченный. Нужно было решиться на давно задуманный шаг – выписать матушку из Пскова, начать жить вместе. Ведь третий год они в разлуке. Хватит ей работать на чужих людей, вот уж и хворать начала.
Этот план в общих чертах одобрил и Архип Антоныч, бывший в курсе его недавних волнений. Но только Лаврентий знал, что его заработки не обещают еще безбедного существования двоим при высоких петербургских ценах. Другое дело, если б квартира была даровая. На первое обзаведение и прокорм он, пожалуй, и заработает. Накрепко засело у него в памяти, что один из департаментских писарей уже несколько лет состоял управляющим домом какого-то чиновника, получая за это бесплатную квартиру и небольшое жалованье. Вот бы сыскать себе такое место!
Два воскресенья ходил Серяков по соседним улицам, выспрашивая жильцов и дворников, но ничего подходящего не услышал. В третье воскресенье решил зайти подальше, в такие места, где живет народ попроще. Пошел на Пески.
Поначалу и здесь ничего не находилось. После полудня, усталый и голодный, подсел он на лавочку у ворот к молодому дворнику. Перед ними, за мощенной булыжником площадью, лежал Лиговский бассейн, зеленело его старое бревенчатое ограждение.
Разговорившись с дворником, Лаврентий рассказал, чего ищет.
– Что ж, служивый, я вот на неделе в деревню отхожу: отец помер, надо с братом делиться, – сказал простоватый парень. – Становись на мое место, что ли… Квартира у нас хорошая. Хоть подвал, да сухо, ровно в овине. А работа самая, скажу, пустая. Еще обедню не начали, а у меня без гонки все как есть готово бывает. Потом сиди вот тут, прохлаждайся.
Серяков задумался. Кто возьмет его, молодого человека, в управляющие домом? Да и справится ли он? Как хотя бы взыскать с жильца квартирную плату, если у него и вправду денег нет? Говорят, надо вынуть вьюшки из печки, холодом выжить бедняка. Нет, это не по нем. Не забыл еще, каким был фельдфебелем. Может, и верно стать дворником? С раннего утра до ухода в департамент, поди, сумеет управиться.
– А хозяин каков? – спросил Лаврентий.
– Худого не скажу, – отвечал парень. – Купец как полагается. По торговле сын старший заправляет, а он – то в лавку съездит, то на биржи какие-то, то дома чай пьет.
– Покажи-ка комнату, я подумаю.
Владение купца Змеева, обращенное к летней конной площади, что тянулась вдоль Лиговского канала, занимало оконечность квартала между 6-й и 7-й Рождественскими улицами. Оно состояло из двухэтажного каменного дома на полуподвале, двух деревянных флигелей и надворных построек. В полуподвале, населенном несколькими семьями бедняков, дворнику была отведена комната с русской печкой. Окнами она выходила на площадь, по размерам годилась под жилье и двум людям, но была грязна и запущена донельзя. Так ведь долго ли побелить?
Вскоре Серяков стоял перед седобородым плотным купцом, не сразу сообразившим, что сам этот молодцеватый унтер, а не какой-нибудь его знакомец или родственник желает поступить к нему в дворники.
– Да зачем тебе, любезный, идти на такое мужицкое дело, когда есть же у тебя место в казарме?
Серяков рассказал свои обстоятельства, почему хочет выписать из Пскова матушку. Сказал, что надеется соединить обязанности дворника со своей службой, что будет выполнять все, что нужно, по дому до начала работ в департаменте.
– Что ж, попробовать можно, коли черной работы не боишься, – согласился Змеев. – Дело немудреное, но гляди, чтоб все было исполнено в аккурате. Первое – утром, чуть свет, пока хожалый унтер не прошел, подмети улицу, панель перед домом и двор. Второе – сходи в квартал, ежели потребно кого прописать иль вон кто выехал. Третье – тоже не каждый день – надобно на тесовые крыши слазить, по флигелям, по сараям и конюшне, посмотреть, довольно ли воды в бочках, что там стоят по пожарному приказу. Коли усохла – долить. Вот и все твои дела. Воду нам на потребу водовоз привозит, жильцы больше из бассейна берут. Дрова тоже сами из дровяников носят.
– А жалованье какое положите? – спросил Серяков.
– Какое жалованье еще? – удивился купец. – Раз тебя днем при доме нету, значит, за порядком и смотрения настоящего не будет. Комнату за утрешние труды и дрова к печке округлый год – изволь, я тебе дать согласен, живи хоть с кем хошь. Но главное мне – чтоб улицу мел чисто, а то и не берись.
Так Лаврентий стал дворником на Песках.
Как же рассердился, узнав об этом, Антонов! Впервые обозвал он приятеля глупым торопыгой, мальчишкой без смысла. Попытался отговорить, объяснял, что больше бы заработал на переписке, предлагал взаймы хоть сто рублей.
Но Серяков стоял на своем – он уже дал слово Змееву.
– Вот смотрите, Архип Антоныч, какой теперь я здоровый стал, не то что в кантонистах.
И тут же попросил посоветовать, где купить подержанную мебель – стол, табуретки, кровати: нужно устраивать новый свой угол к приезду матушки.








