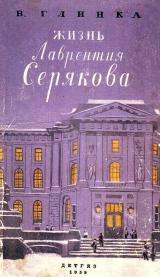
Текст книги "Жизнь Лаврентия Серякова"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
А Лаврентию стало не только теплее спать под подаренным одеялом, но и легче жить от сознания, что есть в этом чужом, огромном городе с кем поговорить, посоветоваться, кто ни разу не посмеялся над его выговором, не назвал «мощами». «У дяди Антонова племянник сыскался», – шутили писаря.
Сильно печалило Серякова в первые месяцы службы в Петербурге, что не находится никакого приработка по письменной части. А ведь надо же помогать матушке. Большинство писарей занималось в свободное время перепиской, получая немалые деньги – от пяти до десяти копеек за страницу. Но откуда ему взять такую работу? Знакомых в Петербурге не было никого. Товарищи еще мало его знали, да и каждый промышлял про себя. Помогший переводу в департамент писарь Дорогих вскоре был произведен в чиновники и назначен в Главный штаб. А на писарское жалованье, как говорится, не разгуляешься – рубль восемьдесят копеек в треть, то есть в четыре месяца. Да из этого вычитали рубль двадцать копеек на улучшение пищи в артель – спасибо, сытно зато кормили. Оставалось по пятнадцать копеек в месяц на свои нужды. Даже на стирку белья не хватало. Лаврентий сам мыл его в банях Преображенского полка, на ночь расстилал под собой и так к утру высушивал.
Свободного времени оставалось много – целые длинные летние вечера, и пока что в ожидании других занятий он пристрастился к чтению. Еще в Пскове были у него любимые книги. «Онегина», «Повести Белкина», «Героя нашего времени», «Мцыри» знал почти наизусть. А здесь у писарей всегда лежало на полках и столиках много книг, все больше Серяковым не читанных. Давали их друг другу запросто, уж такой был обычай.
Возвратившись из департамента, многие рассаживались в столовой и занимались перепиской для заработка, другие уходили к заказчикам на дом, а то в гости или гулять, так что в большой спальне, или, по-казенному, «каморе», становилось безлюдно и тихо. Присев к одному из окон, выходивших на площадь, Лаврентий читал по многу часов подряд без всякой помехи – счастье, в жизни его ранее не бывавшее.
Потом, как бы насытившись книгами, принялся рисовать, сидя там же, у окна. Начал с того, что открывалось с полюбившегося ему места, – с Преображенского собора с его оградой из трофейных турецких пушек, соединенных цепями. Сделать крупный рисунок позволял лист хорошей чертежной бумаги, подаренный ему все тем же Антоновым. Заметил, что Серяков порой что-то рисует на клочках, на бросовых листочках, рассмотрел один такой клочок и подарил припасенную было для чего-то бумагу.
С первого дня, как Серяков начал рисовать собор, старший писарь стал подсаживаться к нему и из-за плеча безмолвно следить за карандашом. Когда через несколько дней Лаврентий, закончив, подарил ему свою работу, он не отказался, взял и повесил над кроватью. А в ближнее воскресенье ушел днем и, возвратясь, подал Серякову целую трубку настоящей, чуть шершавой рисовальной бумаги и полдюжины отличных карандашей. Наверное, самое малое рубль истратил на такой подарок.
Глава III
Антонов вспоминает. Полковник Булатов
Рисунок собора как-то сразу возвысил Лаврентия во мнении писарей. Многие рассматривали его, хвалили, просили нарисовать такой же «на память», предлагали заплатить. От денег Серяков отказывался – еще в детстве матушка внушила ему, что нельзя брать деньги с товарищей. Он скопировал несколько раз свой первый рисунок в меньшем размере и, отдавая, просил при случае рекомендовать его кому-нибудь для переписки.
Но сближался он все больше, несмотря на разницу возрастов, только с Антоновым. Этому высокому, худощавому писарю было на вид сильно за пятьдесят. Иссеченное морщинами лицо его было сурово, густые бакенбарды и щетина коротко стриженных волос начисто поседели, многих зубов недоставало, и говорил он сипловато, негромко и неторопливо.
Антонов слыл большим докой в счетоводстве, служил в счетном отделении департамента, а Серяков – в отделении военно-учебных заведений, в том, которому подчинялись все кантонисты, так что днем они почти не встречались. До подарка Лаврентию одеяла и бумаги писаря почитали Антонова сухарем и даже скупым, но уважали и немного побаивались. Состоя выборным от команды по артельному довольствию, он зорко следил за точным расходом отчисляемых с товарищей денег, не давая потачки кашевару на закупках приварка и раздаче пищи. Если случалось, что отпущенные от казны крупа или мука оказывались затхлыми, а рыба «с душком», Антонов отправлялся по начальству, и не было случая, чтоб он не добился замены. Целыми вечерами он либо работал где-то на стороне, либо, расположившись в своем углу, считал на счетах и просматривал толстые книги с колонками цифр. Но теперь стал все чаще отрываться от своих занятий, чтобы посмотреть, как рисует его молодой приятель, либо, засидевшись за чаем, расспросить его и порассказать самому что-нибудь из своей жизни, неторопливо попыхивая коротенькой глиняной трубкой. Скоро Лаврентий узнал, что войну 1812–1814 годов Антонов прошел солдатом в лейб-гвардии гренадерском полку. Только после походов обучился он грамоте и счету и скоро так преуспел, что сначала назначили его писарем в своем полку, а потом перевели в департамент.
Начальство ценило знания и опытность старого писаря – он носил нашивки старшего унтер-офицера, но состоял на повышенном, фельдфебельском окладе. Серяков не раз видел, как приходили к Антонову потолковать по делам офицеры немалого чина, называвшие его не иначе, как Архипом Антонычем. А о статских господах и говорить нечего – те постоянно приглашали его куда-то или приносили на проверку счетные книги. Но об этом теперешнем своем занятии Антонов не любил говорить.
– Сухость одна, Лавреша, житейское приложение четырех действий арифметики, на коих, однако, мир стоит… Тем только сия материя утешительна, что мазурничать не дает, плутов на чистую воду выводит. Но и то больше мелких. Крупные и ее по-своему умеют повернуть: на бумаге все гладко и мило, а людям оборачивается голодно да гнило…
Зато он охотно рассказывал Серякову о тех, кому раньше переписывал для заработка: как хаживал к Ивану Андреевичу Крылову в квартиру при Публичной библиотеке. Рассказывал, как не раз читал ему Крылов только что написанные басни и всегда спрашивал, остановившись перед нравоучительным заключением, что следует вывести из рассказа.
– Я и скажу, как по-моему выходит, – посмеиваясь, повествовал Антонов, – а он – ну меня хвалить, что я всегда разгляжу, что ему надобно. А мудрено ли? Уж так ясно все, что только глупому невдомек.
Доводилось ему переписывать для Грибоедова и Шаховского их комедии и кое-что для Жуковского. О последнем Антонов отзывался так:
– Добрейший господин. Вот уж истинно ничьего горя без внимания не оставит! При мне, веришь ли, нищей старухе у себя на лестнице без малого сто рублей дал. Выслушал так терпеливо, что она про сына своего больного сквозь слезы рассказывала, стал по всем карманам шарить и ей все в руки сует. «Иди, говорит, сударыня, и, если опять нужда будет, снова приходи…» Я ее спрашивал, вместе с лестницы шли: «Знали вы раньше Василия Андреича?» А она: «Никогда, – говорит, – я их не видывала, посоветовали люди сходить, но теперь вовек не забуду…»
– А Пушкину вы не переписывали? – спросил Серяков.
– Нет, не случалось. Но видел их однажды близко, как тебя сейчас, у Василия же Андреича. Давно, в 1820 году, никак, перед тем как им куда-то ехать. Сами говорят, что их в наказание за стихи куда-то далеко посылают, а сами такие веселые да верткие. Так Василия Андреича рассмешили, что тот совсем от смеху задохся, хотя очень о них печалился. Я в соседней комнате посажен был спешное переписывать, так и я за ними, сам не зная чему, в голос смеялся, едва лист не обкапал…
Однажды, уже в конце лета, когда они были одни в комнате, Серяков спросил, что за человек был Аракчеев, которого в департаменте так часто поминают.
– А он и не человек был, – отвечал Антонов твердо.
– Ну, как не человек? Бес, что ли? – улыбнулся Лаврентий.
– Бесов глупые бабы выдумали, – так же решительно продолжал старый писарь. – А он хоть на вид и нашей породы был – две ноги, две руки и рожа богомерзкая, – да не было в нем того, что человека от зверя отличает: души не имел ни на грош. Смиренником прикидывался, гнусавил да губы, как монах-постник, поджимал, мундир до лоску вытертый, без орденов носил – вот я, мол, смотрите, каков скромен, – а сам одной властью над подначальными тешился. Ему, чтоб на вершок выслужиться, расторопность свою государю показать, хоть роту целую по «зеленой улице» пустить было – что мне трубку выкурить… Издох, и слава богу! Жаль, что раньше какая болезнь не прибрала… Хорошие люди рано мрут, а такой волк до седой хребтины рыщет… – Антонов перевел дыхание и продолжал сдержаннее, нос той же силой: – Ты не обольщайся, что в департаменте нашем многие твердят: «граф» да «граф». Ничего, поверь мне, по себе он не оставил, окромя подлых привычек да по своему образцу скроенных постных морд. Они-то его, как святого, и поминают, забыть не могут, как он их за низости разные отличал. А что дельное ввел, то все, будь уверен, не им выдумано. От злого человека и после смерти ничего, окромя зла, не останется…
Лаврентий никогда не слышал, чтобы Антонов говорил с таким жаром. Раскурив трубку и посмотрев на него внимательно, старый писарь продолжал, чуть понизив голос, хотя в каморе по-прежнему никого, кроме них, не было:
– Но имел я, Лавреша, великое счастье знавать таких точно достойных человеческого звания людей, что себе ничего не искали – ни чинов, ни власти, ни наживы, хоть всё иметь могли, – а только о других пеклись… Да уж нету их давно, съели серые волки… Осталась память одна, но и та мне дороже, чем материно благословение.
– Из тех, кому переписывали? – спросил Серяков.
– Из тех да еще из других… – отозвался Антонов уклончиво.
Он помолчал немного, глядя в пол, потом встал и ушел к своей койке, где взялся за счеты и какую-то толстую шнуровую книгу. Когда Серяков сделал все изображения собора, о которых просили, и еще нарисовал товарищам несколько картинок – все с дешевых литографий: женские головки, лошадь под седлом у крыльца скребет землю копытом и даже двух собак на цепи, под которыми вывел, по просьбе заказчика, стихи о дружбе, – он предложил Антонову, не нужно ли ему что в этом роде. Старый писарь сказал, чтоб сделал ему «вид» той комнаты, где они жили.
Комната эта была совсем не похожа на казарму – с паркетным полом, с потолком, расписанным цветочными гирляндами, и с двумя одинаковыми печами в углах. Особенно нравились Серякову печи. Белые, кафельные, они были увенчаны вазами, а в нишах, на высоте человеческого плеча, стояли одинаковые женские фигуры в покрывалах, спадавших от головы до ног широкими складками.
Шутники-писаря частенько развешивали на фигурах белых женщин свои платки или всовывали в складки покрывал изгрызенные старые перья. Антонов неизменно сердился на это и ворчал: «Глупые школяры! Ослиные радости!..»
Ногами к одной такой печке у стены стояла кровать старого писаря. Рядом с ним недавно поместился Серяков. Один из писарей женился, получил разрешение жить на «вольной квартире» и передал ему свое место. Впервые в жизни у Лаврентия была своя кровать – в тогдашних казармах солдаты и кантонисты спали на нарах.
После просьбы Антонова он подумал, что тому, верно, хочется сохранить на память изображение их общего угла, и в ближайший вечер начал набрасывать стену с кроватью своего друга и полку с вешалкой над ней. Но, увидев это, заказчик сказал:
– Подушки мои или еще что из житейского не суть важны. Ты мне только печку как она есть изобрази.
– Нравится она вам, что ли, Архип Антоныч? – спросил Серяков.
– Не то чтоб нравилась, а памятна очень, – сказал старый писарь И, видя недоумение Лаврентия, добавил: – Бывал я здесь часто, в этой самой комнате, лет двадцать назад у благодетеля своего. Понял?
– А кто же он был такой?
– Кто был?.. Полковник, генеральский сын, этому дому тогдашний хозяин… Да ужо расскажу как-нибудь. Тут неспособно… Вот пойдешь со мной в воскресенье на Охтенское кладбище, когда могилку его пойду убирать, там и расскажу, пожалуй.
Серяков стал рисовать одну печку и порадовался, что ждать до воскресенья недолго.
Но рассказывать на кладбище Антонову тоже оказалось «неспособно»: слишком много было вокруг воскресных гуляющих и пьяных «поминальщиков».
Вместе почистили они дерн на могиле с памятником в виде урны на мраморной колонке. На лицевой стороне ее Лаврентий прочел:
Здесь погребен командир 12 егерского полка полковник и кавалер
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУЛАТОВ
родился 1793 года скончался 19 января 1826 года
в его незабвенную память верные боевые товарищи поставили сей монумент.
Лишь когда вышли за кладбище и уселись под одиноким деревом, Серяков услышал повесть о покойном.
В войну 1812 года в той роте, где служил гренадер Антонов, младшим офицером состоял подпоручик Булатов. Отец его был генерал, прославленный тем, что воевал всю жизнь и был ранен двадцать восемь раз. Но сын мало знал его. Лишившись в детстве матери, воспитанный ее родней, юноша рано поступил на военную службу. А генерал все командовал или воевал то в Польше, то в Молдавии, в Финляндии и Бессарабии, а потом женился во второй раз.
В суровый осенний и зимний поход Булатов взял Архипа в вестовые, делил с ним скудную пищу, спали они рядом, в грязи, на снегу. Александр Михайлович привязался к своему вестовому по-братски. Да он и со всеми солдатами был добр и заботлив, не только не бил их никогда, но и бранных слов не употреблял.
Так они и прошли весь нелегкий путь от Москвы до Парижа и обратно в Петербург, в казармы полка на речке Карповке. В конце войны Булатов был уже штабс-капитаном, с честно заслуженными Владимиром и Анной на груди, с наградной шпагой «За храбрость», а через два года получил чин капитана и принял ту же роту, где оба они служили.
Еще в походах заметил он редкую понятливость неграмотного солдата и по возвращении в Россию начал учить его. Скоро Антонов постиг чтение и письмо. Но капитан говорил:
«Надобно мне, чтоб стал ты самое малое хорошим писарем. Я в роте не вечно, когда-нибудь меня, может, выше переведут, а может, и совсем в отставку уйду, не нравится мне мирная плац-парадная служба. Придет к вам какой-нибудь грубиян, будет вас по аракчеевской моде строжить, бить начнет… А ты мне дорог. Жаль мне и всех своих солдат, да тебя всех жальче. Хочу тебя вытащить из этой кабалы насколько возможно. Учись, брат».
И Архип учился изо всех сил. Булатов сам писал ему прописи, купил грамматику, задачник. При всяком удобном случае брал к себе в дом, кормил сытно, спать укладывал мягко, но заставлял без устали читать, писать, считать в уме, на бумаге, на счетах. А жил он с младшим братом, тоже офицером, именно в тех комнатах, где теперь размещалась команда писарей.
Оба дома, что арендовал департамент военных поселений, принадлежали тогда генералу Булатову, и старшие сыновья жили отдельно от отца и мачехи с их детьми. Здесь-то именно, в зале, когда не бывало гостей, у этой самой печки, сиживал гренадер Антонов, упражняясь в письме и счете, здесь проверял его знания капитан, поправлял, объяснял, хвалил за успехи.
Навсегда запомнились Антонову прописи, составленные Александром Михайловичем: «Жестоким к малому, слабому или подчиненному бывает только низкий душой». «Богатство без образованности обращается во зло людям». «Государство Римское прославилось республикой, которая была правлением лучших людей всего народа, радевших о благе общем»…
Здесь же прислуживал Архип за первым семейным обедом своего командира. Женитьба Булатова ничего не изменила в отношении его к Антонову, по-прежнему бывал он здесь частым, ласково встречаемым гостем.
В 1820 году Архип был переведен в ротные писаря, а в 1822 году Булатова произвели в полковники и назначили командовать армейским егерским полком в Пензенскую губернию. И, прощаясь с ним в том же зале, Архип едва удерживал слезы.
Недолго пробыл он ротным писарем. За способности к счетоводству перевели его в хозяйственную канцелярию, где с утра до ночи сидел он уже за цифрами разнообразной обмундировочной, амуничной и оружейной отчетности. Где-то услышал об аккуратности и точности его работы Аракчеев и в 1824 году вытребовал к себе в департамент.
Незадолго до этого узнал Антонов, что Александр Михайлович овдовел. А в 1825 году умер и отец-генерал. Потребовался раздел имущества между старшими сыновьями и вдовой с ее детьми. В ноябре приехал в Петербург полковник Булатов.
Но, должно быть, не только по делам наследства он приехал. Не раз, приходя повидаться, Архип заставал в зале офицеров разных полков. Они о чем-то оживленно говорили и замолкали при его появлении.
А потом произошло восстание на Сенатской площади. Вечером этого дня, прослышав о выходе части своего полка против Николая, Антонов отлучился из команды и прибежал в дом на Спасской. Александр Михайлович жег в печке какие-то бумаги.
– Бросай, Архип, да мешай кочергой, чтоб и пепла целого не осталось, – сказал он, указывая на груду каких-то листков на полу. – Жги все, я на тебя надеюсь. Да торопись! – И ушел в кабинет рядом.
Слышно было, как он там о чем-то спорил с младшим братом.
Прислуга – в доме все его знали за своего – рассказала Антонову, что утром полковник был на площади с пистолетами под шинелью и возвратился в сумерки в простреленной картечью шляпе.
В ту ночь Архип не пошел в команду – будь что будет, – а задремал тут же, в кресле у печки. На рассвете разбудил его Александр Михайлович. В мундире и при шпаге, он расцеловался с писарем и уехал.
– Куда же они? – спросил Архип младшего Булатова, еще стоя в подъезде.
– Во дворец поехал, новому царю в руки отдаться, – отвечал тот. – Советовал я за границу бежать, да куда! Товарищи, говорит, там, значит, и мне нет другого места.
Больше Антонов не видел живым своего командира. От слуг знал: сидит он в Петропавловской крепости с другими, что участвовали в восстании. А 19 января прислали за ним лакея. В этом же зале в глазетовом гробу лежал молодой полковник с забинтованной по самые брови головой. Передавали: сам будто разбил голову о стенку в каземате. Что ж, возможно: измучили допросами, заковали в кандалы, как разбойника, вот и одолели бессонница да тоска по покойной жене, по деткам…
– А может, и судьи неправые что над ним сделали, – более глухим, чем всегда, голосом сказал Антонов и на несколько минут прервал рассказ, вертя в пальцах погасшую трубку.
Один из всех, замешанных в дело, Булатов умер во время следствия, и «в память заслуг отца» царь приказал выдать родным его тело. Завернув покойника в свою шинель, брат привез его в санях на Спасскую. Преображенский собор незадолго до того сгорел, и потому после панихиды в зале отпевали в Пантелеймоновской церкви. Собралось много народу; прежние сослуживцы, лейб-гвардейские офицеры, стояли вокруг гроба, потом шли за катафалком на Охту в одних мундирах, а мороз был сильный.
– Понимаешь теперь, Лавреша, почему камора наша мне памятна?.. Как сказали ближним после того летом, что здесь квартировать будем, я и ушам не поверил… Конечно, почитай, в каждой комнате, в любом доме кто-то жил, мучился, помирал. Но чтоб судьба привела меня в эту самую, мне одну изо всего города памятную, – не чудно ли?.. Не сплю другой раз… от старости, что ли… и все Александра Михайловича в ней вспоминаю да себя молодого около него. Как уроки тут учил, что он задавал, как после венца ими любовался, как бумаги жег и на панихиде его плакал. И вот тут же век доживаю… А не он бы, так гнить мне сейчас в здешней земле или в турецкой. На площадь-то как раз наш батальон вышел. Потом, кого там картечина не положила, всех сослали в крепостные работы или на Кавказ.
В турецкую войну наши гренадеры пять пушек отбили из тех, что потом сюда привезли да около собора этого нового установили. Хожу мимо да смотрю – мог бы и я своей кровью их добывать… И, бывало, вот как жалел, что не помер с Александром Михайловичем заодно или после с товарищами за то, что на площади побывал…
– Ну, а брат его что же? – спросил Серяков. – Видаете вы его?
– Он в тот же год в отставку вышел, дома эти оба – они ему по разделу достались – чиновнику Лисицыну продал, а сам уехал. Сказывали ихние люди, что по оброку тут ходят, будто под Курском в деревне живет, племянниц-сирот, двух дочек Александра Михайловича, растит… Видишь, в городе и родни никого нету; я да лакей один, им на волю отпущенный, за могилкою ходим.
Антонов набил новую трубку, высек огня и закурил. Они долго молчали. Красноватое вечернее солнце освещало кладбищенские деревья и кресты, убогие охтенские домики. Далеко, на той стороне Невы, сверкали кресты Смольного собора.
– А других из тогдашних… ну, из тех, кого в крепость посадили, вы не знавали? – спросил Лаврентий.
– Своих офицеров лейб-гренадерских, поручиков Панова и Сутгова, что батальон на площадь вывели и за то в Сибирь каторжниками пошли, понятно, знал, но не так близко, молодые они были, – отозвался Антонов.
На дороге, близ которой они сидели, показались две таратайки, запряженные низенькими сытыми лошадками. Должно быть, охтенские мещане-столяры возвращались из гостей. Подгулявшие седоки смеялись и что-то кричали друг другу.
– Пора и нам, Лавреша, в город, – сказал Антонов, пряча потухшую трубку в карман.
Но Серяков не двинулся. Он думал о рассказанном. Душа томилась жалостью к погибшим, о которых он слыхивал и раньше, но куда глуше, без отдельных человеческих судеб. Иногда говорили о них с оглядкой, сочувственно. Но чаще поминали их унтеры и более высокие начальники с бранью, как бунтовщиков, которым поделом, мол, и наказание.
– Архип Антоныч, а чего же хотели они?
– Чего хотели?.. А того, чего и мы с тобой хотим. Чтоб крепостное право изничтожить, чтоб солдаты только семь лет служили, чтобы в судах для всех совесть была… Ну, еще кое-чего… И все для простого народа, заметь. Чего, скажем, Александру Михайловичу моему недоставало? Генеральский сын, богач, в тридцать лет полковник, в тридцать пять – генерал верный. А ведь пошел и голову свою за нас положил… Вот почему, брат, и через столько годов всё про него помню, как про самое святое, что в жизни видел. От него и я понял, что перед неправой силой пресмыкаться не след, что правда не в деньгах, не в чинах, что можно за нее даже смерть принять… Вот и жить стараюсь вроде как по его завету. Тружусь честно, перед начальством не выслуживаюсь, в чиновники – смотрители магазина какого-нибудь казенного, где тысячи наворовать можно, – не лезу. А ведь не раз предлагали в регистраторы произвести и место обещали, только поднеси кой-кому «барашка в бумажке». И делами нечистыми по счетной части не занимаюсь. А ведь тоже мог бы, сколько раз самому немалых «барашков» подсовывали… Да верю еще, что придет время, когда для простого народа другая жизнь наступит, такая, как Александр Михайлович хотел.
Антонов, кряхтя, встал, выждал, когда Лаврентий оказался рядом, и положил ему руку на плечо.
– А ты помни: про это болтать нисколько и никому нельзя, – заговорил он, глядя прямо в глаза Серякову. – Хоть дело и давнее, а все равно за его спомин по головке не гладят… Ну, пошли, а то не докличемся перевозчиков, как перепьются ради воскресенья.
Надолго с этого дня два противоположных жизненных начала, о которых в детстве толковала ему матушка, – добро и зло, – приняли в сознании Лаврентия новые, человеческие обличья. Тогда всё доброе, которое он видывал, была одна его тихая, заботливая, робкая матушка, а зло – пьяный, скверно бранившийся отец и начальники всех чинов с их окриками и побоями.
Теперь оба лагеря стали многочисленнее и определеннее, обрели значение двух направлений деятельности – во имя личного или во имя общего блага. Зло неизменно вставало перед ним в отталкивающих чертах графа Аракчеева, хорошо известного по портретам, похожего на обезьянку в мундире, или в живых лицах его «последышей» из департамента, вроде начальника канцелярии, полуграмотного ругателя князя Шаховского. А добро – в расплывчатых, но прекрасных, оживленных рассказами седого писаря образах погибшего Булатова и его друзей, оставивших такую светлую память, что и через двадцать лет живут их заветами, поминают их благоговейно.
Еще с большим уважением стал смотреть Серяков на своего друга, доверившего ему самые дорогие воспоминания, самые сокровенные мысли. А комната, где они жили, сразу населилась образами значительного и печального прошлого, так не похожего на теперешнюю писарскую казарму.
Но скоро все эти впечатления заслонила разом нахлынувшая работа. Сначала начальство оценило его красивый почерк, стало поручать переписывать важные бумаги, даже доклады на имя военного министра князя Чернышева. А с осени товарищи, исполняя его просьбу, начали один за другим передавать часть своей заказной работы. Потом кое-кому отрекомендовали, свели на дом. К первому снегу Лаврентий стал заправским переписчиком: купил свечей, перочинный нож шведской стали, связку гусиных перьев, бумаги высших сортов и строчил страницу за страницей.
Чего только он не переписывал: то отчет о ревизии почтовых трактов, о ремонте на них станционных построек и мостов, то учебник римского права со множеством латинских фраз, то рассуждение некоего чеха-агронома о распространении в России посадок картофеля. Так что очень скоро на безымянном пальце правой руки образовалась у него настоящая писарская мозоль.
Зато к новому, 1844 году послал в Псков первые десять заработанных рублей, а в посту, ровно через год после расставания с матушкой, еще десять. Вот и достиг того, о чем робко мечтал, идучи по весенней распутице в Петербург с партией арестантов.








