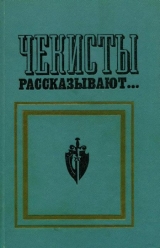
Текст книги "Чекисты рассказывают... Книга 2-я"
Автор книги: Владимир Востоков
Соавторы: Александр Лукин,Теодор Гладков,Федор Шахмагонов,Леонид Леров,Алексей Зубов,Виктор Егоров,Евгений Зотов,Андрей Сергеев,Владимир Листов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Я же предупреждал вас, господин Зильбер, с моей дочерью вам вряд ли удастся установить контакт... Как видите, даже сфабрикованная вами без моего ведома газета не очень-то помогла... Вы не сделали необходимых выводов из информации Коха, из моих комментариев к этой информации... Я уже не говорю о личной просьбе. Я имел честь просить вас, господин Зильбер, не впутывать девушку... Вы не пожелали внять этой просьбе... Потратили много средств, энергии, времени, подвергали риску себя и других... А польза какова?
– Профит еще будет, господин Эрхардт... Смею вас заверить. Контакт с литератором многого стоит. А что касается личных просьб... Что мне вам сказать? Сентиментальность – опасная болезнь...
Бахарев по-прежнему продолжал встречаться с Мариной. Ей показалось, что он остепенился, его не тянет больше в рестораны, к шумному застолью. В чем дело? Марина терялась в догадках. И была среди них такая, что не давала покоя: вероятно, его вызывали, с ним беседовали, предупреждали? И восстанавливая в памяти свой разговор с Птицыным, она думала: неужели так? А почему, собственно, должно быть иначе? О, если бы она сама могла рассказать ему о той беседе. Не может. По крайней мере сейчас. После злополучного обеда на ВДНХ Бахарев счел нужным прийти к Марине и в свойственном ему шутливом тоне извиниться за то, что не сдержал слово, не пришел к ней: «Ваш рыцарь просит нижайшего снисхождения. Турист, Мариночка, оказался существом в высшей степени болтливым и любознательным. Даже сюжет моей будущей повести заинтересовал его...» Николай со всеми подробностями передал ей беседу с Зильбером. И от него не ускользнуло испуганное выражение лица Марины. Для Бахарева уже бесспорно – Ольга, а не Марина наводила «туриста» на след. И все, что произошло тогда в ресторане ВДНХ, – не искусно разыгранная сцена. Надо успокоить ее, объяснить... Рано. Да и поймет ли? И он старался убедить себя: должна понять, она же умница... Скорей бы. И тут же: умей ждать, Бахарев. А она ждать не хотела. Она была настойчива, требовательна.
Иногда Николай куда-то исчезал на несколько дней, но накануне всегда предупреждал: «Буду работать. Легко пишется...» Как-то она спросила его: «Когда же выйдет из печати твоя книга? Ты уже давно получил аванс». Он тяжело вздыхал и сетовал на издательство: «Перенесли в план будущего года».
В эти дни Бахареву и Марине все реже удавалось оставаться вдвоем. У них появился почти постоянный спутник – Ольга. Она всегда находила повод прийти к Марине именно тогда, когда там был Николай, и уйти именно в тот час, когда Бахарев собирался домой. Хозяйка нервничала, иногда даже грубила Ольге. Та делала вид, что не понимает, в чем дело, и продолжала... приходить.
...Ольгу арестовали в Бресте, когда она уезжала домой на каникулы. Все, что предшествовало предъявлению постановления на арест, она восприняла с поразительной невозмутимостью – ни тени смущения, тревоги. Когда ее пригласили в административное здание КПП для осмотра личных вещей, она с холодной вежливостью сказала:
– Сейчас, вероятно, придет носильщик?
– Да, конечно...
– Благодарю вас. – И всем своим видом подчеркнула: да, я понимаю, у вас такая служба. – Пожалуйста – вот все мои вещи... Видимо, тут какое-то недоразумение.
Капитан, производивший обыск, не торопился. Он аккуратно вынимал из Ольгиного чемодана одну вещь за другой, внимательно рассматривал белье, обувь, платья, блузы, шерстяные кофты, всякие безделушки, русские сувениры, бутылки коньяка и пакеты с кофе. Понятые – механик железнодорожного депо и врач медпункта – задремали в мягких креслах. Ольга села рядом с понятыми. Вынув из сумочки губную помаду и зеркальце, принялась освежать бледную краску на губах. Потом спросила: «Разрешите курить?» – словно все происходящее ее не касалось и уж, во всяком случае, не волновало.
Так прошло не менее часа.
Капитан занес в протокол последнюю запись под номером 27. Каллиграфическим почерком было выведено:
«Сувенир – тульский самовар. Цена не обозначена».
Ольга повернула голову в сторону капитана и, улыбаясь, спросила:
– Это, кажется, все? – Пожалуй, впервые в ее голосе прозвучало нетерпение.
И с той же неизменно холодной вежливостью последовал ответ капитана:
– Простите, это еще не все. Разрешите посмотреть вот эту сумочку?
И он потянулся к лежавшей перед Ольгой на круглом столике черной кожаной сумочке. Понятые, впервые за два часа услышав человеческие голоса, встрепенулись, закашляли, заерзали на своих креслах и даже привстали.
Сидевший у окна Птицын все время пристально наблюдал за Ольгой. Он подметил, как круто изогнулась ее искусно подчерненная бровь, как слегка порозовело бледное лицо и задрожали пальцы, ухватившиеся за ремешок сумочки.
– Разрешите...
Ольга разжала пальцы.
– Пожалуйста...
Капитан открыл сумочку и по-прежнему неторопливо выложил на стол пудреницу, расческу, носовой платок, тюбик губной помады, деньги, набор открыток, жевательную резинку... И когда сумочка уже опустела, он осторожно раскрыл ее пошире и ловко зацепил кончик клейкой ленты, скрепившей внутреннюю обшивку с металлическим остовом. Лента легко отделилась, и внутри сумочки обнаружилось тайное отделение. Капитан попросил понятых подойти поближе к столу и на их глазах извлек из тайника несколько листков. Это тонкое шелковое полотно весьма условно можно было назвать бумагой. В тайнике оказались три пронумерованных листка такой бумаги, исписанных убористым почерком.
Капитан взял лист № 1. Первая строка была жирно подчеркнута. Он вслух прочел ее: написанные по-немецки фамилия, имя, отчество и полное ученое звание. Это была фамилия математика, которым так интересовалась разведка.
Капитан бережно отложил в сторону найденные в тайнике листы бумаги и подчеркнуто вежливо обратился к Ольге:
– А теперь я прошу вас снять туфли... Вот здесь коврик... Чтобы вам не простудиться... Или вам угодно будет достать из чемодана другие туфли?
Молча, ни на кого не глядя, Ольга сняла туфли и подала их капитану. Он достал из кармана перочинный нож, легко вывернул четыре шурупа, крепивших каблук правой туфли, и, когда каблук отделился, офицер показал его понятым.
– Прошу вас, товарищи понятые, осмотрите. Внутри каблука тайник.
Капитан и понятые подписали протокол обыска, приложили к нему постановление на арест студентки, вышли. Птицын остался один на один с Ольгой. Медичка поднялась, не зная, что ей делать дальше, поежилась, хотя в кабинете было тепло.
– Вам холодно? Можете накинуть пальто. Нездоровится? Знобит? Да, бывает... Садитесь... У нас разговор будет недолгий, но сидя как-то удобнее вести его. Русские говорят: в ногах правды нет. У меня есть несколько вопросов к вам.
– Слушаю вас.
– Кто была ваша попутчица в купе?
Ольга ухмыльнулась.
– Жена какого-то советника.
– Какого?
– Не знаю точно... Ливанского или ливийского. Ее муж работает в посольстве в Москве.
– Куда едет?
– В Париж. Пробудет там неделю, а потом домой.
– Она знает, кто вы, куда едете?
– Нет, она ничего не знает обо мне. Я пыталась говорить с ней по-французски, но она плохо знает язык. С большим трудом объяснились с ней по-французски и по-русски. Она приняла меня за француженку!
– Ваши родные ждут вас? Вы известили их о выезде? Письмом, телеграммой?
– Я послала маме письмо, в котором сообщила, что выезжаю в Париж, пробуду там три дня, а в пятницу автобусом – домой.
– Вы, вероятно, догадываетесь, что в этом маршруте произойдут некоторые изменения... А мамы на всем белом свете остаются мамами, когда ждут домой своих дочерей. Не надо, чтобы ваша мама волновалась.
Ольга вопросительно посмотрела на Птицына, стараясь понять его.
– Думается, следовало бы отправить маме телеграмму и сообщить ей, что ваши планы изменились, что вы задержались в Москве.
– Я охотно послала бы такую телеграмму, но как это сделать? Если я вас правильно поняла, то больше не принадлежу себе... Так, кажется?..
– Да, вы правильно поняли... Впрочем, это, кажется, не очень трудно понять... Но о телеграмме мы могли бы позаботиться. Вот вам листок бумаги. Пишите.
Ольга написала телеграмму, протянула ее Птицыну.
– Ваша телеграмма будет отправлена.
– Из Бреста?
– Нет, из Москвы. А сейчас прошу вас... – И Александр Порфирьевич подал Ольге пальто.
В тот же день Медичка была отправлена в Москву. Вместе с ней летел и Птицын.
На первом же допросе Ольга собственноручно написала обстоятельные ответы на вопросы. Арестованная ничего не скрывала и даже не пыталась скрыть. Это, пожалуй, шло не от отчаяния, а от сознания: иного пути нет. Она вела себя так, словно давно ждала подходящего случая, чтобы рассказать советской контрразведке о своей шпионской работе. Ее не очень беспокоили утомительные допросы и, видимо, не очень тревожила перспектива суда. И это иногда озадачивало следователя. Однажды он спросил ее:
– У вас сегодня такой вид, будто вам нездоровится. Может, прервем?
Она вскинула на него длинные ресницы и несколько вызывающе ответила:
– Как вам будет угодно. Лично я готова продолжать.
– Вы пользуетесь прогулками?
– Да, благодарю вас...
– У вас есть сигареты?
– Да, благодарю вас...
– Вам дают книги?
– Да, благодарю вас...
– У вас есть какие-нибудь просьбы?
– Нет.
– Почему вы отказались встретиться с представителем консульства вашей страны?
Ольга посмотрела на следователя и сказала:
– Я знаю, что в этом доме вопросы задавать – ваша прерогатива. И тем не менее не могу не спросить: а что я скажу консулу, когда встречусь с ним? Что я агент разведки?
– Ну что же, как вам угодно...
И она продолжала рассказывать, как все это было. Ольга никого не щадила: ни себя, ни своих хозяев. Она никого не старалась выгородить, оставить «в тени». Она ни на чью помощь не рассчитывала.
Следователь уже знал, что эта молодая женщина в последние годы жила двойной жизнью: в институте – серьезна, вдумчива, сдержанна, достаточно прогрессивна в своих суждениях, оценках разных событий. Но это грим. Подлинное ее лицо – падкое на деньги, легкомысленное существо, для которого жизнь – это мимолетные развлечения. Но такой она представала лишь перед узким кругом особо близких ей людей, которым доверяла.
Теперь перед следователем сидела совсем другая Ольга: ни та, что носила маску, ни та, что так цинично смотрела на окружающий ее мир. Это была женщина, видимо, принявшая какое-то трудно давшееся ей решение. Следователь пытался понять: что произошло с этой женщиной? Прозрела, опомнилась? Внезапно наступило духовное обновление? Нет, конечно. Но нельзя было не заметить, как внутренне переменилась Ольга. И эта перемена в известной мере определила ее поведение. У нее не было каких-то убеждений, идей. Была лишь жажда сладкой, бездумной жизни. И сейчас она поняла, что поставила не на ту карту, что она проиграла, и не одна, а вместе со всей своей компанией, ставшей теперь для нее ненужной, далекой и даже враждебной. Она знала: бывшие ее хозяева палец о палец не ударят для спасения или хотя бы облегчения ее участи. И Ольга избрала для себя единственно правильный в ее положении путь: раз попалась, да к тому же с явными уликами, надо признаваться во всем.
Говорит она тихим, размеренным голосом, глядя следователю прямо в лицо.
Ее родители еще до первой мировой войны, сразу же после свадьбы покинули Россию. Отец – немец. Мать – русская. Жили недалеко от Саратова, на берегу Волги. Жили небогато, бедствовали и в далекие неведомые края отправились в поисках счастья. Куда ехать, где найдешь это счастье? Все решило письмо дяди Андрея. Мамин брат жил в Тунисе, писал, что преуспевает, стал хозяином солидного «оффиса». «Приезжайте, не пожалеете».
Мама и бабушка трогательно прощались с Волгой, даже всплакнули. А отец был более сдержан, хотя и у него на душе горько – тяжело ему уезжать с берегов этой широкой русской реки: здесь жили отец и дед его, здесь он родился, рос... Отчий дом! И даже там, далеко-далеко от Волги, под знойным небом Африки, одной из первых колыбельных песен, что напевала бабка Олюшке, была грустная песнь о русской реке. Отец сердился на бабушку, говорил, что с Россией, с Волгой все и навсегда покончено, и грозно объявил, что жизнь в доме своем намерен строить на европейский лад.
Мама смотрела на гневавшегося супруга иронически – пусть себе тешится, ворчит, она-то уж знает – в доме будет так, как она того хочет. А она пожелала, чтобы в доме всегда звучало русское слово и чтобы на столе появлялась русская еда. И Олюшку свою воспитывала так, чтобы помнила и чтила Россию.
Небо Африки оказалось не очень милостивым к переселенцам. Дядюшка явно переборщил в своих восторженных описаниях райского житья в Тунисе. Пришлось перебазироваться в Грецию, оттуда в Югославию. А начало второй мировой войны застало их в Швейцарии.
Ольга тогда была еще крохотулей. Только по рассказам мамы она знала, что в Цюрихе семья их тайно помогала русским военнопленным, бежавшим в нейтральную страну. Когда стало известно, что несчастных этих людей хотят вернуть в Германию, с решительным протестом в адрес правительства выступили местные коммунисты и социалисты. Олины родители не были ни коммунистами, ни социалистами, но они принадлежали к тем прогрессивным людям, которые присоединили и свои голоса в защиту русских военнопленных. И правительство вынуждено было отказаться от своих намерений... В память о тех днях сохранилась у Ольги дудочка, подаренная ей пленным русским солдатом, с которым мама подружилась в парке – он там помощником садовника работал.
В трудные послевоенные годы судьба перебросила их из Швейцарии на север Европы. Они переехали в столицу маленького государства, куда из Туниса давным-давно перебрался дядя.
Здесь Ольга заканчивала гимназию, здесь и спотыкнулась, шагая по неширокой и ухабистой дороге жизни. И не последнюю роль тут сыграл все тот же легкомысленный дядюшка, Андрей Филиппович, господин Андреас – так он именовал себя, так именовали его друзья и сподвижники.
Сподвижники – это из его терминологии. К ним он причислял тех немногих, о которых говорил сугубо доверительно: «Спасители России!»
О том, что «золотых гор» не будет, что дядя по меньшей мере хвастун и обманщик, стало ясно в первый же год жизни на новом месте. Но отнюдь не только по этой причине полоса отчуждения легла между двумя семьями, и в первую очередь между братом и сестрой. Господину Андреасу не нравилось, что сестрица втайне от мужа вынашивает план возвращения на родные волжские берега, не по душе ему были и люди, бывавшие в доме сестры. Среди близких ее подруг – Эрика Мейснер, активная участница движения Сопротивления, познавшая весь ужас гитлеровских концентрационных лагерей. Там она подружилась с русским доктором Анной и бережно пронесла эту дружбу через все военные и послевоенные горести. Они и сейчас сравнительно регулярно переписываются. Вошли в круг друзей дома Марии и родственники Эрики, коммунисты. А для господина Андреаса – это уже «красная зараза», это единомышленники его злейших врагов.
Сейчас трудно сказать, как это случилось, но Ольга, вопреки воли матери, втайне от нее, а может, именно потому, что запретный плод сладок, потянулась к дому дядюшки и, скрывая от родных, частенько бывала там. Впрочем, причина тут была более серьезная, нежели сладость «запретного плода»: в доме дядюшки она познакомилась с приятелем двоюродного брата Петера – Куртом Вильде. Курт был всего лишь на два года старше Ольги, а уже успел многое познать. Красивая Ольга заставила биться сердце юноши чаще обычного, и он перешел в стремительную атаку, используя гостеприимный дом господина Андреаса. Хозяин встречал гостей радушно, полагая, что сие есть продолжение его коммерческой и общественно-политической деятельности. Позже Ольга поймет, что между этими двумя видами деятельности не было никакой разницы – основа у них одна: деньги, как можно больше денег! Но поначалу ей кружила голову атмосфера дома.
Здесь собирались деятели НТС и с пафосом говорили о будущем России, о своем призвании спасти ее от большевиков. Приняв вина сверх всякой меры, гости до полуночи истошно вопили о своей великой «миссии» и похвалялись друг перед другом – кто какой куш смог урвать у американских хозяев за антисоветские провокации.
Так было и в тот вечер. Шумит, гудит эмигрантская «вольница». А в соседней комнате притаились Ольга и Курт. Ольге интересно послушать, что там говорит дядюшка о России, а Курту наплевать и на дядюшку и на его пьяные излияния. Юноша «пылает страстью нежной», он гладит оголенные Олины плечи, руки. Но Оля ловко освобождается из цепких объятий Курта и шепчет:
– Послушай меня, Курт... Не надо... Ну, послушай... У нас дома тоже часто говорят о России. Мамина подруга Эрика получает письма из Москвы от женщины, вместе с которой сидела в лагерях. Но мама и тетя Эрика совсем иного мнения о Советах, – и она головой кивнула в сторону гостиной... – А ты что скажешь?
Но он не слышит, не хочет слушать Олю, ему нет дела до России, до НТС, до дядюшки... Домой она вернулась на рассвете. Мама была предупреждена заранее: «Я приглашена на вечеринку...»
Семья Курта Вильде принадлежала к числу богатых и высокопоставленных. Господин Андреас, человек отнюдь не высоких нравственных устоев, смотрел на забавы молодых сквозь пальцы. Ему нравилось, что в доме его бывает много молодежи. Тем более, что среди далеко идущих дядиных планов был и такой: привлечь и Петера, и Курта, и Ольгу, и ее подружку Веру, дочь русских эмигрантов, к некоторым операциям. Курт рассматривался как источник пополнения кассы – «папа ему не откажет», а на Ольгу и Веру у него были другие виды.
Первое задание дяди показалось Ольге и Вере безобидным и даже забавным. Побывать в порту, где пришвартовался советский теплоход, и проследить, когда и куда ходят советские моряки в часы, свободные от работы. Девушки добросовестно выполнили поручения господина Андреаса. И с нетерпением ждали – что же будет дальше. А дальше следовало такое, что они сразу надули губки: дядя предлагал им познакомиться с кем-нибудь из моряков... Он хихикнул и сказал, что Курт и Петер не будут в обиде, а потом, поняв свою ошибку, патетически воскликнул: «Есть такие великие цели, дорогие девушки, во имя которых все условности должны быть отброшены прочь». Вера робко спросила, какие это такие «великие цели», и Андреас счел возможным вскользь познакомить их с программой НТС, главный пункт которой – свержение Советской власти.
К тому времени, когда Ольга закончила колледж, она уже была существом, познавшим жизнь. Ее уже не устраивали молокососы типа Курта: Оля знала, что и куда более солидные мужчины не отрывают глаз от нее. Ольга знает, что в дядиной гостиной появляется иногда молодой, рано полысевший джентльмен.
С лысым джентльменом ее познакомил дядя, отрекомендовав племянницу как девушку обаятельную, веселую, но при всем при этом весьма преуспевающую в науках, у нее острый ум, искусство наблюдать, видеть и распознавать людей. И тихо добавил: «Моя племянница подает большие надежды... Я имею в виду и наши дела». Ольга усмехнулась и подумала, что дядюшка наблюдателен.
В доме дядюшки она стала своим человеком. И многое увидела, услышала, поняла. Здесь часто говорили о главарях НТС. Называли их фамилии. А охмелев, давали характеристики, порой далеко не лестные... Ей было уже известно, что главари эти в свое время верно служили гитлеровцам, а теперь – американцам и англичанам, что финансовая база союза – весьма зыбка: главный источник – ассигнования американской разведки на так называемую «общую деятельность НТС». Американцы же дают деньги и на разовые операции – провокации против советских граждан. Тут уж составляется специальная и, конечно, завышенная смета. Вот и за «работу» Ольги и Веры в порту дядя получил солидную сумму по «спецсмете». Доллары, фунты – вот что лежит в основе всех «высокоидейных» операций «спасителей России». Устраиваются всякие хитроумные комбинации, американцам докладываются самые нелепые – «полученные из достоверного источника» – сведения о якобы завербованных «советских агентах», только бы хватануть еще один куш.
Заочно Ольга уже знакома с главарями НТС. Тут и бывшие белогвардейцы и их питомцы, давно запродавшие душу и тело разведкам разных стран. Первая скрипка, кажется, Околович: работал и на японскую, и на гитлеровскую, и на английскую, и на американскую разведки. Это не мешает ему сотрудничать с ведомством Гелена. Романов, Крушель – они из «новых эмигрантов», из так называемых перемещенных советских граждан – служат американцам. Поремский – тот сразу на две разведки работает. Бывший служащий парижской уголовной полиции, он был в тесной связи с главарем французских фашистов де ля Рокком. А когда гитлеровцы оккупировали Францию, этот господин был отправлен в Берлин, в распоряжение управления имперской безопасности. Его назначили комендантом в школах немецких пропагандистов Циттенгорста и Вустрау. А через несколько лет он будет уверять, что работал на гестапо с ведома... англичан. Так это или нет – никто не знает. Но после краха гитлеровской империи он действительно стремглав помчался к английским разведчикам.
Ольга с интересом прислушивается к откровениям основательно подвыпивших дядюшкиных гостей. Да и сам он любит похвастать своей осведомленностью. «Вон Романов Евгений Романович!.. Через него все контакты с американцами держим... Вождь! А если бы не война – его на Украине, в Днепропетровске судить должны были...»
Дядя теперь уже, пожалуй, и не стесняется племянницы. Своя! Все знает, все понимает...
И, видимо, решив, что Ольга вполне созрела для дел куда более серьезных, чем, скажем, наблюдение в порту за русскими моряками, он познакомил ее с Карен Милз и Груд Белан. Карен, обаятельная молодая женщина средних лет, отрекомендовалась преподавательницей истории искусств, а незаконный муж ее, долговязый, худющий Груд Белан – хозяином небольшой мастерской «Все для автомобилистов». Следующая их встреча состоялась уже не в доме господина Андреаса, а в приморском ресторане «Креветка» – завлечь сюда легкомысленную девицу было делом нехитрым. Они подружились. У них оказались общие знакомые, общие интересы. Ольга неплохо разбиралась в современной живописи с интересом слушала Карен, хорошо знавшую историю искусств, и с благодарностью приняла от нее прекрасно изданную монографию, посвященную Ренуару. Ей было приятно бывать с Карен, и, как это часто бывает у девушек, подружившихся с женщинами постарше, она с некоторым благоговением относилась к ней и даже в какой-то мере боготворила ее, принимая все сказанное Милз за мудрость самой жизни. Милз сказала ей, что они должны чаще встречаться. Только не в этом шумном доме Андреаса, где слишком много пьют и слишком много болтают. И предложила:
– Пусть этот миленький приморский ресторанчик станет местом наших встреч...
Однажды ее увидел тут отец. Дома разыгрался грандиозный скандал.
– Я уже не маленькая девочка, – парировала Ольга наскоки мамы. – Я уже могу сама выбирать себе знакомых и проводить с ними время там, где это мне приятно.
Отец допытывался, кто эта женщина и кто тот мужчина, что сидел за их столиком. Ольга сказала то, что знала, И еще добавила, придумав легенду о Карен Милз, которая обещает устроить ее на интересную работу в клинику своего знакомого профессора: Ольга решила стать врачом и после колледжа исподволь, не торопясь готовилась к поступлению в медицинский институт.
Семейная буря со временем улеглась. Случилось так, что среди приятелей Милз действительно оказался профессор-окулист, согласившийся взять к себе секретарем миленькую Ольгу.
Теперь они уже встречались в другом ресторанчике – «Дельфин», тоже приморском, но третьесортном: на окраине города. «Пусть это будет нашей маленькой тайной», – сказала Милз. Но вскоре от «маленькой тайны» она перешла к более значительной.
Стоял душный, знойный воскресный день. Нещадно палило солнце. Стар и млад, все живое заполнило пляж, и Ольга, направляясь к «Дельфину», с трудом протискивалась среди людских тел. Ей не очень хотелось уходить от воды, забираться в душное помещение ресторанчика. Но так они условились с Милз. И она не может нарушить слова.
Карен Милз и Груд Белан уже сидели за столиком и пили лимонад со льдом. Ольгу сердечно приветствовали. Груд вскоре поднялся и вышел на улицу подышать воздухом. А Карен, наклонив голову поближе к Ольге, говорила тихо, почти шепотом:
– Ты сегодня очаровательна... Такая, как ты, должна быть королевой общества... И ты обязательно будешь ею. Поверь мне. Олюшка будет иметь все, что она пожелает.
– Кто же тот принц, что сделает меня королевой? – спросила Ольга, и губы ее дрогнули в насмешливой улыбке.
– Ты не иронизируй. Я говорю вполне серьезно. Ты спрашиваешь – кто тот принц? Я назову его – доллар!
– Ты говоришь сегодня какими-то загадками, Карен!
– Я постараюсь обойтись без загадок... – И она пристально посмотрела на Ольгу из-под полуопущенных век. – Я уже давно собиралась поговорить с тобой об одном деле. Мне нужно рассказать тебе кое-что... А, кстати, ты знаешь сколько получил господин Андреас за твою прогулку в порт, где стояло советское судно?..
Ошеломленная Ольга хотела что-то сказать, но Милз остановила. Так Ольга узнала, что есть в городе люди, которые хорошо платят за выполнение их в общем-то безобидных поручений. Политика? Да нет же, никакой политики... Это лишь игра в политику. Просто кто-то заинтересован, чтобы Ольга познакомилась с советским человеком, работающим в торгпредстве. Вот и все. Никакой политики. Деловая сделка. Ни больше...
У «подруг» появилась новая тема бесед. Они встречались еще два раза. Разговор шел о разном, но неизменно кончался «принцем». Ольга терялась в догадках. Что же требуется от нее? Ей не давали никаких заданий, с ней пока разговаривали обо всем и ни о чем. Но постепенно в этих, казалось бы, ничего не значащих беседах она стала улавливать лейтмотив, звучавший, однако, не назойливо: антикоммунизм. Хотя Милз все время подчеркивала: «никакой политики...» Ольга не задавала вопросов. Ей дали понять, что сказанное обсуждению не подлежит...
Туман постепенно рассеивался. Ольга уже, кажется, поняла. И кто они, ее новые «друзья», и что это за «принц», который может сделать ее королевой. Глупая, беззаботная и немного наивная девчонка, поверившая, что самый могущественный в мире человек – это тот, у кого деньги, она быстро клюнула на приманку Карен Милз и Груда Белана – теперь он уже не отмалчивался, не удалялся «подышать воздухом».
Процесс вербовки оказался куда более легким, чем это предполагали «супруги». Правда, пришлось все же уговаривать ее.
Риска никакого, усилий потребуется мало, а вознаграждение солидное... Тогда она еще не понимала что к чему, и поначалу они не очень ясно говорили, в чем будут заключаться ее обязанности, что и для кого она должна делать. Все рисовалось туманно, в общем плане: придется иногда выполнить отдельные несложные поручения, скажем, с кем-то познакомиться, кого-то о чем-то расспросить, что-то узнать, куда-то ненадолго поехать. И тут же подчеркивали: «Все это будет хорошо оплачено». И тут же предупреждали: «Все, о чем мы условились, должно сохраняться в тайне».
Они теперь уже не друзья, а участники тайной коммерческой сделки.
Карен была весьма недовольна, узнав, что родители Ольги знают о существовании Милз и Белан, знают о их дружбе. «Ты должна им дать понять, что дружбы, собственно, и не было, что связь наша оказалась мимолетной, что ты давно забыла о нас и в последний раз мы виделись бог весть когда... Это в твоих же интересах. К дядюшке ходить не надо. Если потребуется – я тебе сама скажу».
И вот уже в их беседах незаметно всплыла еще одна важная тема – искусство конспирации, техника работы вдали от штаб-квартиры.
Несколько месяцев с ней никто не встречался. Казалось, что о ней забыли. И вдруг телефонный звонок Карен Милз: «Оля, я должна тебя повидать». Место встречи было обусловлено заранее: все тот же кабинет приморского ресторанчика «Дельфин». Здесь ей и было объявлено, что она должна поехать в Москву, учиться в медицинском институте. Все необходимое для этого будет сделано без ее участия...
Ольга и рада и растерянна. Что сказать родителям? Откуда вдруг свалилось такое? Но обо всем за нее подумала Милз. Оказывается, «инициатором» поездки в Москву был не кто иной, как шеф Ольги, профессор. И он сам вызвался поговорить с родителями своей секретарши. Родители были польщены. А для мамы это настоящий праздник – ее дочь поедет в Россию, в Москву! С участием Эрики Мейснер обсуждалось ее будущее житье-бытье. Конечно, Эрика даст рекомендательное письмо к дорогой Аннушке, к доктору Васильевой. Ольга будет чувствовать себя в том доме отличнейшим образом.
У Карен Милз и Груда Белана свои заботы по случаю отъезда Ольги. Они по-своему готовили ее в путь-дорогу. За несколько дней до отъезда Ольги Груд Белан вызвал ее в «Дельфин». Они были вдвоем. В отдельном кабинете. И здесь уже Ольге было сказано все, что должен знать резидент, работающий в Москве. Он тщательно инструктировал ее. В Москве она должна изучать окружающих ее людей: профессоров, преподавателей, студентов, их родителей. Собирать о них как можно больше сведений: фамилии, имена, отчества, происхождение, адрес, материальное и семейное положение, способности, жилищные условия, состояние здоровья, увлечения, слабые и сильные стороны характера, пристрастия, политические и философские убеждения, религиозность, отношение к деньгам, служебная перспектива, отношение к советскому строю. По возможности нужно доставать фотографии этих людей, сведения об их документах – паспорт, билет члена Коммунистической партии, комсомола, профсоюза, воинский билет, пропуск в институт, учреждение, библиотеку, на завод.
Груд Белан требовал, чтобы она уделила особое внимание молодежи, и в частности молодым интеллектуалам. Именно в их среде она скорее всего сможет найти те самые критически мыслящие личности, которые, по словам Белана, выполняют роль социального и политического обличителя общества, роль передового борца за высокие идеалы подлинного гуманизма.
Теперь уже Ольге не говорили: «Никакой политики... Только коммерческая сделка... Только деньги...» Она давно поняла, что это за «безобидные поручения», щедро оплачиваемые мифическим «принцем». Теперь разговор идет в открытую, все фиговые листочки отброшены. Белан ссылается на каких-то, по его мнению, видных экономистов, философов, социологов.
– Помните, – поучал он, – в наше время иногда важнее владеть идеями, умами людей, нежели созданными ими машинами. Будущая судьба современного общества в руках, точнее, в умах интеллигентов. – Шеф назвал их «пятым сословием» и несколько театрально воскликнул: – Вот сфера ваших действий, контактов! Нам важно знать, действительно ли в Советском Союзе существует так называемая независимая интеллигенция, и если это так, то мы должны выявить ее кадры.








![Книга Мемуары [Лабиринт] автора Вальтер Шелленберг](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-memuary-labirint-27933.jpg)