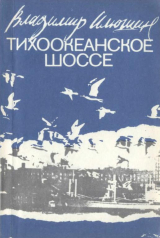
Текст книги "Тихоокеанское шоссе"
Автор книги: Владимир Илюшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Путина
Повесть
1.
Всю ночь над лесом и рекой небо звенело тонко и нежно – льдинкой в стакане, заблудившимся журавлем… Облака ползали туда-сюда, погромыхивали, огрызались. Лес стоял молча, тяжелый, сырой. Сонная трава шелестела: «Что? Что?». А небо кричало и пело, то притихало, будто во что-то вслушиваясь, то опять начинало метаться, полыхая зарницами, говорило вскрикивало, трясло колокольцами, орало, потрясая кулаками; все слабее, слабее, а потом умолкло совсем и, посерев от бессонницы, утомленно потекло вниз, по ветвям и коре, под лопухи и папоротники, ближе к теплой спросонья, глуповатой земле, где трудно и слепо, будто замерзшие пальцы, шевелились уже, просыпаясь, корни деревьев. Речка послушала, вздохнула тихонько, замерла, послушала и побежала себе, забубнила по-своему, по-хозяйски расталкивая голыши. Прошуршал ветерок, ветки шевельнулись, стряхивая капель, целящимся глазом открылся на востоке рассвет, и опять все стихло. Потом земля густо запарила, туман окутал деревья и лег, придавив листву, зажимая ей шелестящий рот. Замер лес, тускло забренчала капель и утренней слезой побежала по стволам, вниз, вниз; речушка взбухла, хохотнула, прошлась по ивнякам, как погладила, побежала, завиляла в тумане, недовольно вскрикивая и бранясь, побежала, запинаясь о голыши, сворачивая, возвращаясь, бранясь, вырывалась из парного, белого леса и, широко вздохнув, вошла в залив, растекаясь, ленясь, засыпая. Залив наподдал ей волной: «Куда, шуш-ш-шера?» Из-за мыса в заливе выплыл пароход с высокой трубой, загудел и гудком пробил дыру в оцепеневшем воздухе. Туман со свистом втянулся в нее, разорвался, поплыл белыми облачками, закудрявился в синеве.
А из тумана возник Одноухий…
Он стоял у самой воды, под развесистым ивовым кустом, подняв тяжелую башку со свалявшейся бурой бородой на горле и черным пятачком носа водил из стороны в сторону, втягивая плывущие над рекой запахи. Над водой летели рваные клочья тумана, желтая вода закручивалась в водовороты, вспухая шапками грязной пены, несло щепу, лесной сор, сухие коровьи лепешки. Воздух был взбаламучен и пестр. Мычали коровы на ферме чуть выше по течению, по-утреннему хрипло, недовольно, взревывал движок на рыбзаводе, глох, опять принимался кашлять, стреляя надсадным, буравящим ухо выхлопом, глох, и в такт ему ругались мужские голоса. Перекликались доярки, и тоненько бренчало железо. Блуждающими потоками возникали вдруг неведомо откуда занесенные голоса, прерываясь на полуслове, далекие шумы, и даже послышался вдруг над рекой трамвайный звонок, блуждающим призраком залетевший из далекого города. Голоса и шум возникали в плотном утреннем воздухе со всех сторон. Кто-то под самым носом, у Одноухого вдруг сказал: «Саша», рассмеялся, и тут же застучали чьи-то каблуки по асфальту.
Медведь нервничал и то и дело крутил башкой, недоуменно порыкивая. Голоса возникали со всех сторон, воздух раздражал Одноухого. Воздух был суетлив и неспокоен и пах железом, коровами, мазутом. Воздух был сломан и пах несуразицей. Эта земля опять сменила кожу, и он не узнавал ее. Казалось, он заблудился и пришел куда-то не туда незваным гостем. Все вокруг было опять чужое – тропинки легли по-другому, река сменила цвет, голоса, похаживая вокруг, кричали о подмене. Но речка все равно была его, потому он и пришел сюда, как приходил много лет подряд, каждую осень, когда шла из океана на нерест кета. Он был слишком стар, чтобы менять ее. И слишком упрям.
Неподалеку от обмыска, где стоял под ивой Одноухий, проснулись в палатке два рязанских браконьера, приехавших на Сахалин за икрой. В палатке вдруг заворочались, закашлялись, остренько запиликал включенный приемник, и один из браконьеров, пожилой, вылез наружу, позевывая. Он встал у реки и пустил в воду тугую струю, зверски выворачивая в зевке челюсть и почесывая свободной рукой затылок. Позевал, позевал, потом застегнулся и полез в палатку досыпать.
Солнце высунулось из-за леса, и длинные тени деревьев, ночные их призраки, спасаясь, прыгнули в реку, в холодок. А река текла, и мотыльки вычерчивали над ней кружевной узор. Медведь тронул воду лапой, отдернул ее, низко опустив нос, посмотрел на свое бегучее отражение, склонил голову набок, рявкнул на всякий случай и вошел в воду. Она зажурчала вокруг лап, приятно захолодило брюхо и пах, и Одноухий постоял, жмуря глаза и чуть оскалясь. Потом пошел потихоньку, и когда его оторвало от дна, задрав голову, поплыл, неуклюже, но сильно работая лапами. Выйдя на противоположный берег, он отряхнулся, превратившись на мгновенье во взъерошенный шар, и, не спеша, продравшись сквозь заросли кустарника, пошел меж деревьями по мхам и траве, иногда останавливаясь и обдирая со стволов плети дикого винограда. Он шел к болоту. И чем ближе к нему подходил, тем меньше ему попадалось следов и вытоптанной травы. Наконец следы исчезли совсем. Одноухий сделал широкую петлю, вломился в заросли лопухов и лег носом к следу, положив голову на лапы.
Он шел двое суток, Одноухий, – спустился с гор на густонаселенную равнину и шел ночами. Он очень боялся железной дороги и долго не решался перейти ее. Почти целый день скрывался на городской свалке, потому что город не обойти, а спрятаться было негде. И одичавшие собаки, которые жили на свалке стаями, ободрали ему «штаны». Вот до чего он дошел, Одноухий, – какие-то шелудивые собаки гоняют его. И все-таки он добрался до речки, несмотря ни на что. Потому что речка была его. Глупый, старый, упрямый медведь…
Он чувствовал сильную боль где-то под черепом. Когда он шел, замечать ее было некогда, но сейчас она мучила его и Одноухий тихонько рычал. Он лежал, и рычание вибрировало в клыках, колебля травинки. Потом боль прошла, и он забыл о ней, уснув. Сон его был неспокоен и тяжел. Снова собаки грызли ему зад и он бежал от них, панически оскальзываясь на грудах мусора, как деревенщина от городских хулиганов, и снова летел на него по синим, освещенным луной рельсам сумасшедший глаз тепловоза. Шерсть на загривке поднималась дыбом, медведь грозно рычал во сне, а то вдруг принимался жалобно, по-щенячьи поскуливать. Чутким сторожем ходило на голове здоровое ухо и вздрагивал, словно силясь повернуться, обрубок второго.
Солнце наконец оторвалось от земли, повисело, будто примериваясь, стоит ли начинать еще один день, и двинулось вверх. Успокоенный воздух выровнялся, расслоился, птицы перелетели с дерева на дерево и их бестолковый гвалт выстраивался в причудливые лабиринты. Зажужжали шмели, муравьи зашуршали в траве, двигаясь куда-то длинной колонной, и монотонный гул жизни волнами поплыл по лесу.
По тропинке, ведущей из города, тихонько вышел к речке старый кореец с большим, сплетенным из бересты коробом за плечами. Он остановился, увидев медвежий след, а ноги его продолжали мелко семенить на месте, словно старик бежал мелкой трусцой. Опиравшиеся на палку узловатые, коричневые от загара и сока растений руки мелко дрожали. На нем были синие, из грубой материи брюки, мокрые до колен от росы, сандалии, брезентовая куртка и соломенная, конусом, шляпа. Он подождал, пока руки и ноги успокоятся, потом медленно, в два приема, снял короб и присел на корточки. Осмотрел отпечаток медвежьей лапы, вдавленный в сырую землю у воды, и потрогал его пальцами, почти не чувствуя землю из-за мозолей. Потом сдвинул шляпу на затылок и, осмотрев противоположный берег, нашел место, где медведь вышел из воды, – в серебряно-дымчатой от росы стене зарослей темнело большое пятно. Глаза старика слились в узкие щелочки, верхняя губа в седых редких волосках приподнялась, обнажив пожелтевшие от чая и табака редкие зубы.
«Он опять пришел, – подумал кореец, – он такой же старый, как я, и все равно молодой, потому что старый медведь – это не то что старый человек». Он достал из-за пазухи длинную, с маленьким чубуком трубочку, пачку папирос и спички. Выкрошил в мундштук половину папиросы, примял большим пальцем, чиркнул спичкой, вобрав худые щеки, затянулся и пыхнул белым вонючим дымком. Стайка комаров шарахнулась по кустам. Старик опять пыхнул, выпустив белый клуб, и большим пальцем примял рдеющий табак в мундштуке.
Он сидел на корточках и смотрел на реку, не видя ее. Потом встал, отложил трубку и стал собирать сушняк. Движения его были скупыми и выверенными, будто бы он точно вычислил, какое количество их ему осталось еще сделать, и теперь экономил. Собрал охапку хвороста, срезал в кустах рогульки, воткнул их в землю, поджег сушняк, достал из короба железную банку с проволочной дужкой, зачерпнул воды из реки, ладонью отогнав сор с поверхности, и повесил банку над костром. Когда вода закипела, бросил в банку щепоть заварки, пригоршню красных ягод лимонника, снял банку с огня и накрыл ее тряпицей. Подождал, пока отвар настоится, помешал в банке палочкой и, обернув ее тряпицей, стал прихлебывать, обжигаясь и дуя.
В лесу звонко хлопнул бич, замычали коровы, и из затрещавших, раздавшихся в стороны кустов вышел белесый, в рыжих подпалинах бык. Медвежий запах беспокоил его, красные, налитые кровью глаза блуждали. Бык заревел, раздувая ноздри и пригнув голову, копытом стал рыть землю, сдирая траву. В кустах колыхались вскинутые коровьи головы с влажными, сизо затуманенными зрачками. Чуя коров позади, бык заревел сильней и замотал башкой, бодая воздух. Коровенка с отвислым брюхом сбежала к воде и стала пить. Бык ударил ее в бок и, возбужденный собственной удалью, вдруг полез на нее. Она рванулась и побежала от него, задрав хвост. Бык неловко упал, зацепив рогом землю, вскочил и опять бросился к воде, бодаясь и хлеща хвостом по бокам.
Из кустов выехал на лошади пастух в распахнутой телогрейке. Рыжая, с лисьей мордой собачонка, что вилась в ногах лошади, увидев сидящего на корточках корейца, ощетинилась и стремглав, захлебываясь лаем и морща кожу на носу, кинулась на него. Но старик сидел неподвижно. Собачонка, с разбегу притормозив, оглянулась на хозяина и повиляла хвостом, словно спрашивая, – достаточно ли она усердна. Потом, тускло зевнув, клацнула зубами, поймала на лету муху, облизнулась, порычала для порядка на коров и завиляла по кустам, ткнувшись носом в землю.
– Здорово, Пак! – крикнул пастух, блестя молодыми зубами на шелушащемся от загара конопатом лице. – Много травы насобирал?
Кореец растянул губы, держа в руках банку, и часто-часто закивал, будто кланяясь.
– Медведь объявился, зараза! – сказал пастух и, откинув полу телогрейки, выдернул из пачки мятую папиросу. – У самого загона шлялся, понял, да? Обнаглел! Ну да не на того напал, я его достану. А что, спорим, достану?! – закричал он опять почти обиженно, вдруг посчитав, что Пак ему не верит и поэтому улыбается. – Я его живого из шкуры вытряхну, слышь, а шкуру тебе отдам!
Пак все сидел на корточках, растянув губы и часто-часто кивал. Пастуха он немного побаивался, потому что не знал, чего ждать от него в следующую минуту. Вдруг он рассердится и прогонит старика из леса, чтобы тот не рвал траву, предназначенную для коров… Пак не мог понять, зачем пастух хочет убить медведя. Разве у него нет еды? И разве медведь кому-нибудь помешал? Старый кореец всегда старался быть приветливей с людьми, которых опасался. И, не щадя шеи, кивал пастуху, со всем соглашаясь.
День обещал быть хорошим, ясным, настроение у пастуха было отличное и ему хотелось что-нибудь совершить, неважно для кого, только бы все знали, какое у него большое, щедрое сердце и широкая душа. И сейчас, неожиданно придумав подарить медвежью шкуру старику, который, по слабости своей, только и мог что щипать травку под деревьями, что по его, пастуха, мнению было бесполезным и даже постыдным для мужчины занятием, он сам себе обрадовался и стал еще великодушнее. Ему жгуче захотелось бросить коров, немедленно отыскать и застрелить медведя.
Он сплюнул, раскрутил бич и, привстав на стременах, звонко огрел быка по спине, а потом, оскалившись от нахлынувшего азарта, еще раз. Коровы заревели, и, ломая кусты, стадо двинулось дальше. Пастух возбужденно погонял их и все щелкал бичом, точно погоняя медлительное время, потому что мысленно уже сидел в засаде, стрелял, бежал, кричал и потом рассказывал дояркам про пережитые страхи, выставив на обозрение еще не засохшую, сочащуюся сукровицей шкуру. Он был нетерпелив, ему хотелось делать добро, хотя он толком не представлял, что же оно такое. Он страстно хотел делать добро и совать под нос тем лентяям, которые провожают его утомленным мудростью взглядом, не желая это добро хватать. Он готов был воевать за добро немедля, сейчас, хотя и был простой пастух, два года как пришедший из армии.
«Что ж, – подумал кореец, когда стадо скрылось, – может быть, после смерти медведь станет деревом, а я стану медведем и пастух меня убьет. Всегда кто-нибудь кому-нибудь мешает, и чем медведь лучше дерева, – а ведь их рубят тысячами и никому их не жаль, даже когда деревья плачут». И еще он подумал – слышал ли кто-нибудь плач дерева? Ведь деревья только шелестят, а иногда скрипят и раскачиваются.
Он посидел еще, докурил трубочку, разглядывая темную дыру в зарослях на противоположном берегу, в которую ушел медведь, сделавшись невидимым, потом выплеснул остатки отвара в прогоревший костер, положил банку в короб, предварительно завернув ее в тряпицу, просунул руки в брезентовые лямки, встал, засеменил ногами на месте и, дернувшись, как машина, у которой включили скорость, двинулся по лесу, время от времени останавливаясь и вороша палкой траву. Мысли его были просты и незаметны, как воздух, и так же незаметно текли, не тревожа его. Он шел по колено в траве, словно бы плыл, а над ним шатром колыхалась листва, перевитая лианами, вспархивали птицы, что-то шуршало в траве.

Старик думал: кем может стать медведь после смерти? Может быть, человеком? А может, он совершил какой-нибудь грех и за это станет рыбой и будет плавать, немо разевая рот? Старик верил в перевоплощения. Его дети, обвившиеся вокруг его жизни, как лианы вокруг дряхлого ствола, смеялись над ним, и он им не перечил, потому что весь свет был для них, а он теперь чаще присматривался к земле, чем к небу. Он соглашался с ними, а про себя думал: «Если одно не превращается в другое, откуда же тогда все взялось?»
Он шел вдоль берега, следуя поворотам реки, и у поваленного тополя на той стороне, где крутился водоворот, кружа по воде хлопья пены и мусора, увидел палатку. На тополе сидел молодой парень, чистил картошку и бросал в воду кожуру. Чуть поодаль дымил костерок и висела на кустах нейлоновая сеть с забытым в ячее челноком. Парень что-то насвистывал, поглядывая на синий проем неба над рекой, в котором плыли тугощекие смеющиеся облака. Картошки вылетали из-под его ловких пальцев одна за другой и быстро шлепалась в котелок, будто стесняясь белой своей голизны. Старик долго стоял, разглядывая палатку, костер и парня, потом свернул от реки в лес. А лес переговаривался, шумел, гудел себе, не замечая его, потому что старик двигался медленно и молчал.
Метрах в двухстах от палатки браконьеров забормотал мотор, взвыл, преодолевая какую-то преграду, и из кустов высунулась вишневая морда «Жигулей». Захлопали дверцы, и из машины вышли четверо – две девушки и два парня. Они стояли каждый сам по себе, разглядывая реку и берег. Потом один из парней – коренастый, широкогрудый, с черной бородой и по-пиратски подвязанными платком волосами, в тельняшке, прошелся по полянке, задрав голову на кроны деревьев, хлопнул ладонью нетолстую березку, постоял, что-то прикидывая, вернулся к машине, вытащил из багажника топор, походил вокруг деревца, поплевал на ладони и, широко размахнувшись, разворачивая широкий корпус, с потягом, умело всадил топор под самый комель. Береза дрогнула кроной, оторвалась сухая ветка и с шорохом рассыпалась в живых ветвях. Опять сверкнул топор – и белый кусок древесной плоти отскочил от ствола. Подруб полукругом опоясал ствол, крона вздрагивала все чаще, потом в теле дерева что-то звонко лопнуло, и двумя ударами чернобородый умело положил березу в прогал меж кустами. Потом схватил комель и, натужась, потащил в сторону, а напарник его, сев за руль, подал машину ближе к воде и стал выбрасывать на траву яркие мешки и сумки. Вдвоем они быстро поставили палатку, вбили в землю треножник для котла, расчистили полянку от мелких кустиков и охапками стали таскать в палатку траву.
Девушки тем временем спустились ближе к воде, сбросив босоножки и тихонько о чем-то переговаривались, посмеиваясь.
– Купаться хочется! – сказала одна, потянувшись и ладонями встряхнув за спиной густые каштановые волосы. – Как ты думаешь, есть тут местечко, где можно обойтись без лишних церемоний? Я как назло купальник не взяла, а водичка те-о-оп-лая…
– Здесь вода, наверно, грязная и комары. – Рыжая востроносенькая девушка посмотрела на подругу округленными глазами, прижав к губам кулачок. – Да и мальчики…
– Мальчики не будут в обиде. А мне здесь нравится, честно.
– Девки-и! – заорал им бородач, весело скалясь. – Вы чего там секретничаете? Идите помогать!
– Ты знаешь, Женька прямо какой-то бешеный, – сказала темноволосая подруге, посматривая на бородача и посмеиваясь. – Если уж он вырвался на природу, ему надо ночевать в стогу, рубить деревья и костры жечь до неба. Прямо необузданный какой-то! Я от него бегала сначала, думаю – какой дикарь. Ему все сразу вынь да положь, он и сюда меня, думаешь, для чего затащил? Но вот ничего ему не будет, не дождется! – Темноволосая тихонько рассмеялась, прижав к губам палец и любовно оглаживая глазами фигуру бородача.
– Они вместе работают? – спросила рыженькая.
– Мишка у Женьки начальник, – сказала темноволосая. Прищелкнув языком, она многозначительно посмотрела на подругу и опять прыснула в кулак. – Так что, Олечка, не упускай шанс!
– Рая, ну ты прям…
– А что тут такого? Ты же не хочешь до старости оставаться старой девой!
– Ну Рай!..
– Ладно, ладно. Какие мы правильные! – Она потянулась, натянув грудью легкую ткань. – А по правде, этот Миша просто зануда, бука какой-то. Будь ему сорок лет, а то корчит из себя не понять что, да еще смотрит, будто ты ему червонец должна. Не люблю таких.
– Да нет, он хороший парень, – протестующе округлила глаза рыженькая Оля. – Просто неразговорчивый, у него, наверно, жизнь тяжелая.
– Уже заметила? – усмехнулась темноволосая. – Ну что ж, может, и хороший парень, но дурак, а ты дурочка. Вот будет парочка!
Рыженькая Оля смотрела на текущую воду, по-детски круглыми, готовыми улыбнуться и удивиться глазками и морщила губы, о чем-то смутно думая.
– Ой, смотри – комар в воду попал! – сказала она и рассмеялась.
В воде бежало ее отражение, и от него было трудно оторвать взгляд.
Пожилого браконьера разбудила машина. Он еще полежал, поворочался на жесткой подстилке, пытаясь вернуть сон, позевал недовольно, покряхтел – бока отлежал, надо ж так, – потом поднялся, откинул марлевый полог, высунул из палатки небритую, опухшую со сна физиономию, огляделся и вылез. Молодой его напарник помешивал в котелке варево, насвистывая что-то. Рядом с ним на пне потрескивал, завывая на посаженных, отсыревших батарейках, перевязанный клейкой синей лентой приемник, и обрывки какой-то безалаберной песенки скакали из него, раздражали. Над костром на колышках сушились резиновые сапоги молодого и грязные, в фиолетовых разводах, байковые портянки. Сон был плохой и настроение у пожилого было скверное, брюзгливое. Он уже начал было ворчать, чего это портянки рядом со жратвой, но вдруг подумал, что портянки портянками, а вот машина – кто б это мог быть?..
Он прошел к воде, встал на колени, долго, старательно плескался, откашливался, отхаркивался, черпая воду ладонью, лил на шею, скреб за шевелящимися ушами, полоскал рот. Потом насухо вытерся полотенцем и еще постоял, подышал, ожидая, когда откатит окончательно сонная одурь. У костра налил в кружку чаю, горячего, густого – язык разом связало, опять потянуло ругаться: экономить надо, экономить, а не транжирить! Постоял, прихлебывая из кружки, поглядывая на «связчика». Слышал тот машину или нет? Да разве же они что слышат, разве что видят? Они и впрямь думают, что жизнь им, как цацка. Вот и у это-га глаза телячьи, хоть здоровый парень, а не помощник, нет, не помощник. Сюда бы мужика здорового, матерого, который на все вприщур смотрит, прикидывая, что оно, как и почем. Но, с другой стороны, с матерым дело иметь – ухо востро держать, а этот что? – ломит, улыбается и ломит, сила в нем кипит, расчета нет, копейку жать ему западло. Дурачок ведь, дурачок, ну да он и его прищучит когда-нибудь…
– Приезжал кто, что ли? – осторожно спросил пожилой. – Что машина-то гудела?
– А никто не приезжал, приснилось тебе, – беспечно ответил напарник.
Он все насвистывал – загорелый, крепкошеий, с покатыми сильными плечами, мешал ложкой суп из концентратов, время от времени по-детски облизывая ее, посматривал себе на облака, улыбался, и видно было, как легко и просто ему живется. Нравилось ему тут, на Сахалине. Пожилой улыбнулся углами губ, завидуя, но тут вспомнил о главном и опять нахмурился.
Рыба не шла, хотя подошел уже срок. И его точило опасение, что, может, кета теперь здесь вовсе и не идет. Года три назад он приезжал сюда, на речку, с опытным человеком из местных, дальним родичем. Тогда они взяли за какую-нибудь неделю килограммов по двадцать икры, да по бочонку брюшков засолили, да балыка по пуду навялили. Разом столько денег, сколько тогда выручить удалось, он за три года больше в руках не держал. Всей работе сроку было – неделя! И на этот раз хотел он порыбачить, уже и пропуска им с соседом родич устроил, а сам вдруг в последнюю минуту отбил телеграмму, что компании составить не может. Отозвали родича из отпуска, и сейчас он плывет себе в Австралию за бараниной и в ус не дует.
Три года назад было проще, – народа меньше шлялось, фермы не было и рыбзавода этого паскудного не было. Медведи шатались, это точно. По ночам они с родичем боялись спать, хоть и ружье было. За три года перемен произошло много, а главное – кета, может, и не заходит теперь в эту речку, может удобрениями ее потравили или еще какую гадость слили. Рыба, говорят, этого не любит и больше в ту речку не заходит. Пожилой злился. Злился на рыбу, на родича своего, на молодого веселого напарника, которому все нипочем, на все наплевать. А деньги теперь как вернуть, которые ухайдаканы на сеть, на билеты? С кого их спросишь, с рыбы, что ли? У-у-у, паскудная тварь, не он над ней начальник, он бы ее бичом гнал, чтоб не шлялась где попало!
Он посидел у костра, попил чайку, все больше раздражаясь. Не утерпев, сорвался, наказав молодому доваривать, да не пересолить, и пошел через лес, к болоту, где он видел свеженаезженную колею, и если где ездить, то там. Шел быстро и раздраженно, прикидывая, а что если, не дай бог, инспекция? Под ногами пружинило, выдавливалась вода. Обочь, в кочке, заметил кустик голубики, присел, пропустив веточки сквозь растопыренные пальцы, как совком, сняв с десяток сизых, белым тающим налетом обметанных ягод, кинув в рот, пожевал, морщась, чувствуя на языке кисловатую мякоть, снял еще, подумав про себя, как бы не подцепить чего, – ягода в полный сок еще не вошла, кислит, начнешь по кустам бегать – какая там рыбалка! Но тянуло неудержимо и кустик обобрал дочиста. Сделал еще шаг, другой – опять кустик, а ягодки уже не круглые, а длинные, вытянутые, кислые на вкус, дурманящие. У него даже глаза сузились от удовольствия, будто в детстве, когда по ночам, торопливо, вздрагивая от каждого шороха, обирал в соседском саду малину. Руки от сока посинели, пальцы липнут, а все рвут, сыплют в рот полные горсти, а глаза уж следующий куст ищут.
Так, на коленях, и выполз на марь. И там обомлел… Меж кочками, куда ни глянь, плещут на ветерке, парусят платья, голоса перекликаются, бидончики позвякивают, а чуть в стороне стоит, уткнувшись тупой мордой в куст, веселенький красный автобус. Городские за ягодой понаехали! Он посмотрел, посмотрел, ошалело вскинув белесую бровь, и зло сплюнул. Черт их принес! Теперь попробуй потаись. Солнце сильнее припечет, – как есть на речку повалят, сеть на кусте увидят, палатку. Да дураком надо быть, чтоб не понять, что двое мужиков на речке в путину делают. И заложат, заложат, суки! Попробуй сейчас разберись, кто из них какую форму носит. Т-т-туристы! На природу, значит, потянуло, не сидится дома-то тунеядцам, – вишь, вода у них есть, не носить, не таскать, огородов не держат… Понаехали на дармовщинку, ягодки захотелось!
Эх, будь его воля, он бы эти ягодники не разбазаривал, а настоящим хозяевам отдавал бы, у него не пошлялись бы, не потоптались. Хотелось засвистеть, чтоб кинулись испуганно, и – в милицию, на предмет протокола. Государственное добро ведь разворовывают! В домашнем своем саду сколько приходится горб гнуть, сколько пота пролить, да еще потом на базаре спекулянтом обзовут, дескать, непомерную цену дерешь. Знали б они, что и как достается! Но тут вот… Ведь не сеет никто, не удобряет, не поливает, не ухаживает, а оно растет, и хоть ты тресни. Господи, да если ты вправду есть, что ж ты такое творишь, а? Что ж ты хулиганишь? Ведь не дай бог такое в Рязань, – сколько людей без куска хлеба осталось бы, сколько последнего удовольствия на копейку обсчитать лишилось бы, ай-я-яй…
«Что это я порю-то, – вдруг удивился он про себя, – что несу-то несусветное? Тьфу, ты, пропасть, совсем с этой рыбой ума лишился. Чего расстраиваться-то?». Так ведь расстроишься! Сколько добра кругом – и куда его все девать, ведь пропадает, пропадает! Может, в газетку написать, а? Предложить, чтоб никого в лес просто так не пускали, а продавали бы лицензии, – от трех рублей до десяти. Если три рубля заплатил, – можешь себе свободно ходить, воздухом дышать, но не больше, если пять, к примеру, – цветок там сорвать или два, ну и так далее. Он даже остановился, вдумываясь в сочиненное, и сам себе удивляясь. Вот голова-то, варит! Надо, непременно написать надо. Как просьбу трудящегося. К трудящемуся, небось, прислушаются пачкуны эти, которые не сеют, не пашут, а только языком болтают. Народ у нас сознательный, ради общей пользы, надо будет, – сам себя выпорет, а тут такое дело, миллионное! Надо, надо написать. А там, глядишь, и о нем вспомнят, может, и портретик где напечатают, вроде как изобретателя-рационализатора из простых… Тут он себя одернул, – ишь размечтался, старый дуралей, ишь куда понесло! И все-таки приятно было. На душе от этих несолидных вроде бы мечтаний поотмякло что-то. И настроение после дурного, маятного сна поулучшилось. Процентов на двадцать поулучшилось – это точно.
И тут, едва носом не ткнувшись, запнулся вдруг, чувствуя горячо толкнувшуюся в виски кровь. Рядом со старым, дуплистым тополем, на мягкой, перетрушенной земле муравейника – медвежий след… Замер, настороженно оглянулся, присел на корточки. Мысль, сорвавшись, лихорадочно заскакала. «Ружье где?.. Сегодня же почистить и чтоб всегда под рукой было, мало ли… Жаканы?.. Взял, точно взял… На рыбу пришел, не иначе – он лучше рыбинспектора знает… Значит, не ушла рыба, не ушла!.. Добыть бы шкуру… А ну как своей лишишься?.. А при случае можно и рискнуть… Стрихнину бы насыпать, рыбку какую выловить, завонять, да со стрихнином и подбросить, да где его теперь возьмешь, стрихнин-то?..»
В ветвях над головой что-то зашелестело, зашуршало, посыпались сухие веточки, кусочки коры. Разом оцепенев, чувствуя предательское бурчание, вжался плешивым затылком в ослабевшие плечи, задрал пористый утиный носик, мутные глаза тоскливо расширились, ожидая, что выглянет вот сейчас страшная оскаленная морда.
Листва на дереве колыхалась, солнце высверкивало, пробегало в тенях, слепило. На нижней ветке сидел, наклонив голову, дрозд и выпуклыми черными бусинками глаз изумленно рассматривал сидящего под деревом на карточках человека. «Так это ж… это ж в животе у меня бурчит… Ф-ф-ф-у ты, зараза!» Прелый сук, брошенный ослепшей от злости рукой, заскакал по ветвям, соря трухой, дрозд снялся и фр-р-р! – часто-часто махая, унесся куда-то в подвижные лабиринты зеленых ветвей.







