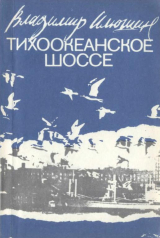
Текст книги "Тихоокеанское шоссе"
Автор книги: Владимир Илюшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Буханка
Помню, звезды в лобовом стекле плыли фонарями, и иногда наносило дымом, а в ушах стоял сплошной гул, и изредка впереди вспыхивали искры, быстро гаснувшие на встречном ветру.
Не помню, что мне тогда снилось в кабине трактора, может быть – дом, а может быть – еда. Я сидел на ящике с инструментами, поджав к подбородку колени, клевал носом и чувствовал, как кожа от холода немеет. Я весь был холодный и от этого уже не мерз, просто мне казалось, что сам я весь нахожусь где-то у себя в груди, что вот там-то и есть я живой, а вокруг мое застылое тело, в котором еле-еле движется кровь, холодная, как у рыбы. Я обнимал себя руками, грел грудь, и мне там было тепло, а руки и ноги были уже не мои и я не обращал на них внимания. Поезд шел, грохотали колеса, в щели несло ледяным ветром, над степью отвесно стояла фиолетовая, выстуженная, прозрачная ночь, а в ее подножье катила, играя пороховым переменчивым блеском, степь, было много звезд. Когда ноги затекали, я стучал ими о пол, если не помогало – открывал дверцу с сорванной пломбой и вылезал на крыло, в грохот и гул. Синяя опрокинутая плоскость валилась в глаза, волосы поднимало ветром, я видел блестевшие под луной крыши тракторов на платформах, вагоны и полувагоны – всю длинную дугу состава, которая уходила куда-то во тьму, пропахшую копотью. Оттуда роем разлетались искры и изредка несся тяжелый, утробный рев тепловоза.
Я бегал по платформе, чтобы согреться, обдирал бумагу с кабин, снова залезал в свой «Беларусь», кутал в бумагу ноги, поясницу и опять клевал носом в полусне-полуяви.
Кто-то ходил по платформам и светил фонариком. Желтый пронырливый огонек заглядывал в кабины тракторов, шарил по дверцам. Я понял, что ищут меня: наверно, кто-то из сопровождающих заметил, а может, с какого-нибудь полустанка передали, так, мол, и так, видели человека в тракторе. Но меня это не пугало: ищут, ну и пусть ищут, я крепче обнимал себя, чтобы согреть человечка у себя в груди, и прятал подбородок в воротник рубахи. Да и что я мог сделать? Не прыгать же на такой скорости ночью.
Я возвращался домой после месячного бродяжничества по югу России. Что меня туда понесло с сотней рублей, заработанных летом в топографической партии, я и сам не мог понять. Глупая какая-то романтика. Я уехал из дома, оставив мужественную записку, чтоб меня, дескать, не искали, доехал до Харькова, там пересел на южный экспресс и через двенадцать часов был уже в Минеральных Водах. Ну и так далее. С группой московских туристов пересек Кавказский хребет и очутился в Сухуми. Денег мне хватило до Новороссийска, и я решил, что пора возвращаться. Во мне играло какое-то глупое упрямство, ведь можно же было найти где-нибудь рубль, ударить телеграмму домой, чтоб выслали деньги на билет, но мне казалось, что я должен доехать сам: мол, сам уехал, сам и приехал, на свои, такой вот я самостоятельный. А иначе как оправдать этот убег, чем? Так или примерно так я тогда думал. Впрочем, в шестнадцать лет это не удивительно. Ехал я на попутных машинах, товарных поездах и электричках и за десять дней голодной жизни дошел, что называется, до ручки. Я забыл еще и о том, что здесь не то, что у нас, на Востоке, где один только Транссиб и никогда не ошибешься, только смотри, в какой стороне солнце всходит. Здесь дороги разбегались в разные стороны, переходили одна в другую. Кое-как, путаясь, возвращаясь, я добрался до Поворино, прыгнул на первый попавшийся товарняк и вместо того, чтобы ехать на восток, поехал на юг, хотя и не знал об этом.
Мне было хорошо оттого, что я еду и еще даже дремлю на ходу, совмещаю, значит, два необходимых дела, и с каждым километром дом все ближе. А ночь гудела, свистела в щелях, она лилась вокруг, и можно было подумать, что ночь – это не просто темнота, а какое-то явление природы, вроде тайфуна или урагана, только более тихое. Я все клевал носом, зажимая в себе остатки тепла, кто-то ходил с фонарем по моей платформе, мелькнуло в свете фонаря узкое лицо под козырьком железнодорожной фуражки, фонарь ударил прямо в стекло, я скорчился еще больше, закрыв глаза и убеждая себя, что если я его не вижу, значит и он меня не видит. Фонарь вильнул и потух, я окоченел и уснул.

Разбудила меня тишина. Я открыл глаза и увидел залитую светом платформу с тракторами впереди меня. Поезд стоял на какой-то станции и поверх грузового вагона на соседнем пути виднелись крыша станционного здания с прожектором и верхушки пирамидальных тополей.
Я закрыл глаза и задремал, но тут послышались чьи-то шаги, дверца распахнулась, меня выдернули из кабины, протащили по платформе и швырнули вниз. Я упал на замазученный гравий к ногам милицейского сержанта. Рядом с ним, приподняв костлявые плечи и вскинув птичье личико, стоял хилый мужичок в форме железнодорожника. Еще один, светя фонарем, ходил по платформе и проверял пломбы на тракторах.
– Остальные все целы! – крикнул он. – Ты, Адам, проверь-ка у него рюкзачок!
– Ты что в тракторе делал, а? Запчасти воровал? – спросил меня хилый Адам почему-то свистящим шепотом и тыча мне в лицо фонарем.
Он, наверно, испугался меня тогда – на платформе и не мог мне этот страх простить. Наверно, думал – бандит, рецидивист, а тут длинноволосый, тощий, грязный подросток с отупелым лицом и непонимающими глазами.
– Ты что там, паскуда, делал! – закричал он плачуще и замахал фонарем, часто поглядывая на сержанта.
Сержант, позевывая, поднял мне руки, похлопал ладонями по штанинам, по бокам и взялся за рюкзачок. Я так и стоял с поднятыми руками, не зная, можно ли их опустить.
– Отвечай! – заорал хилый и, птичьей лапкой вцепившись мне в ворот рубахи, начал его скручивать, оскалив нескладные желтоватые зубы.
Он был мне под подбородок, но я терпел, потому что рядом была милиция, а я был кругом, как ни крути, виноват.
– Спал… – буркнул я и оттолкнул его легонько, чтоб не душил.
Он храпнул, размахнулся и, мельком глянув на сержанта, который тряс рюкзак, привстав на цыпочки, ударил меня по лицу. И опять замахнулся. Я отшатнулся, защищаясь, поймал его руку и оттолкнул.
– Петро! – закричал хилый радостно и уже стервенея от злобы. – Он на меня руку поднял! Иди сюда, Петро!
– Нечего свои распускать, – хмуро сказал сержант, подняв глаза от рюкзака, и уже строго прикрикнул: – А ну – стоять! А то обоих заберу!
Он вытащил из рюкзака столовый нож, который я купил в Новороссийске, чтобы резать хлеб, и повертел им, хмыкая и пробуя на изгиб.
– Нож! – торжествующе заорал Адам, тыча в меня пальцем.
Мимо, постукивая молотком, прошел осмотрщик и опасливо на нас покосился.
– Да-а! – сказал сержант и, сунув нож в карман, крепко взял меня за руку. – Что ж, пойдем разберемся.
Он повел меня, как старший брат ведет младшего, позевывая и придерживая за руку, когда я, сонный, запинался.
Хилый Адам бежал за нами и пинал меня. Я не мог взять в толк, зачем он это делает. Может, его часто били в детстве и он стал бояться, от этой боязни злился и вымещал злость на тех, кто заведомо не мог ему ответить?
Но мне-то что было до его проблем! Я приостановился и лягнул его ногой в живот. Он взвыл. Сержант сильно дернул меня за руку.
– А ну не распускать! – прикрикнул он и, обернувшись к трясущемуся Адаму, посоветовал: – А вы бы шли лучше в вагон.
Адам так и остался стоять, корча личико, и мне показалось, что он похож на какого-то мелкого зверька-пакостника, хорька, что ли…
А мы пошли дальше – мимо станции, мимо домов, потом свернули в темную улочку. Я часто спотыкался, а сержант придерживал меня.
– Бродяжишь? – сказал он, глядя на меня сверху, и, чуть сдвинув козырек фуражки, сам себе подтвердил: – Бродяжишь. А куда едешь?
– От тетки…
– Куда, говорю?! Ты что, бухой?
– На Дальний Восток… – Что-то сопливое и влажное встало у меня в горле. – Обокрали меня в поезде…
Я врал вяло, наспех говоря, что на язык лезло. Хотелось одного – спать и есть.
– Ты же на Волгоград едешь, дурило! – удивился сержант, сдвинув фуражку, и, подумав, опять сказал: – Ну, разберемся.
Мы пошли дальше.
В отделении сержант бросил на стол дежурному лейтенанту мой паспорт, нож и стал что-то рассказывать, кивая на меня. Лейтенант смеялся. О чем они говорили, я не слышал. Казалось, теплый воздух вокруг меня блаженно сгустился и стал теплой ватой, сплошным тюфяком, периной, звуки сквозь него доходили неотчетливо и приглушенно. Я сидел на стуле, клевал носом. Клевал, клевал – и провалился.
Проснулся оттого, что сержант сильно потер мне уши. Лейтенант с любопытством разглядывал меня и улыбался. Он был очень молод и, наверно, ему было очень уютно за своим столом, где были аккуратно разложены какие-то папки и стоял письменный прибор. Наверно, ему было хорошо от сознания, что все вокруг входят и выходят, а он сидит за своим столом.
– Отпустите меня? – спросил я тупо. – Мне домой надо, у меня деньги украли.
– Ишь ты скорый какой! – Лейтенант рассмеялся, и на его крепких красных щеках появились ямочки. – Так сразу тебя и отпусти! Еще проверим, что ты за птица! На тебе бумагу, пиши. Все пиши: где украли, откуда ехал, куда, зачем в трактор залез. Все пиши!
Он вытащил из стола лист чистой бумаги, ручку и положил на стол, потом глянул на часы, потер руки и, изобразив на лице некую начальственную сосредоточенность, крикнул:
– Сидоренко!
Сержант заглянул в дверь. На его лице была пыльная, мятая усталость, он, наверно, не успел ее сразу снять, и теперь лицо его прямо на глазах вдруг стало внимательным и холодным.
– Чайку организуй, – сказал лейтенант и, глянув на меня, опять улыбнулся, потер руки. – Проверим, что ты за птица из породы пернатых!
Он рассмеялся, довольный своей шуткой, открыл ящик стола и положил перед собой какой-то сверток.
Я писал, стараясь врать правдоподобно, и чувствовал грязь у себя на спине, она облезала, как чешуя. Бумага на столе шуршала, я глянул и подавился собственной слюной. Лейтенант ел бутерброд с колбасой, мимоходом просматривая лежащие на столе бумаги. Я ткнулся глазами в стол и, часто моргая, глотая слюну, молил бога, чтоб он куда-нибудь вышел, лейтенант, а бутерброд оставил бы…
– Ты не спи давай! – прикрикнул он на меня и откусил от бутерброда. Зубы у него были крепкие и очень белые, наверно, от молока и зубной пасты. И вообще от него шел хороший, чистый запах – запах формы, сапожного крема, чистых кальсон, здоровья. От Сидоренко так не пахло.
Шансы мои все уменьшались и сошли на нет, когда лейтенант ладонью смел со стола крошки и, вытерев рот платком, аккуратно сложил его и убрал в карман.
Вошел сержант, неся в растопыренных пальцах два парящих стакана в подстаканниках. Лейтенант опять оживленно потер руки и поставил на стол железную баночку со слипшимися конфетами. Он бросил в рот конфетку, что-то пробурчал, причмокнул и на какое-то мгновение превратился в наивного белобрысого паренька, который в своей суровой милицейской жизни не добрал сладкого и теперь блаженствует. Сидоренко стоял рядом, сложив руки на животе, – большой, с выдающимся загривком. Китель у него был мятый и весь лоснился.
– Ну, что там московские? – спросил лейтенант, прихлебывая чай. – Не бузят?
– Поют, – сказал Сидоренко и опустил руки к швам. Они у него замерли, шевельнувшись как бы в нерешительности, потом он убрал их за спину. – На гитаре играют. Может, отобрать?
Лейтенант сморщил лоб, задумался и махнул рукой:
– Да пусть поют, только тихо чтоб. А так вообще… ничего?
– Отцами грозятся, требуют отпустить.
– Все на волю торопятся! – лейтенант подмигнул мне. – А что с ней делать – не знают. – Он глянул на Сидоренко и уже без улыбки добавил: – Пусть посидят до утра, а то взяли моду без билетов ездить. Тут им не Москва! Больно вольные!
– Так точно, – сказал Сидоренко, и в его голосе мне послышалась ирония.
– Ну что, написал? – чуть сморщив лоб, глянул на меня лейтенант над стаканом.
– Написал, – сказал я.
Он взял протянутый лист и стал читать, прихлебывая. На лбу у него выступила испарина. Я качался на стуле, тупо ожидая, когда кончится эта мука с колбасой, конфетами и чаем. Меня качало, в ушах возникал и пропадал звон, а правая нога от сидения опять затекла, она очень быстро стала затекать в последние десять дней.
Я снова провалился, очнулся, почувствовав, что меня трясут, и громко икнул.
– Сидоренко! – рассмеялся лейтенант. – Веди его в холодную, он нам все помещение завоняет!
Стакан с недопитым чаем стоял и все парил, сволочь…
Сидоренко поднял меня за локоть и легонько подтолкнул. Мы вышли в тесный прямой коридор, куда выходило несколько дверей, обитых железом, с глазками. Откуда-то несся шум. Сержант придержал меня и, отойдя чуть в сторону, стал возиться с замком. В той камере смеялись и о чем-то громко разговаривали. Услышав лязг замка, притихли. Сидоренко распахнул дверь, и через его плечо я увидел трех обросших и как-то нелепо одетых парней на помосте. У одного в руках была гитара, в камере стоял густой дым.
– Накурили, – сказал Сидоренко без выражения, – наплевали, а еще, небось, родители приличные.
Они переглянулись и расхохотались.
– Тунеядцы, – сказал Сидоренко устало и запер дверь.
Они тут же закричали в смотровой глазок:
– Когда отпустишь, шеф? Мы голодовку объявляем!
Сидоренко ткнул в глазок кулаком и уже строго прикрикнул:
– А ну кончай базар! Чтоб к утру камера была чистая! Интеллигенты… Тут вам не в институте учиться.
Они там загалдели, но сержант уже пошел дальше и потянул меня за собой.
– Хиппи, – сказал он мне, хотя я его ни о чем не спрашивал. – По три месяца специально не моются, чтоб на человека не быть похожим. Днем с поезда сняли. У одного отец режиссер, а может, врет. Документов-то у них нету.
Я молча шел за ним по коридору. Какое мне до них было дело? Мне б только до камеры добраться да лечь.
Мы остановились, и Сидоренко опять стал возиться с замком, сильно сопя. Он открыл дверь и подтолкнул меня в темноту. Лампочка была выкручена, но Сидоренко не стал ругаться.
– Вот поночуй тут до утра, – сказал он. – Только не стучись, спи себе тихонько.
И ушел, загрохотав замком.
Я стоял, привыкая к темноте. На полу лежал решетчатый свет из оконца, пованивала параша, вдоль всей стены тянулся невысокий, в полметра, дощатый настил. В дальнем углу сидел паренек примерно одних со мной лет, а ближе ко мне сидел дед и астматически сильно дышал, держась за пухлую грудь, и еще кто-то лежал, укрывшись телогрейками. У помоста стояли ведро с водой и кружка.
Я напился и сел на помост. Ни с кем не хотелось разговаривать. Потом тот, что лежал, завозился, откинул телогрейку и хрипло спросил:
– Ты по какой статье?
– Не знаю, – сказал я.
– Ну, за что тебя?
– Говорят, бродяжничество.
– Так это двести девятая, – сказал он, подумав, и прибавил: – Ерунда, до двух лет.
– А тебя за что? – Я едва собрал голос.
– За драку, мать их… – Он выматерился от души и опять стал устраиваться спать, стуча по доскам костями долгого, нескладного тела.
Я тоже лег, поджав колени и подложив локоть под голову. Надо было спросить, за что посадили паренька, но он вдруг сам закричал слезливым тонким голосом:
– Да не крал я мопед этот, не крал! Я взял на полчасика, покататься хотел!
– Молчи, сука, изуродую! – утробно откликнулся из-под своих телогреек длинный, и я даже развеселился – вот как ловко сказал!
Паренек в углу примолк и только все всхлипывал. Было прохладно, я никак не мог уснуть, а длинный рядом уже храпел, свистел носом и вдруг начинал тяжко мычать и выкрикивать: «Марь Иванна! А Марь Иванна!» Я свернулся клубком, сон потихоньку стал накрывать меня все плотнее, и я подумал – как хорошо, что я попался, вот у меня есть где спать и завтра на работу поведут, накормят…
Ночью я проснулся от холода. В разбитое оконце полз ледяной ночной воздух, длинный нечеловечески храпел и стонал, паренька не было слышно, я повертелся, потом стянул с соседа одну телогрейку, укрылся с головой и уснул. Мне снилась деревня, наш огород и то, как дед, прихрамывая, ходит по огороду, поворачивая желтые дыни бледными боками к солнцу, и какой над этим всем стоит тихий ленивый свет, такой, что даже дымы костров не уходят в небо, а растекаются пеленою, туманят.
Разбудил меня сержант Сидоренко. Он сидел на помосте, большой и грузный, сложив на животе руки, как баба на посиделках, и время от времени дергал меня за ногу, о чем-то переговариваясь с длинным. Я отбрыкивался, забыв, где нахожусь, потом подскочил. Сидоренко встал, поправил фуражку и загремел ключами. Я понял, что надо идти. Длинный сидел на помосте и удушливо, с хрипом, кашлял. Голова у него была всклокочена и в волосах торчал какой-то сор и горелые спички, он кашлял, ворочая глазами и показывая белый с желтым язык. Паренек спал. Мы вышли из камеры, в дверях Сидоренко приостановился и, двинув фуражку, сказал, глядя на длинного через плечо:
– Не связывался бы ты с ней, Петя. Ведь укатает она тебя. Во второй-то раз. Или там мед?
– Ну да… пусти волка… в сарай… – Длинного бил тяжелый кашель, и он царапал на груди рубаху, пуча глаза. – Пустили, говорю, волка к корове, а потом жалятся, что молока не дает!
Я только сейчас заметил, что под глазом у него синяк, а ухо вспухло и висит вареником.
Сидоренко покачал головой и закрыл дверь.
– Ну, понял? – сказал он, когда мы шли по коридору, кося на меня сощуренными, вымученными бессонной ночью глазами. – Видал, какие дела? А ты из дома бегаешь. Был бы я твой батя, ой и всыпал бы тебе горячих!
Я почему-то очень его словам обрадовался. Ведь, в самом деле, если человека не жалеют, а хотят всыпать горячих, значит, хуже наказания не будет, не посадят. Нельзя же два раза за одно наказывать. А горячие – что! Лишь бы отпустили. Я выспался и уже не клевал, только в желудке посасывало, да была какая-то слабость, но к ней я уже притерпелся.
В дежурке было много народа, входили и выходили милиционеры, и «московские» что-то доказывали капитану. Он на них покрикивал, они притихали и опять начинали шуметь. Лейтенант, все такой же улыбчивый и розовощекий, отдал мне паспорт, рюкзак и велел в двадцать четыре часа катиться со станции. Я пообещал и быстренько вышел, пока он вдруг не передумал. Вокруг была деловитая утренняя суета, и я ее побаивался чем-то новым в себе, открывшемся недавно. Я чувствовал, что когда вот так по-утреннему хлопают двери и сильно перекликаются свежие, жаждущие деятельности голоса, пора куда-то прятаться.
Сидоренко вышел следом за мной и закурил на крылечке. Было раннее утро, роса лежала на ступеньках, в тополях чирикали воробьи, в листве местами светилась рыжина, а за ними, над крышами двухэтажных домов с пыльной скульптурой и пузатыми колоннами на балконах, висело огромное красное солнце. Я медлил уходить, чувствуя, что Сидоренко относится ко мне хорошо и надо ему что-то сказать на прощанье, например, про то, как далеко мне еще ехать. Сказать спокойно, деловито сощурившись и сплюнув в сторону, как говорит один мужчина другому о предстоящей большой работе. И чтобы он удивился и с искренним удивлением покачал головой, и чтобы почувствовал, что я не обыкновенный бродяжка, а птица куда более высокого полета. Я сказал, но он не удивился, а просто кивнул, может быть, плохо представляя, и сказал:
– Мать-то тебя потеряла, небось?
Голос у него был сухой и все-таки с оттенком участия, таким же, когда он говорил, что мне надо всыпать горячих. Я не нашел, что ему ответить, и вдруг начал хорохориться и наболтал, что мне бы только до Пензы добраться, а там у меня родичи, они выручат, а мать я просто не хочу беспокоить.
– Ты заходи, если что, – сказал он мне и, затоптав окурок, ушел, отдав честь на прощанье.
Я побрел за ворота, ругая себя последними словами. Ну зачем я ему наврал? Надо было рассказать все как есть, честно, как мужик мужику, а я насочинял черт-те что. И зачем? Я остановился, раздумывая, не повернуть ли? Но не повернул. В самом деле, чем он мне мог помочь? Ну посадил бы на поезд до Поворино, а дальше? Лучше уж самому…
Я сорвал травинку и, жуя ее, пошел к станции, но не к вокзалу, а туда, где в степи за поселком стояли на запасных путях вагоны. Дня три я не ел вообще ничего и теперь остро чувствовал тело, как оно передвигается, трется костью о кость.
Запасных путей было много – восемь или десять. Вагоны стояли густо, я ходил между ними и читал названия, написанные мелом. Но названия станций были все незнакомые, я знал только одно – что мне надо на север, в Поворино, потому что если опять ошибусь и уеду в Волгоград, то уже не выберусь, пропаду.
Солнце уже поднималось, в степи заколыхалось марево и душный жар от нагретого гравия согрел меня. Я ходил, ходил, читал на вагонах названия станций назначения и не знал, куда приткнуться. Потом у железнодорожника в грязной спецовке спросил, какой состав пойдет на Поворино. Он долго смотрел на меня, грязного, длинноволосого, с рюкзачком за плечами, вытягивал морщинистую шею, часто моргая белесыми ресницами, потом махнул молотком на длинной ручке в сторону состава полуплатформ, на которых громоздились ящики с оборудованием и стальные конструкции мостовых перекрытий. Я подождал, когда он уйдет, залез на платформу и лег за ящиками, подложив рюкзак под голову. Я лежал час, и два, и три, изредка, накоротке, засыпая. Пахло ящиками, гарью, мазутом и еще каким-то непередаваемым скипидарным запахом, которым пропитаны все маленькие станции и общие вагоны пассажирских поездов.
Над станцией высоко-высоко парил ястреб, и я подумал, что оттуда, сверху, станция смотрится чепуховой грязной проплешиной, где копошится вялая, ударенная солнцем жизнь. Я подумал, как хорошо ему парить там, в плотном чистом свободном воздухе высоты и видеть в тающей дымке испарений на горизонте слюдяные, как бы подвешенные над землей призраки рек. И Волгу, широко раскидавшуюся своими протоками, рукавами, и, может быть, – Дон. Я пожалел, что глупой птице дано так несправедливо много, и еще пожалел, что у меня нет ружья, так хотелось сломать это спокойное презрительное парение над землей, которая принадлежала мне! Если уж плохо, так пусть будет плохо всем, и нечего там летать, где на тебя нет милиции и даже паспорта никто не спросит. Я щурил глаз и мысленно стрелял раз за разом, а он все летал, кружил, – наверно, видел, как я лежу на платформе, потом куда-то исчез.
Когда я согрелся, опять захотелось есть, но с платформы уходить не стоило – мало ли что, вдруг состав двинется без меня? Я вытряхнул из рюкзака все, что там было – нож, фляжку для воды, грязные носки и еще какие-то тряпки, нашел скомканную бумажку от маргарина, жирно блестящую, с расплывшимися буквами, и вылизал ее. Потом стал отрывать от нее кусочки, скатывал и бросал в рот, как леденцы. Бумага сильно отдавала парафином, и в конце концов меня вывернуло. Я успокоился и уснул.
Очнулся я от сильного толчка, увидел густеющую синеву над степью, длинные тени столбов, легшие поперек насыпи, и вагоны справа, которые катили мимо, набирая скорость. В первое мгновенье мне показалось, что двинулся соседний состав, я глянул влево и понял, что это движется мой состав, а тот, справа, стоит. Но движется не на север, а на юг, к Волгограду, оставляя справа клубок закатного солнца.
Состав двигался медленно, я спрыгнул на ходу и, пробежав несколько шагов, остановился. Состав, изгибаясь на повороте длинной цепью полыхающих в закате ржаво-красных вагонов, вышел за стрелку, остановился и двинулся в обратную сторону, на север. Я побежал что есть силы, перепрыгивая через рельсы, проскальзывая под вагонами, и, пробегая пустой путь, увидел, что ко мне движется по рельсам задний вагон моего состава. Его просто перегоняли с места на место.
Он прогромыхал мимо меня с тяжелым стоном колес, обдавая ветром лицо, оглушительно залязгал буферами и остановился. Потом гуднул тепловоз и, зафырчав, укатил. Я залез на свою обжитую платформу, посидел, радуясь ей, знакомой, полежал, глядя, как в темнеющем небе слабым дрожаньем начинает искриться звездная роса. Но лежать и ждать стало тоскливо, я слез с платформы и пошел на станцию. По пути оглянулся: платформа стояла на месте, и я пожалел, что, наверно, больше не увижу ее. Я испытывал к ней тихое теплое чувство, как к живому существу.
Весь перрон перед станцией был залит светом, и я первым делом глянул, как же она называется. Она называлась Филоново. Но слишком долго гулять здесь было нельзя…
Когда человеку плохо, он цепляется за что придется, вот и я все думал о сержанте Сидоренко, убеждая себя, что чуть что, я сразу к нему и пойду. С этой верой мне было легче двигаться. Я ушел с вокзала и пошел бродить, отыскивая какую-нибудь столовую, где можно перехватить хлеба или еще чего-нибудь съестного. Свет все тоньшал и мерк и наконец стал невидимо теплым, живым, как всякое существо, и даже страх за него появился, как за всякое живое, – вот-вот исчезнет. Я бродил, а улочки все были деревянные, земляные. По-вечернему лаяли и завывали собаки и вообще здорово было похоже на то, как там у нас на Востоке в такие же часы. Тоже тихо, тоже собаки лают и черемухи висят над заборами нечесаной шевелюрой, а на скамейках под оградами сидят старушки. У прохожего я спросил, где тут столовая, и пошел. Я издалека почуял ее по запаху, и точно – скоро увидел длинное кирпичное здание с окнами, завешенными кисеей, и там люди сидели и ели. Уже начинало тянуть холодком – сентябрь на дворе, – и над крышами деревянных домиков плыла красная краска, а там, за домами, была безлюдная, пожелтевшая от солнца и осени степь, и, может быть, именно от сознания этой пустоты за домами, которой нет края, мне было легко войти. Сразу, с порога, я посмотрел, что за столовая – с самообслуживанием или нет? На столах стояла посуда, и по проходу ходила старуха в рыжем от помоев фартуке, катя перед собой тележку с тарелками и стаканами. Я сразу понял, что мне повезло.
Я вымыл в умывальнике лицо и руки, вытерся рубахой, мимоходом увидев в зеркале свои ребра, меж которыми западала кожа, и пошел в зал.
Я сразу увидел столик, на котором стояла почти не тронутая тарелка борща с ложкой. Рядом стопой стояли грязные тарелки, два стакана с недопитым компотом, валялось два или три куска хлеба в лужице. Какая-то сытая сволочь бросила, а может – просто торопился человек. Я сразу пошел прямо туда, не оглядываясь по сторонам, и сел спиной к залу. Передо мной было два столика, за одним сидел пожилой мужчина в очках и спецовке, а за вторым две женщины, которые о чем-то переговаривались, брезгливо отставляя мизинцы от ложек. Их, наверно, раздражали грязь и запах кухни, но они заплатили деньги и не хотели терять их, вот так все взяв и бросив. Им надо было зачем-то показать, что они если и едят, то почти по принуждению, и бабуля со своей тележкой, которую они остановили, стояла перед ними виновато, кивая и вытирая руки о фартук. Они отпустили ее и опять брезгливо принялись за борщ, изредка бросая по сторонам укоризненные взгляды.
Я выждал некоторое время, будто я сижу и жду товарища, который стоит в очереди к раздаче, потом пододвинул тарелку, взял мокрый, расползающийся хлеб и стал есть, не чувствуя вкуса. И тут вдруг обе женщины бросили есть и уставились на меня, а я сгреб со стола еще кусок хлеба, мокрый, рассыпающийся и стал пихать его в рот, давясь, потому что тоже испугался. Одна из них бросила ложку и закрыла ладонью рот, отвернувшись, а вторая, покраснев, закричала: «Михал Иваныч!». И тут же мне на плечо легла ладонь и гневный голос надо мной велел мне бросить ложку, но я не сразу бросил, хлебал, и тут мне дали по уху и вздернули за шиворот. Он был очень высокий, сытый, наверно, сильный. Он взял меня за ухо и повел через весь зал. Я закрыл глаза, чтобы не видеть лиц, а он вывел меня из дверей и повел. Наверное, я простил бы ему все это, если бы он просто ударил меня и отпустил, но он вел меня и награждал тумаками.
Не надо было ему так со мной поступать. Если бы он не крутил мне ухо, не вздергивал меня, заставляя идти на цыпочках, может быть, мне и вправду стало бы стыдно. Но он собирался отвести меня в милицию. Вот это у меня как-то не укладывалось в голове. Да неужели же человек, который подбирает чужую пищу, будет бояться милиции? Ведь там и переночевать можно и с голоду не умрешь. Я понял, что он этого не соображает, он наказать меня хочет милицией, сытый и гладкий, самоуверенный взрослый человек, к которому женщины обращаются за помощью: «Михал Иваныч!»
И тут со мной что-то случилось. Я хотел было заныть перед ним, взрослым, о своих бедах, и если б он не сказал про милицию, я бы так и сделал. Но когда он это сказал, у меня сперло где-то в груди. Этот человек никогда не сидел в камере, никогда не нюхал парашу, никогда он не ходил к милиционеру, как я это делал в Керчи, занимать денег на буханку хлеба. Он никогда не хлебал помоев, никогда не ездил в товарняках, никогда не сидел с милиционером за одним столиком в вокзальном ресторане, никогда не жрал, давясь, холодную картошку с долькой огурца и не видел глаза человека в форме, которому стыдно оттого, что он не может дать тебе денег. И он, этот, вел меня в милицию, пожалев тарелку недоеденного борща, которая все равно пойдет свиньям!
Я не знаю, что такое ненависть, разве можно такое слово определить? А у меня сперло дыхание, я перестал что-либо соображать, стал весь холодный и очень сильный, и понял, что его надо убить. И все это без всякой злости, просто во мне занозой сидела страшная тягучая, боль и выдернуть ее можно было только таким способом. Я знал, что ни Сидоренко, ни даже улыбчивый лейтенант меня не осудят, может быть даже посочувствуют. Просто, выводя кого-нибудь из камеры, Сидоренко скажет: «Видал, какая жизнь, а ты, дурак, из дома бежишь…» Но не осудят, нет, потому что мы не по разные стороны, мы в шаге друг от друга, и мы должны быть ближе плечами, потому что то, что случается с одним, может случиться с каждым, нам некуда друг от друга деваться и мы должны друг другу прощать, за все должны прощать и быть братьями и отцами, если нет у нас братьев и отцов… Со мной была едва не истерика, но я был весь очень спокойный, напружиненный, потому что знал: этот – враг. Чистый, правильный, готовый услужить женщинам. Я думал об этом не так прямо, как-то по-другому, без слов, и все готовился и позволял заворачивать мне ухо и пинать, а когда мы отошли в темноту, я ударил его по руке и пошел в переулочек.
Он кинулся за мной и ухватился за рюкзак, выкрикивая матерные слова, которые у него как-то не выходили. Я спустил с плеча лямку рюкзака, выскользнул из него и побежал. Он сразу заорал. Переулочек кончался забором, но я и не думал через него лезть, мне нужны были расстояние и темнота. Я остановился у забора и стал выламывать из него штакетину. Мне хотелось, чтобы она вылезла вместе с гвоздями, но она обломилась, я отшвырнул обломок и стал шарить по земле кирпич или камень. Но под рукой шуршала земля, голая и сухая. Он бежал ко мне, топоча и вскидывая колени, а я встал, расставив тощие руки и нагнув голову. Он вдруг остановился и опять стал неумело материться. И я понял, что он боится. Боится! Я-то ничего не боялся, а он – боялся! Я нагнул голову и стремглав побежал на него, и когда он уже готов был поймать меня, вильнул, взмахнул рукой с комком зажатой земли, и он, заслонясь руками, отпустил рюкзак и опять закричал что-то. Я бегал вокруг него в темноте и старался выдернуть рюкзак из-под его ног, а он выбрасывал мне навстречу руки, стараясь ударить или поймать, и рукава его плаща шуршали: «Ш-шух! Ш-шух!» Если бы он хоть раз в меня попал, мне бы пришел каюк, но он не попадал, потому что был неуклюж, неповоротлив, а я метался и бегал вокруг него и разглядеть меня было трудно. Он опять заорал, как орут, наверно, здоровые, откормленные птицы, и все топтался над рюкзаком, выбрасывая свои толстые руки, стараясь меня зацепить, и я совсем взбесился. Я нечеловечески взвыл и кинулся вперед, нагнув голову. Он не успел защититься, и я воткнулся головой ему в мягкий живот и стал молотить его кулаками, а он сказал: «Ой!» и совсем не защищался, наверно, от неожиданности и ошеломления.







