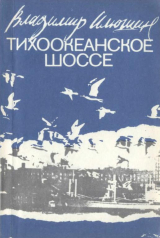
Текст книги "Тихоокеанское шоссе"
Автор книги: Владимир Илюшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Каково? Ай да кандидат!
И сын моего соседа – студент-дипломник факультета иностранных языков, очкастый, все на свете знающий парень – сидит вечерами у меня на кухне, попивая пиво, которое я ему покупаю, и строчит, время от времени хмыкая и высовывая язык, а то вдруг оглядываясь на меня круглыми, невидящими от сумасшедшей воли глазами и, даже забывая о пиве, строчит, строчит, становясь вдруг собранным и злым, как выпущенная из зоопарка пантера, а я сижу рядом на табурете, сонно гляжу в черно-прозрачное оконное стекло и вижу там свое отражение.
Я похож на почтальона, я это знаю. Но иногда, в бессонницу, меня посещает злобное торжество. Каким бы я ни был, создание моей фантазии живет, да еще как! Но и другие мысли меня посещают. Почему я, сумев создать его так, что его принимают всерьез, даже более чем принимают, почему я не смог создать сам себя? Где грань между игрой и подлинным? Может быть, все – игра? Или, например, нет никакой игры и все – подлинное. Может быть, хоккей – квинтэссенция жизни, может, потому мы, и «болеем» так горячо, что там все коротко, жестко, все как на ладони? Не знаю… Но мое создание меня явно подминает. Он будет лежать еще месяц. Два! Он встанет на костыли, походит и, упав, опять сломает ногу. Я же вам говорил – отчаянная голова, с ним вечно что-нибудь случается…
Я не отчаянная голова, но со мной тоже что-то происходит. Я обретаю спокойствие и больше не злюсь на кандидата. Даже на библиотекаршу не злюсь. Потому что вдруг понимаю, что такое пустота. Она всегда чем-то заполняется, и мы заполнили ее чем сумели, жаль, что она не понимает этого. Раньше мне казалось, что она умней, теперь я вижу – нет. И, волей-неволей, умным должен быть я. Умным и осторожным. Пусть я всего лишь инженер и в книгах читаю только приключения.
…Сегодня не могу работать и сижу за столом, склонившись, пишу на чистом листе какую-то чепуху. Вчера вечером я встретил ее в городе. Совершенно случайно. Шлялся по главной улице, переходя перекресток, заметил знакомый блеск очков, чуть склоненных к правому плечу, и высокомерно вздернутый носик. Прошел мимо, через секунду что-то щелкнуло, и я, свернув, быстро пошел за мелькающим в толпе серым платьем, сам не знаю, почему. Она заходила в магазин. Точнее, забегала, как забегают после рабочего дня все женщины. Это забегание не в походке, а в чем-то другом, в безошибочности, что ли. Тот, кому некуда спешить, – ходит. Ходит и стоит у витрин, таращась на совершенно не нужные, вышедшие из моды галстуки или полукилограммовые зажигалки. Но есть и особый порядок деловитых, быстрых очередей, молчаливая очередь сообщниц, которым не о чем говорить, разве что бросить пару легких фраз по поводу свежести молока. Все остальное – в понимающих взглядах, легких улыбочках и общей озабоченности, потому что у всех, в принципе, одно и то же – сумочки, из которых вдруг извлекаются большие авоськи, и раннее располнение, и фасон рабочих плащей (выходные в шкафах; их надевают шесть или семь раз в году, пока они не выйдут из моды), и способность, мельком глянув на ладонь, определить, что не обсчитали.
Я шел за ней, таясь, боялся, как бы не оглянулась. А ведь было дело, как-то захотела сама побеседовать с кандидатом Сергеем, видимо, не удовлетворясь моим посредничеством. Вполне академично предложила вместе навестить больного, потому что женские руки, женский глаз – это не то, что бестолковое братство мужчин. Я тогда суетливо отнекивался, придумал для Сергея какой-то особый режим, и три дня (я имел в виду посещения библиотеки) меня преследовали ее сжатые губы и презрительный взгляд… (Ведь в случае чего – как объяснить?)
Она вошла в подъезд стандартного пятиэтажного дома, и я, успев добежать, услышал, как где-то на третьем этаже хлопнула дверь. Были сумерки, тихое истончение света, с Амура шел высокий, занимающий полнеба грозовой фронт, я сидел на скамейке во дворе, и впервые меня поразила мысль, что я ничего о ней не знаю. Как она живет? С кем и чем она живет? Есть ли у нее подруги? Какой она бывает, оставаясь одна, о чем думает, что в ней заключено?
Я сидел, пытаясь понять, где ее окно и что она делает там, за этим окном, а по двору шныряли мальчишки-велосипедисты, где-то гоняли футбол, юные девочки ходили мимо меня парами, о чем-то перешептываясь и чему-то своему хихикая. И я увидел эту дыру в бетонной клетке, пропускающую призраки облаков, увидел окно, в котором на минуту появилась она, задергивая шторы, увидел ее высоко над землей – метров шесть, пожалуй, – увидел, что над этими чахлыми березками на газоне, над растрескавшимся асфальтом, над криками пацанов и хилым, замирающим полетом волана, она живет изо дня в день неведомой, непонятной жизнью, и мне никогда не узнать ее, этой жизни, потому что, в отличие от моего друга «кандидата наук», принципиально к ней не допущен, даже с цветами, даже если вдруг действительно полюблю ее, потому что сам дал ей в руки самое опасное – мечту.
Я ушел.
Я плохо помню тот вечер – где-то шатался, с кем-то знакомился. Проснулся не один и долго изображал сон, похрапывая в подушку, пока не смолкли вороватые женские шорохи и не щелкнул, тихо захлопывая дверь, замок…
Субботы начинают желтеть снова, как желтеет по краям, увядая, августовская листва. Лето кончается.
…– Вы знаете, возможно, ему отнимут ногу…
– Ногу?! Что-нибудь серьезное?
– Полиомиелит. Он сам виноват, никого не хочет слушаться, упрям, я ему не раз говорил.
– А вы-то что! Вы мужчина или нет? У него что – температура?
– Да не очень чтобы, но к вечеру поднимается…
…Мне рекомендован липовый цвет, как лучшее, апробированное предками потогонное средство, потому что таблетки, это, знаете ли, кому как…
Она носит ожерелье из янтаря – прозрачные, чайного цвета камушки с законсервированными насекомыми. Это редкое ожерелье и очень дорогое. Говорят, янтарь особо ценится, если в нем чей-нибудь труп…
Почему я не пускаю ее к своему страдающему другу? Я слишком туп, чтобы понять намеки, а она слишком тонка для прямоты. Или слишком молода? Или он слишком стар и незауряден для ее прямоты? Но серое платье она давно сменила на легкое, пестрое, а заботливость становится воинствующей, где ж мне понять это? Я впрямь перестаю сам себя понимать. Себя, ее и «его». Они живут непонятной мне жизнью, и студент-сосед тихо разоряет меня своей мудростью. Меня тихо разоряет жажда мудрости. Но дороги назад нет, потому что тот, кто сказал «А», должен идти до конца алфавита. Иногда мне снится последняя буква…
Однажды я приглашаю ее в кино: «Сергей очень хотел, чтобы вы посмотрели этот фильм». Она соглашается между прочим, не глядя на меня, видимо, думая о том, что напишет ему в очередной записке, которые я подсовываю студенту. Студент все более нетерпим. Он громит классиков, и мне приходится редактировать его выражения.
Мы идем на «Осеннюю сонату» Бергмана – престарелая Кэтрин Хэпберн в главной роли. Я уже достаточно начитан, и в моем мозгу вертится озабоченная мысль: «По-моему, с этой дамочкой крутил роман Хемингуэй, он сам где-то упоминал, что они вместе встречали рождество, по-нашему – Новый год. Или я путаю?» Я попил пива перед сеансом…
Рука Кэтрин Хэпберн лежит рядом с моей на подлокотнике кресла. Бледная малокровная ручка с тщательно отмытыми, но все же видимыми следами чернил. Меня мучит желание накрыть эту окостеневшую бледную завязь своей теплой, растрескавшейся ладонью. Но я не делаю этого: призрак кандидата на водных лыжах с загипсованной ногой стоит между нами, и поэтому так зорок и остр блеск очков, не замечающих, что наши ладони соприкасаются, сжимаются почти разом и расслабленно мякнут. Она не хочет пропустить ни нюанса из фильма, хочет донести до «него» свое глубинное понимание.
Мы выходим в толпе, во взмокшем, растрепанном, смешавшемся потоке людей. Мужчины рады, что можно наконец закурить, женщины слегка задумчивы, величавы и беззащитны. Они поняли, какой должна быть стареющая женщина, уловили красивый стереотип подражания и останутся такими до темной прохлады выхода, когда, подхватив под руку своих мужчин, вдруг вспомнят, что у них самих все хорошо, и слегка покритикуют с чувством превосходства главную героиню за неумение жить и воспитывать детей.
Мы идем по набережной сквозь стайки гуляющих, сквозь слитные группки идущих на танцы учеников речного училища, подростков в клешах, фуражках и синих гюйсах, слитно, как муравьи, тиранящих асфальт казенными башмаками. И говорим о кандидате, о проблемах современной немецкой литературы. Предметом созидательного творчества она выдвигает Германа Канта. Возьмите, например, его «Предварительные итоги», чем это не пример созидательного творчества, творчества на благо людей? Она явно находится под влиянием кандидата, и я думаю о своем студенте-соседе, которого становится все труднее держать в руках. Я провожаю ее до подъезда. Мне передают привет для моего несчастного друга, которому вот-вот отнимут ногу.
Это уже не шутки, и еще через неделю я решаюсь. «Он» должен исчезнуть, потому что мешает мне.
…В день «смерти» кандидата, – сам не знаю, почему, я давно не зову его по имени, – шел скучный, редкий дождь. Я плелся с книгами под мышкой в промокшем, обвисшем пиджаке по пустой улице, и это было то, что надо.
Она, едва взглянув на мою унылую физиономию, уже что-то поняла, голова ее дернулась и проследила мое убегание к стеллажам. Целый час я копался, думал, решал, что это надо наконец сделать, – надо открыться. Она умница, поймет и оценит мои труды, оценит спрятанные во мне сокровища и наконец прозреет. Но как же тяжелы были мои ноги, когда я тащился к ее склоненной над столом, ожидающей голове…
– У вас что-то случилось? – спросила она, и в уголках рта легли две насмешливые морщинки, как бы отсекая саму мысль, что что-то может случиться с ним!
– Да нет…
– Но я же вижу, вы что-то скрываете. Что такое?
– Видите ли, Сережа…
– …?!
– Он умер… – Слова правды замерли у меня на губах, потому что она вдруг остолбенела, и я заторопился: – То есть не то чтобы умер, но…
Она заплакала. Слезы текли по окаменевшим щекам, и я понял, что никогда не скажу ей правды…
– Понимаете, гангрена, запущенное нагноение, я говорил ему, разве его переубедишь… Ну, не надо так, не плачьте, прошу вас.
Я обнял ее, прижимая к себе голову, тщившуюся быть модной, и вдруг с ужасом понял, что сделал что-то не то. Не то! Потому что теперь мне еще придется искать безымянную могилу, а то и нанимать полупьяных гробокопателей, чтобы они создали правдоподобный образ. Может, даже придется поставить ему памятник – этому скромному, удачливому, душевно красивому парню со сломанной ногой. И я все это сделаю, чего бы это мне ни стоило, чтобы ей было куда прийти с цветами, в черной юбке, которую она будет носить с этого дня. А может, она даже попросит, чтобы ее похоронили рядом с ним, и тут я уже бессилен…
И я твердо уверен, что поставлю памятник и найду эту могилу, чего бы это мне ни стоило, потому что никто никогда не плакал так безутешно на моей груди. И я сам, обняв ее покрепче, пустил вдруг слезу, потому что мне его тоже стало жаль, этого сорвиголову, этого счастливчика, которого любят.
Свистопляс
В тихих переулках окраин пыль скапливается десятилетиями, и ноги вязнут в ней до колен. По ночам она серебрится, и тогда кажется, что это не пыль даже, а прах ветхой жизни, дотлевающей за глухими заборами под брех цепных псов. Бродят по переулкам куры, отыскивая в пыли косточку или семя, сонно зевают на улицу окошки, но небо над крышами широкое, как над степью, звезды крупные, и если хорошо поискать, то обязательно найдется в благополучной путанице дворов, гаражей, пристроечек и огородов ветхая развалюха, где среди хлебных корок и пустых бутылок тоскует одичавший и нищий русский гений, изобретающий машину времени или, там, эликсир правды. А в общем же, неистребимый старушечий дух все здесь себе подчинил, и даже свежий человек, забежав сюда случайно с шумной, заасфальтированной улицы, по которой нескончаемо катят автобусы и грузовики, начинает медленно переставлять ноги, тишает, как бы завороженный видом этого пепла житейского.
Но время от времени и в этой покойницкой тиши вспыхивают страсти. Вспыхивают и прогорают, добавляя пепла и костей в почву. Почва поднимается год от года, и дома все больше врастают в нее, одурев от собственной немоты и тупого накопительства, распирающего стены и дворы.
В Первомайском переулке страсти разгорелись, когда прошел от остановки, метя клешами и помахивая чемоданчиком, посверкивая зубами, якорями и золотыми буквами на бескозырке, вернувшийся со службы Витька Лоншаков.
О Витьке надо сказать особо. На каждой, пожалуй, улице есть свой террорист – притча во языцех. Так вот, Витька был из таких самых. Вешал кошек, в садах наводил разор, мог намертво заложить ворота, так что хозяевам приходилось со срамом перескакивать через забор, будто и не почтенные люди, а свистуны какие-нибудь. Мог своротить дворовый туалет и еще такое делал, что стыдно сказать. К его чести, шакальими делами, которыми тешат себя городские подростки, сбиваясь в кучки, Витька никогда не занимался, – пьяных не обирал, а если задирал кому из местных девчонок подол, то при полном согласии, и воровать, не считая огородов, не воровал; однако все местные старухи, дальше магазина не выползающие и с ночной городской жизнью не знакомые, искренне считали его исчадием.
Больше всего любил он забраться ночью в чужой двор, подкрасться к открытому окошку, за которым шамкали во сне беззубые старички, и, подкараулив момент, заржать по-лошадиному, засвистеть, закрутить кошке хвост, чтоб взвыла, заголосить и удрать. Со стариками случался детский грех от таких концертов. Они на Витьку ходили жаловаться, и его постоянно таскали то в комиссию по несовершеннолетним, то в отделение, грозили отправить в колонию, но он опять появлялся, потрепанный и похудевший, но все такой же дикий, и, возвещая о своем прибытии, на всю улицу свистел. Свистел он отменно и с каким-то фокусом. Свист начинался с тонкой ноты, нарастал и начинал вибрировать. По ночам слушать его было жутко. Дело было, видимо, в том, что Витька с детства был щербатый – еще когда жили они в деревне, его лягнула корова, лягнула удачно, только чуть зацепила, но вывернула верхнюю губу и расколола зуб.
В город Лоншаковы переехали лет десять назад, обтереться еще не успели, людьми были, в общем, простыми, и Витькин отец, ни в какие милиции не обращаясь, воспитывал его по-простому, то есть сек. И больше всего любил применять для этой цели березовый веник, которым мели двор. Витька лет до семнадцати это сносил, потом сносить перестал, и отец махнул на него рукой. До самой армии Витька нигде не работал, попивал и дрался, и его в конце концов точно укатали бы, потому что город – не деревня, но тут его призвали, и весь переулок наконец вздохнул.
И вот – вернулся…
По этому поводу на личной и государственной технике понаехала из района многочисленная родня, и два дня шла гулянка, изумившая переулок своим масштабом: столы стояли во дворе и ломились – родня, зная город, понатащила с собой кур, гусей и поросят. Что характерно, Витьку любили. Бранили, конечно, всяко, укоряли, но и любили, как, наверно, любят в себе несостоявшееся. Бывает такое – вырастает в степенной трудолюбивой семье не знающей отдыха и по выходным, гуляка, бабник и нервотреп, и ему, всячески его браня, завидуют. Завидуют его разгильдяйству, беззаботности, потому что в каждом русском человеке, наверно, сидит эта мечта – когда-нибудь сбросить все поводья и пуститься во все тяжкие. Так крестьянские послушные лошади смотрят на дикого степного жеребца, одновременно и любуясь им, и желая, чтобы он ноги себе переломал.
На службе Витька наел себе бычиную шею, остепенился как будто, сидя за столом, слова даром не ронял, солидно так улыбался вывороченной губой, но когда, захмелев, откололи матросское «Яблочко» и мужики заревели восторженно, полезли целоваться к нему и просили для пущего веселья засвистеть, он ломаться не стал. Присел, надулся и пустил над огородами такой свист, что разом залаяли все собаки и толстый дядька Елизар, заснувший прямо за столом с недоеденной куриной ногой во рту, очнулся и, зажав уши ладонями, замотал головой. Мужики опять заревели, полезли друг к другу целоваться, а Витька, оглянувшись вокруг шалыми глазами, оскалился щербатинкой, будто только сейчас поверил, что и вправду вернулся. Вот он – дом, вот заборы, а вот отец с матерью.
Всю ночь плясали и пели, плакали и порывались драться, уже и про Витьку забыв. Старый Лоншаков стучал по столу кулаком и кричал: «Все, Марья, собирайся! Завтра обратно едем, я этот город понюхал и в виду имел! Собирай чугуны! «Да куда же мы, Проша, поедем? – уговаривала его старуха. – У нас, глянь-ка, дом, хозяйство…» «Да пусть он огнем горит! – орал старик. – Хочу на кладбище нашем лежать, на ветру! А тут только закопали – уже вырыли, и дом на тебе построят, дура!»
– Да, да, да, – кивали мужики.
Кончилось тем, что погас свет, и Елизар, работавший в деревне монтером, полез на столб чинить. Сорвался и упал, поломав забор, да и не встал. Решили – насмерть разбился. Стали поминать Елизара, кто потрезвей побежали за врачом. Приехала «Скорая». Оказалось – спит. На радостях хотели напоить врачей, но те не дались, скоренько забрались в машину и уехали. Из дома вынесли керосиновые лампы и опять стали гулять. Утром еще немного посидели, покряхтели да и разъехались.
Так, под свист, под гармонику, под бессонную летнюю ночь вернулся Витька.
Тем временем, по сюжету, жили в соседях у Лоншаковых Сорокины, забор в забор. Люди в прошлом тоже деревенские, тихие, малосемейные, и процветала у них дочь Любка, студентка. Когда Витька уходил служить, она только-только начала вылупляться из девчонок. Худая была, угреватая, и, естественно, в своих похождениях Витька ее в виду не имел. Но три года – не три дня. И Любка на месте не стояла, оформилась. Сама пухленькая, задок круглый, вся голова в кудряшках, губы поджаты бантиком, носик вздернут, словом – девица. За год до Витькиной демобилизации начали у Сорокиных под окошками посвистывать вечерами и наезжать на мотоциклах, но Любка как будто не гуляла, нет: то ли уж очень разборчивой была, кандидата, что ли, в пару метила, или уж очень в своем самомнении окостенела.
На следующий же день после гулянки Витька ее увидел. Сидел он на крыше летней кухни в тельняшке, в невыносимых суконных штанах, щелкая семечки; смотрел на огороды, слушал, как на станции стучат буферами пущенные с «горки» вагоны и что-то насвистывал. Время падало к вечеру, на железнодорожных складах зажигались первые фонари, небо час от часу темнело, становилось все выше, тяжелей и тревожило. Окошки кое-где теплились.
У Сорокиных хлопнула дверь. Витька лениво повел шеей. Видит – идет существо в синих трикотажных брючках и маечке. И не идет, а пишет всеми своими выпуклостями, переливается. Витька тут же заинтересовался, стал всматриваться. Ни слова, ни мысли в нем дольше секунды не держались.
– Ого, – говорит, – какое прилагательное!
Она только зыркнула на него и, опустив голову, прошла между грядок к деревянной будочке в конце огорода. Витька и тут не дал маху, заржал и ликующе засвистел. И опять принялся щелкать семечки. Расщелкнет – и на небо посмотрит. Еще расщелкнет – и опять посмотрит. А оно висит стеной, темно-фиолетовой занавесью и растет, растет, и в нем нет-нет начинает посверкивать, будто глаза из-за кулис.
Опять хлопнула дверца и, опустив голову, пошла Любка между грядок обратно. Витька стал кидать в нее мелкими камешками и прочим сором, который был на крыше.
Она остановилась, сунув руки в бока:
– Дурак! – И пошла дальше, вздернув нос.
– Что ты, девка, мимо ходишь, на меня смотреть не хочешь? – гнусавя, пропел Витька, хлопая себя ладонями по коленям и скалясь щербатинкой. Пропел и загоготал, чувствуя, однако, некоторое смущение и нахальством его маскируя.
Любка только кудряшками встряхнула. Витька, не желая сдаваться, вслед ей запустил:
– Ну корма-а-а́!
Любка молча прошла по дорожке и вошла в дом. Засветилось сквозь деревца окошко с белыми занавесками и цветком на подоконнике.
Витька привстал на крыше, вытянул шею, разглядел комнатку с кроватью у стены, коврик на полу, этажерку с книгами; у окна за столом сидит Любка и по белому листу тянет рейсфедером ровную линию. Стро-огая… Витька сразу заскучал, зверски зевнул и опять принялся щелкать семечки. Через часок снова на Любкино окошко взглянул. И затаился, боясь вздохнуть: Любка, то ли забыв про соседа, то ли нарочно, стояла у окна в одних плавках и лифчике, – видимо, спать собиралась. Постояла, потянулась, выставив высокую грудь, и задернула шторы. Тут же и свет потух.
Витька все смотрел в потухшее окно, вытягивая шею, потом сел. Уже лягушки кричали, мокрело на крыше железо и лунное сияние гуляло по садам. Его зазнобило, он встал, крепко потер руки, с рычанием потянулся. От крестца поднималась сладкая истома, разогревая кровь, чего-то хотелось, а чего – не понять. Он опять потянулся, выгибая позвоночник, вдруг махнул с крыши вниз, схватил колун и взялся колоть здоровенные, чуть не в обхват сосновые чурки, лежавшие перед сараем. Колол, рубил, пластал, что есть силы всаживал колун, выдирал его и, опять скалясь до хруста, до звона, до боли в плечах, бил и бил. Разбудил стариков. Отец, высунувшись из окна, недовольно крикнул: «Да тише ты пластай, на ночь глядя, жеребец!» Витька, запаленно дыша, отбросил колун, стянул мокрую тельняшку, окатился из бочки водой, сунул туда голову, поболтал ею, крепко растерся, успокоился, повеселел. Полез на чердак, где мать устроила ему постель, и моментально уснул, храпя на весь переулок до сотрясения шифера.
Вечернее происшествие он сразу позабыл, тем более что Любка ему два дня после этого на глаза не попадалась. Да и некогда ему было. Пошел по дружкам, подружкам – свои законные три месяца отгуливать. И опять от него взвыли. Как вечер – так ведет компанию. Сам с гитарой, во рту папироска. Кричит: «Мать, тащи на стол!» И до утра в переулке свист, мат да пляс. Хоть бы были путные люди, а то ведь страшно с утра смотреть – вся зала запакощена, а девки эти несказуемые с парнями вповалку храпят, хоть ты их секи чем попало, хоть ищи ихних матерей…
От мая к июню время скакало, летело, звенело, а Витьке все мало. И – вот же зверь! Народ со двора уползает полумертвый, а он встает, как по команде, отшвыривает простыню, кричит: «Мать, воды, да похолодней». И в трусах идет во двор. Старуха льет ему на затылок из кувшина, а он только рычит, да скалится, да мясо свое мнет до синяков. А после кидается рубить дрова и рубит до пота, до полуобморока. И опять воды требует. Плещется, моется и – за стол. Мать ставит ему миску борща. Он посидит, понюхает пар, покрутит в пальцах ложку, шевельнет полосатыми в тельняшке плечами, осторожно черпает и, как причастие, подставив хлеб, несет ложку ко рту. Подует и тихонько со всхлебом проглотит. Поведет крепкими скулами, перетирая на зубах фасоль и капусту, и скалится на мать: «А борщец!» Мать разом засуетится, то ли пригорюнится, то ли обрадуется, старый Лоншак шевельнет на нее усами, и старики, переглянувшись, разом отвернутся друг от друга. Старый Лоншак шевелит усами, щурится, хмурится, смаргивает и ложечкой в тарелке все мешает, мешает… Старуха его тоже начинает на столе разные вещи двигать невпопад. А Витька знай хлебает, отдувается и поднимет на них шалые глаза, кряхтит и пошмыгивает разомлевшим от горячего носом. Дохлебает и заорет: «Батя, я пошел!» Наденет костюм, галстук, остроносые ботинки, сверкнет зубами, помашет от калитки – и нет его, только в конце переулка качаются квадратные плечи чуть-чуть форсисто приподнятые.
Старикам становится скучно, и они выходят во двор. Лоншак начинает что-нибудь строгать, шоркать рубанком, старуха вокруг него все вьется, кувшины на штакетник вешает, кастрюли, все чем-то позвякивает, побрякивает, шуршит, будто говорит: «Пусть сыночка погуляет, пусть его… Денег, что ль, мало у нас? А кому собирали? Кому копили?» И рубанок у Лоншака свистит: «Пусть… Пусть… Пусть…» И гусеницами шевелятся густые, до рыжины прокуренные усы.
А Витька гуляет до самой ночи. И нет на него ни лиха, ни тифа, ни прокурора… Живет, сукин сын!
До Любки ему до поры было мало интереса. Что Любка, когда хвост торчком и очи по тарелке? Но и у Витьки резервы были. Однако с июля начала его улица шатать. Идет под тополями домой в полночь под луной, а она ему: «Спи, сынок, спи…» Подойдет он к колонке, скинет пиджак, рубашку, окатится водой – и ничего. И в синем пепле переулка переставляет ноги, не боясь, задирает голову и скалится, а она ему в ответ: «Так, так, так!» Желтая…
И тогда опять увидел он Любку.
Шел как-то от остановки, и кидало его по синим буграм. Топал себе, как по палубе, развалисто, сунув руки в карманы и ожидая – мож кто попадется по морде дать?
Переулок тянул, вилял, сникал и тонул под распустившейся черемухой, Витька увидел – у соседского дома кто-то сидит в белом, шевелится, дышит. Витька свернул и по пыли побрел к скамеечке. Глядь – Любка. Сидит, сжатые коленки набок, и семечки лущит. И глазками – зырк да зырк. То потухнет, то вспыхнет опять влажный блеск. Посверкивает, посматривает… А то – вздохнет.
Витьке женский пол пропустить – поперек горла. Показал луне щербатинку, упал рядом на скрипнувшую скамейку. Густо вздохнул и глянул на соседку, а она все семечки лущит да поплевывает. И с большого глаза ее катится волной влага. Витька ухмыльнулся и придвинулся, Любка, вздрогнув, отодвинулась. Витька следом. Она опять. И он. Так до самого края двигались. Тут Любка вскочила, но он потянул ее за руку, отодвинулся и усадил.
– Как, Люба, поживаешь? – А сам все держит ее полную руку и чувствует, как тикает ему в ладонь мягкое, чуть испуганное тепло.
– Ничего, – ответила Любка, искоса, в насмешку, посверкивая. – А вы, Витя, все гуляете?
– Так для нас, таких, время есть, государством установленное.
– Мне, Витя, кажется, что вы всю жизнь так проживете.
– Ах, Люба, что вы во флотской душе такой-сякой понимаете! Я, может, видел Персидский залив…
И обнял ее и потянулся губами, вытягивая их в трубочку. Любка крепко уперлась ему в грудь ладонями и отвернула лицо:
– Шли бы вы, Витя, лучше причесались.
Оттолкнула его и, шмыгнув за калитку, звякнула щеколдой. Из-за забора до упавшего на скамью Витьки донеслось насмешливое: «Жених!..» И бисером рассыпался в темноте смешок.
Заскакали у Витьки перед глазами маленькие шарики. Он хмыкнул, удивляясь про себя силе оттолкнувших его рук и словно даже радуясь этой силе. Встал, пошатываясь, и завихлял к своей калитке. Подойдя, остановился перекурить, продлить минуту.
Тихо было в переулке. Не лаяли собаки, не пели петухи, в садах было темно и крыши лежали в них синими плоскостями, как посадочные, для нечистой силы, площадки. Луна дробилась на трубах, и серебрились телеантенны. Небо казалось черной, траченной молью шалью, и Витьке стукнула в голову шальная мысль: схватить бы эту тряпку за край да стянуть, посмотреть – отчего это такой свет неземной в щели светит? Стянуть, а там …что? Может, там кто с фонарем ходит? Может, там сияние да еще что-нибудь?..
От долгого смотрения в небеса пополз у него по спине холодок. Витька докурил папироску, отщелкнул ее в темноте и вдруг, сунув в рот пальцы, присев, запустил туда, вверх, свой бандитский свист. Запустил и замер, Разинув рот. В воздухе будто рябь прошла, что-то грохнуло с ледяным хрустом и – то ли померещилось ему, то ли вправду, весь купол вверху пришел в движете, сверкнуло белым и долго еще дрожала листва и оседала пыль от пронесшегося по переулку ветерка.
Уже сидя на кровати и снимая ботинки, он вспомнил про Любку и замер с ботинком в руке, морща лоб. Поддел, посидел и сказал матери, которая утюжила ему на утро помятый в гулянках пиджак:
– Мам, а что у Сорокиных Любка?
– Ох, Витя, – завздыхала старуха, – женился бы ты, может, что и разрослось.
– Ладно, – сказал, – холода нам не страшны.
Отшвырнул ботинок, упал на кровать и уснул.
С того дня стал Витька вроде тишать. Тишать и все чаще на соседский двор поглядывать. Вцепится в штакетник и стоит, сдувая с губ подсолнечную шелуху, а глаза становятся, как у барана, – выпуклые, недоуменные и вроде как обиженные. Он еще играл на гармошке и песни орал с дури бездельной, но шлялся уже не так, больше просиживал, как кот, на крыше кухоньки, выслеживал, когда Любка пойдет через огород, и обсмеивал, трепушил ее всяко, а то и из рогатки в нее пулял, как маленький прямо.
Любка на него злилась и даже в подушку поплакивала: как ей, образованной, было терпеть такое отношение? Но нос задирала, потому что бабьей подкожной сметкой уже дошла, куда Витька присесть хочет. Тут бы ей намек дать, поиграть глазами, чтобы губошлеп невесть чего вообразил, – он бы рабом ее стал, с ног ей пыль сдувал, собакой под окошком лаял, но Любка до такого ехидства опытом не дошла, да и с принципом была девка. И что самое главное – Витька на ее тайное усмотрение был больно уж дик и свистун к тому же. А Любке хотелось основательного человека. Хоть и водила она компанию с очкастыми умниками, хоть щупачи из институтских ловеласов всякого ей напели и под стишки, гитару да винцо потрогали ее, она уж зорко смотрела, какую ей надо в хозяйство скотину. Из деревни народ обстоятельный выходит. Журавля не ловит, а синице улететь не даст. Вот ради любопытства прийти на праздник в семью, которая лет десять как навоз ворочать перестала и в город перебралась, посмотреть, кто за столом сидит. Кто сидит? Крепкие люди сидят, стулья под ними поскрипывают. Кладовщики, заведующие, милиционеры.
Если бы Витька жизнь завоевывал, Любка, может, до него бы снизошла, а он, дурень, на крыше сидел, насмешки строил да из рогатки пулял. Хоть бы еще стишки читал, а то, как назло, стишков-то и не знал, только похабные побасенки. Нахватался, в общем, культуры на морях. От скуки построил Витька на крыше голубятню, откуда-то натаскал турманов и стал гонять их. Стоит на крыше в тельняшке и машет шестом с прибитым к нему мочалом. Рядом город ворочается, машины ходят, люди спешат, под ноги глядя, двери хлопают, машинки в учреждениях стучат, бухгалтера над отчетами преют, торговля кругом идет, отношения выясняются, стенгазеты выпускаются и выносятся выговора, кругом заседают, вопросы решают серьезные и, устав бумаги по столу перекладывать, замаявшись сердцем, отъезжают на курорты, хоронят кого-то, говорят, не зря пожил, на работу не опоздал ни разу, в роддомах младенцев не успевают принимать да нумеровать, народ над «Жигулями» страдает, запчасти не может достать, седеет раньше времени, а достав, сам себя уважает и на встречных свысока поглядывает, – жизнь идет, в общем, серьезная, делу время, потехе перед сном – час.







