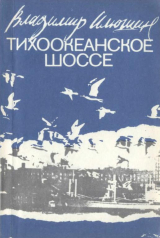
Текст книги "Тихоокеанское шоссе"
Автор книги: Владимир Илюшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Я сидел в скверике, на скамье, где-то в листве надо мною орал громкоговоритель, из него неслись то песни, то марши, он хрипел, стонал и захлебывался, потому что даже железо, видимо, не могло снести напора этой бездумно пузырящейся радости, казалось, это летят сюда, на захудалую, потерявшуюся в степи станцию, отголоски далекого праздника, которого никому из нас никогда не узнать. Громкоговоритель вдруг начинал гнусаво фонить, забивая гудом пространство, и казалось, что в голове у тебя коловоротом вертят дыру. Я потерял время в своих засыпаниях и забыл, сколько я здесь нахожусь. Я еще посидел, послушал песню, которая рвано неслась из репродуктора, и пошел искать сержанта Сидоренко. Момент настал, я уже не представлял, как мне иначе отсюда уехать, пусть хотя бы до ближайшей большой станции, где много народу и поездов.
Бессознательно я старался идти другой дорогой, по другим улочкам, мне казалось, что, может быть, где-то на незнакомой мне улочке караулит удача, ведь всегда надеешься на лучшее, а где ж ему быть, как не там, где ты еще не был. Но улочки все были похожи одна на другую, все на одно лицо, с собачьим лаем, черемухами, тополями, разрытыми трубами и неторопливо бредущими по своим делам одинокими прохожими. И, как обычно, висели всякие красочные плакаты, на которых белозубые мужчины и женщины предлагали страховать свою жизнь, отдыхать в Крыму и летать самолетами «Аэрофлота», – в этой пыли и скуке под провисшими проводами они казались жителями каких-то других миров. Но я все время помнил про степь вокруг поселка, про бесконечное шевеление рыжей травы и размытый горизонт, за которым ничего не было видно. Я старался вспоминать о скифской коннице, которая кружит вокруг поселка, и от этого становилось легче.
Забор вокруг отделения был высокий, глухой, выкрашенный какой-то грязноватой краской, – и я не пошел в отделение, а стал кружить вокруг. Я надеялся – чем черт не шутит? – встретить Сидоренко на нейтральной территории, чтоб он мне козырнул и сказал: «А-а, явился-таки, а что я тебе говорил!» И я сразу рассказал бы ему про столовую, и про деда, и про базар, и мы бы вошли во двор отделения как добрые знакомые. Сидоренко, несмотря на свое сержантское звание, почему-то казался мне здесь главным, – будто он только снисходительно притворяется подчиненным, а на самом деле всем здесь заправляет.
В одном месте к забору примыкали чьи-то гаражи, между ними и забором было пространство, захламленное досками, ящиками и прочим сором, а на крыши свисали ветви деревьев. Я проскользнул туда и уселся на крыше, с которой можно было наблюдать за двором отделения, оставаясь незамеченным. Из дверей то и дело выходили люди в форме, в окно видно было, как они там, в дежурке, о чем-то разговаривают и смеются, но за столом сидел не лейтенант, а кто-то другой, Сидоренко не было видно. Я сидел долго, но его все не было. Два дружинника привели цыганку. Она осыпала их бранью, потом начала голосить, перестала и льстиво принялась уговаривать дружинников и расхваливать их – какие они молодые и красивые. Они смеялись. Цыганка посулила ворожбой лишить их счастья в семейной жизни и мужского достоинства, дружинники захохотали и потащили ее в дверь. Она царапалась, кричала, мимоходом доставая из-под юбки какие-то пакеты и разбрасывая их по двору: наверно, в пакетах было что-то запретное. Дверь за ними захлопнулась, потом один из дружинников вышел и собрал пакеты.
Сидоренко все не было, и я подумал, что скорее всего он сегодня отдыхает после работы в ночь и торчать на крыше бессмысленно.
Остаток дня я провел за поселком, в степи. Лежал в бурьяне и смотрел, как колышутся надо мной метелки дикого овса и ковыльные пряди. Я не мог ни о чем думать, боялся сна, и он мешался с явью, и где-то близко текли в пыли бесконечные копыта, достаточно было поднять голову, чтобы опять увидеть череду прокаленных солнцем лиц и блеск железа.
К вечеру я пошел на станцию и на улице, которая выходила к вокзалу, увидел у продуктового магазина машину, в которой перевозят хлеб. Грузчики в синих халатах таскали в магазин лотки с буханками. Даже через улицу я уловил запах свежеиспеченного хлеба. Горячие буханки еще дышали кисловатым духом опары, и запах этот встал в горле комом, распирая его.
Я перешел улицу и заходил вокруг машины кругами, потом сел неподалеку на корточки. У меня потекла слюна, я глотал ее, и она опять натекала. Не в силах терпеть, я подошел ближе.
– Хлебец ждешь? – спросил меня худой горбоносый грузчик.
Я кивнул.
Он поставил лоток на ящики у входа, взял буханку, оторвал зубами захрустевший угол, прожевал, потом быстро подошел к машине и кинул буханку на сиденье, а сам, подхватив лоток, исчез в дверях. Меня облило горячим потом. Я встал и медленно пошел вдоль машины, как бы гуляя. Проходя мимо кабины, привстал на цыпочки и заглянул. Буханка лежала на коричневом дерматине, и надкушенный край пушился пористой сероватой мякотью. Надо было только распахнуть дверь, схватить буханку и убежать. У меня затряслись руки, в голове загудело, но я никак не мог решиться, ходил мимо кабины взад-вперед и ждал, когда грузчики скроются в магазине оба. Но кто-нибудь из них обязательно оказывался у машины. Наверно, в тесноте магазина им было не развернуться и они ходили по очереди.
Наконец они кончили таскать. Один остался у машины и закурил, второй исчез в магазине. Потом он вышел вместе с шофером, они сели в машину и уехали. Выглянула продавщица в белом халате и захлопнула дверь.
Надо было уходить, а я все ходил взад и вперед вдоль задней стены магазина и заглядывал в окна, заставленные изнутри какими-то ящиками. Я последними словами ругал себя за нерешительность, но все ходил и ходил, чего-то вынюхивал, оглядывался, проверяя, нет ли кого поблизости. Я не понимал, зачем это делаю, как вообще многое перестал понимать в последнее время. Но если бы я много думал над тем, что не понимал, я бы никуда не уехал, а остался бы в Новороссийске без копейки денег. Однако мне многое удавалось и, не понимая, я все же доверял своим стихийным действиям, они меня выручали. И вот я ослеп, оглох, перестал что-нибудь воспринимать и о чем-либо думать, подошел к двери, еще раз оглянулся, потянул ее и она открылась. Если бы меня в этот момент окликнули, я бы, наверно, сам поразился тому, что делаю. Я вошел и тихонько прикрыл за собой дверь, как у себя дома. Я пошел на запах хлеба, который тек по коридору, перебивая вонь протухшей селедки и неистребимый мышиный запах. Здесь, в подсобке, никого не было, голос продавщицы слышался из-за стены, из зала, я шел как слепой к составленным друг на друга буханкам. Они высились на широком столе золотистым высоким прямоугольником. Очень спокойно я снял сверху одну и, держа ее под мышкой, пошел назад, мимо ящиков с конфетами и папиросами, мимо бочки с пожелтевшим сахаром.
Я вышел, прикрыл двери, и только пройдя несколько метров, очнулся от оцепенения и зачастил ногами, ожидая в спину окрика, пронизанного той злой радостью, с которой изобличают воров. Буханка грела подмышку, я подумал, что ее могут отнять у меня, побежал за угол и там отдышался, выглядывая. Я отрывал зубами куски хлеба и жевал, торопливо глотая и давясь. Почему-то подумалось вдруг, что эта буханка перепала мне не зря, что это не так себе – хлеб, а вроде поощрения и награды солдату за то, скажем, что он просто остался жив, уже сама эта живучесть требует награды. Я вдруг понял, что повис на хвосте у удачи и надо действовать, теребить судьбу и тогда она подкинет мне еще один подарок – вроде товарняка на Поворино. В беде человек иногда бывает очень прозорлив и может отсчитывать свои ходы на много дней вперед, почти не ошибаясь. Казалось, чья-то сильная рука сама провела меня за шиворот в магазин и теперь, поощряя, давала подзатыльники, – давай, мол, сынок, давай, все, что было тебе на этой станции положено, ты выхлебал, бояться нечего, валяй до следующей!
В общем, что-то такое в моей голове мелькало. Может, я просто воспрянул от того, что у меня есть пища. Ведь буханка хлеба – это вам не коржик с маком, это день, а то и два, когда можно не заботиться о еде. Я съел треть буханки, все так же стоя за углом и поглядывая на двери магазина, потом развязал рюкзак, положил туда хлеб и пошел на вокзал. Я держал рюкзак под мышкой, меня мучил страх, что буханка вывалится в какую-нибудь дыру, испарится, и чувствовать ее боком было гораздо спокойнее.
Скоро подошел пассажирский поезд. Я помог пожилому мужчине перетаскать к автобусной остановке чемоданы, заработал на этом деле рубль и уже с полным правом пошел в буфет. Потом ушел на запасные пути, в уверенности, что поезд пойдет, куда мне надо, залез в первый попавшийся товарняк и уснул. Когда я проснулся, поезд шел, мимо катила розовеющая степь. Ехали мы на север, и я отпраздновал эту удачу, прикончив буханку.
Я ехал на электричках от одной крупной станции до другой, сдавал бутылки и покупал хлеб и папиросы, ни один контролер меня не ссадил, потому что я всем рассказывал свою грустную историю и у всех просил занять мне пятьдесят рублей на билет. Мне сочувствовали, отводили глаза и уходили сконфуженные.
Деда я встретил на одной станции под Златоустом. Я ввалился в двери и сразу увидел знакомую фигуру. Он стоял у окна и ел большое красное яблоко. Я подошел, хлопнул его по плечу, он обернулся ко мне стоячими глазами и тут же, узнав, заулыбался и стал ломать яблоко пополам. Я достал из рюкзака хлеб, мы поели и дальше поехали вместе.
В Челябинске уже лежал снег, и я отправил домой телеграмму, оставив в залог паспорт. Два дня я жил на вокзале, а когда пришел перевод, мы накупили деду продуктов в дорогу, и я проводил его к электричке.
Много времени прошло с тех пор, все это кажется смешным, но иногда они видятся мне во сне: сержант Сидоренко, козыряющий мне на крыльце отделения, женщина с торбочкой, дед с большим крымским яблоком и скучная станция Филоново, вокруг которой – степь.
Человек, который любил Кафку
Субботняя тоска имеет свой цвет. Это цвет бесконечного времени, которое некуда деть, непривычной тишины на улицах и женского смеха под окнами. Когда-то, еще в студенчестве, я подрабатывал в местном театре осветителем и знал, что какой-то драматической ситуации должен соответствовать определенный цвет. Например, когда на сцене разыгрывалась драма с убийством, помощник режиссера махал мне рукой и я включал зловещий красный фонарь. Любовь у нас шла в неопределенном полумраке, под душераздирающую музыку. Может, поэтому я и не женился до сих пор: даже при взаимной симпатии мне частенько не хватает музыки. Некоторое время меня все это забавляло, я даже пробовал перевести в цвет свои эмоции. Например, захандрив, врубал в себе синий прожектор тихой лирики. И, знаете, иногда удавалось. Но сложность в том, что если окрасить свои чувства определенным цветом легко, то сделать наоборот гораздо сложнее, тут действуют какие-то непонятные законы. Вот суббота для меня окрашена почему-то желтым.
Терпеть не могу опавшие листья и субботу. Она выбивает меня из колеи. Казалось, можно хотя бы всласть выспаться. Ставишь будильник на десять, но без пятнадцати восемь уже вертишься в кровати с открытыми глазами, и оказывается, что весь твой недельный недосып спокойно втискивается в четверть часа, а привыкший к режиму организм издевается над твоим правом свободного человека делать что вздумается. Долгий завтрак. Шлепанье по квартире в ожидании почты, размышления на тему: куда себя деть? Я не люблю сидеть дома по выходным, часто начинают лезть в голову разные ненужные мысли, которые меня, человека без амбиции, давно с самим собой сжившегося, могут выбить из колеи и расстроить надолго.
Не то чтобы я считал себя неудачником, нет, я вполне устроен, работаю в проектном институте инженером-экономистом, зарплаты хватает, у меня своя, хоть и маленькая, квартира, что немаловажно. Годам к сорока поднимусь в завотделы, может, и в замы, так что нет никакого повода для самоедства. Просто после тридцати лет, а может и раньше, из человека что-то уходит. Не могу вот так определить – что именно, этого поначалу не замечаешь, как не замечаешь в себе перемен, каждое утро бреясь у зеркала. После института думаешь только о работе, строишь какие-то планы, и общая неустроенность подкрепляет тебя в мысли, что все это – подготовка к чему-то главному, большому. Оно, это главное, похоже на утреннюю зарю, которая вот-вот поднимется. Время проходит, и все устраивается само собой. Находится жилье, денег теперь зарабатываешь побольше, со всеми перезнакомился, знаешь все выходы и входы, входишь во вкус внутренней жизни и внутренних сплетен. Нервотрепки поменьше, покоя побольше, и это – лучшее время, время большой работы, быстрых движений, время ресторанов и загородных поездок с приключениями. Тут важно точно втолкнуться в свое, целиком и полностью. Потому что потом что-то уходит, и, как бы взглянув на себя в зеркало, вдруг с изумлением замечаешь, что ты начал стареть, откуда-то взялись морщины и предательские залысины, проредив лихой чуб, неуклонно движутся к затылку. Вот тут ощущаешь, что что-то потерял. Чувство смутное, может быть, преждевременное. С человеком, что-то случается. Он похож на того чудака, что стоит на тротуаре, мешая прохожим и, удивленно вскинув брови, хлопает себя по карманам. Вроде бы все на месте, а ему все кажется, что из кармана выпал бумажник. И ведь знает, что не брал он его с собой, но чувство потери такое явственное, что он волей-неволей начинает сомневаться: а вдруг…
По субботам стараюсь не сидеть дома. Брожу. Иногда захожу к знакомым. Для приключений у меня не та внешность – сослуживец говорит, что при моей физиономии лучше всего знакомиться с женщиной в темноте. Кино, реже – театр, шлянье по улицам, поездки в автобусе неизвестно куда.
Иногда заглядываю в библиотеку, не чаще двух раз в месяц. По правде говоря, я не великий любитель чтения, и чаще всего взятые книги так и пылятся на столе все две недели. Мне нравится ходить в библиотеку потому, что это, так сказать, акт приобщения к культуре. Сама атмосфера настраивает на определений лад. Тихие голоса. Бесконечные стеллажи с рядами корешков. Я способен часами листать книги, перебирать их или просто стоять, читая названия. С выбором дело сложнее. Классикой я отравился в школе и с тех пор чинные ряды собраний сочинений вызывают у меня легкий трепет и желание, чтобы скорее прозвенел звонок. В будние дни я частенько занят очередной срочной работой. А то собрание какое-нибудь. И потом – хорошую книгу достать трудно. На одни – очередь, другие библиотекарши придерживают для своих постоянных читателей, у меня же лично никогда не хватало наглости вот так подойти и спросить что-нибудь этакое… Беру детективы, если удастся перехватить, или просто что под руку попадется, не уходить же так.
Я, кстати, подметил, что есть несколько типов читателей. Читатель «ярый», что-то вроде вечного студента-очкарика, который набирает три горы томов с мудреными названиями, читатель искушенный – тот, что бродит вдоль стеллажей с кислой миной всезнайки, и читатель случайный – вроде меня. Есть еще подтип читающей домохозяйки, которая, посмотрев многосерийный телевизионный фильм, бежит в библиотеку за первоисточником, отдельная группа любителей фантастики, группка книжных воров, прослойка барышень с мечтательными глазами, ну и так далее. Эти наблюдения придают моим посещениям библиотеки особый вкус.
Началось все с того, что пришла другая библиотекарша. Обычно я не замечаю ни билетеров, ни кассиров, ни продавщиц – это старая привычка смотреть на руки, не из страха, что обсчитают, а потому, что руки меня гипнотизируют. Прежняя библиотекарша, пожилая, несколько расплывшаяся женщина, была похожа на добрую сельскую повариху, руки у нее были как у поварихи – большие, красные и, наверно, мягкие.
Когда в очередную субботу я явился в библиотеку и, протоптавшись час, положил на стол две взятые в последний момент книжки, которые выбрал наугад, даже не глянув на названия, то с удивлением увидел тонкие бледные пальчики, слегка испачканные чернилами. Я удивленно поднял голову и на месте поварихи обнаружил довольно юное создание, худощавое, круглолицее, с маленьким носиком, сурово поджатым ртом и какими-то непреклонными глазами за толстыми стеклами очков. У нее были темные, гладко зачесанные назад волосы.
– У вас странный формуляр, – сказало создание с неуловимой усмешкой, чуть сморщив кожу в уголках бледного рта. – Не пойму. То Толстой, то детективчики, а зачем вам Кафка? Вы что, любите модернистов?
Это было сказано тоном все на свете читавшей отличницы, и я на мгновение растерялся. Какой такой Кафка?
Прокурорские глаза посмотрели на меня сквозь очки с явным презрением, и я вдруг вспомнил свою учительницу литературы. Я уже готов был вспылить: какого черта, в самом деле, что хочу, то и читаю! – но тут вдруг увидел себя ее глазами. Увидел запущенного, немолодого, плохо, по-субботнему выбритого холостяка с оторванной пуговицей на пиджаке и понял, что в ее глазах я в качестве читателя Кафки буду посмешищем. Я уловил вдруг, что мне не следует читать Кафку, я не тот тип человека, который, по ее мнению, может быть к этому допущен, и тут я, сам не знаю почему, понес вдруг околесицу. Перегнувшись через барьер и улыбнувшись, как бы приглашая ее в сообщники моего несчастья с этим самым Кафкой, сказал:
– Видите ли, в чем дело… Это я беру не себе. Меня попросил друг, он сам лежит со сломанной ногой, дает мне заказы, так сказать, он страстный книгочей, ну а я… – Тут я доверительно рассмеялся. – Знаете, говоря откровенно, сам я предпочитаю телевизор.
Она вскинула подбородок и слегка кивнула, точно говоря: «Этого и следовало ожидать». И круглым старательным почерком записала в формуляр: «Франц Кафка» и т. д., вплоть до года издания. Я уходил, неся в спине, как стрелу, ее насмешливый взгляд.
На улице я обругал себя последними словами. Так унизиться перед девчонкой! Подумаешь, фигура, все на свете читала, а попробовала бы она составить самый простенький проект! Да, я книг не читаю, но я работаю. В конце концов, некогда мне читать разных модернистов, пропади они пропадом!
Желчь кипела во мне до самого дома. Я швырнул книги на стеллаж, включил телевизор и тут подумал, что так выбирать книги тоже не дело. Можно и впросак попасть перед каким-нибудь самодовольным бездельником. Впрочем, скоро я позабыл это маленькое происшествие, но она, как выяснилось, не забыла. Когда я в следующий раз притащился к столу с толстыми томами Томаса Манна, она встретила меня насмешливым взглядом:
– Опять для друга берете? Что это у вас? О, Манн! «Волшебная гора»! Ваш друг любит немецкоязычную литературу?
– Да, – буркнул я, – такой у него профиль – немецкоязычная литература.
«Какого черта я этого Манна взял? – подумал я про себя. – Прямо гипноз какой-то. Проклятая привычка выбирать книги не глядя!..»
– Он что – филолог?
– Да, кандидат наук. – Я разукрашивал «друга», как елку.
– И что он хотел бы почитать? – Широкие, не знающие сомнений глаза смотрели на меня в упор.
– Он жалуется, что в наших библиотеках книг, которые ему нужны, нет. Провинция, сами понимаете. То, что стоит у вас на полках, он прочитал еще студентом. – Я врал с мрачным вдохновением, это был своеобразный реванш за Кафку.
– Ну, знаете… – карандаш сердито описал дугу, – не скажите, у нас богатые фонды! Пусть ваш друг составит список, я постараюсь найти, что ему нужно. И знаете, что… – Она мгновение помолчала и твердо пристукнула карандашом по стеклу, – принесите мне этот список завтра, если вас не затруднит.
– Что ж, если так, я ему передам.
– Посмотрим, что за запросы у вашего кандидата наук.
«Боже, какой идиот…» Я ушел, церемонно раскланявшись, и всю ночь корпел над треклятым списком, попросив у соседа, сын которого учился в педагогическом институте, хрестоматию немецкой литературы. Я выписал неизвестные мне имена, рассудив: то, что на слуху у всех, кандидату не пристало. Часа в два ночи я вдруг очнулся и поразился: чего ради я этим занимаюсь? Ересь какая-то… Я подумал, что иногда человек попадает в нескончаемую цепь обстоятельств, где одно звено тянет за собой другое и можно так в этом запутаться, что потом не докопаешься до причин. Странное чувство насмешливого сожаления к самому себе охватило меня. Чем я занимаюсь, черт бы меня побрал! Нормальные люди воспитывают детей, живут полной жизнью, а я корплю над чужим учебником, выписывая разных там Гофмансталей, Шамиссо, Клейстов, потому что боюсь, как бы высокомерная девчонка из районной библиотеки не посчитала меня дураком. А почему, в сущности, она должна меня считать дураком? Мистика какая-то! И так со мной всегда – сам себе выдумываю препятствия и потом бьюсь над их преодолением. Когда на самом деле все так просто!
Как бы там ни было, на следующий день я пришел с длинным списком немецких имен, для солидности напечатанных на машинке.
И провинциальная библиотека восторжествовала. Я ушел из нее, унося под мышкой томик Рильке на немецком языке и «Игру в бисер» Гессе. Кстати, и мне было указано, что я что-то редко прихожу менять книги, и если верить моим словам, что кандидат наук – страстный книгочей, то очевидно, что я сам отношусь к своим обязанностям халатно и это характеризует меня не лучшим образом. И я стал ходить в библиотеку через день. Меня все это начинало забавлять.
Как-то она спросила:
– А где ваш друг сломал ногу? Он что – пьет?
– Да что вы! – возмутился я. – Как можно! Он спортсмен, отчаянная голова, неудачно прыгнул с трамплина, знаете, эти водные лыжи… Как еще голову не свернул.
Еще через день у него появилось имя. Его зовут Сережей, этого кандидата на водных лыжах. Да, еще он интересуется именем девушки, которая подбирает ему книги.
– Зачем это? – легкая растерянность.
– Он просил узнать. Говорит, что такую эрудированную девушку не стыдно было бы пригласить на кафедру немецкой литературы.
– Это вы шутите. А он, что, ведет кафедру?
– Да, знаете, их профессор через год уходит на пенсию, и Сергею прочат его место.
– А не молод ли он для кафедры? – Легкая настороженность. – Сколько ему лет, вашему вундеркинду?
– Он чуть моложе меня, ровно тридцать. Что называется, из молодых, да ранний. Везучий. Я ему завидую, честно говоря. Так что передать?
– Скажите – Ира.
Собираясь в очередной раз в библиотеку, я вложил в книгу записку следующего содержания: «Уважаемая Ирина, простите, не знаю вашего отчества, поэтому обращаюсь к вам так фамильярно. Вы очень меня выручаете. Если бы не вы, право, не знал бы, что делать. В наше время редко встретишь девушку вашего склада, эрудированную и готовую помочь бескорыстно. Мой друг, который берет у вас книги для меня, много мне рассказывал о вас, как вы внимательны и чутки. Откровенно говоря, я завидую ему, но проклятая болезнь лишила меня возможности передвигаться, думаю, что ненадолго. С уважением, Сергей».
Я переписывал эту записку раз десять, подбирая достойный любителя Рильке стиль. Это был тонкий ход, надежда завоевать за счет друга расположение этой бесполой статуи, с которой, кстати, приятно было иногда поболтать. Правда, она избегала в разговоре со мной литературных тем, но, можно сказать, мы были уже на дружеской ноге за счет того, что тень моего незаурядного друга ложилась на меня знаком причастности. Десять раз переписывал я записку, добиваясь необходимого уровня грамотности, так чтобы не перло интеллектом изо всех щелей, но с долей галантности.
Эффект получился неожиданный. Едва раскрыв книгу, она захлопнула ее и отложила в сторону. Когда миновала растерянность, я вдруг понял: она не хочет, чтобы я видел записку. Я несколько опешил, не ожидал такого поворота. И в ее взгляде, особом, сравнивающем, прочел окончательный себе приговор. Конечно же! «Этот субъект так туп, что не способен понять, что такая холодная вежливость – способ издевательства. Бедный Сергей! И что он нашел в этом типе?» Вот что говорили ее глаза, провалиться мне на месте!
Началась странная игра. Сергей вырастал на глазах. Он знал три иностранных языка (на большее я не решился). Он учился в Лейпциге, по обмену студентами. Да, да, он любит иногда читать в подлиннике, но где взять? У него своя машина. И иногда я, простой смертный, удостаиваюсь чести съездить с ним по грибы (подношу корзины, вероятно). Студенты его обожают, прямо жить без него не могут. Целыми днями толпятся на лестничной площадке, приходится выгонять (вот это не в мою пользу). А что же я, в самом деле, целыми днями толкусь у него? Жена куда смотрит? А он не женат. Точнее, был, но не сошлись характерами, такая, знаете, бездушная стерва… Извините, вырвалось. Конечно, одному трудно, но он, знаете, разборчив, таких консервативных людей сейчас редко встретишь… Красив ли он? Пожалуй, он не из тех, кого снимают для обложек «Экрана» (красавец-мужчина тут явно не нужен – у девочки может быть комплекс по поводу своей внешности). Он, скорее, обыкновенный. Да, простое лицо. Но в нем есть что-то своеобразное, такое… пожалуй, то, что мы определяем, как красоту души. Это ведь главное, верно?
Девочка начинает тихонько подкрашивать губы. Поскольку я туп, то ничего не должен замечать, кроме одного, – она внезапно похорошела. Очки, однако, на месте. Сильная близорукость или принципиально?
…Что же я это делаю? И зачем?
Мой друг висит надо мной, и избавиться от него уже невозможно, есть только один способ – исчезнуть. Но я не исчезаю. Сам не знаю, почему. Я хожу в библиотеку, беру книги, смотрю в ее озабоченные глаза, раскачиваю свою подыстощившуюся фантазию, а весна катит по городу, как асфальтовый каток, и надо знать идиотизм субботних вечеров, надо знать всего Клейста, Гофмансталя, Гейне, Гете, всех немцев на свете, которые когда-либо что-либо писали, чтобы понять, почему эти бледные щеки время от времени трогает румянец, а поджатый рот вдруг распускается влажным цветком, надо знать, как вежливы и обходительны могут быть кандидаты наук, надо знать бессонницу инженеров-экономистов, надо знать все это и еще массу других вещей, чтобы понять, почему все происходит именно так, а не иначе, и почему этому не видно конца.
…Ему пора бы встать на костыли, этому снобу. Но у него осложнение – воспаление сустава. Еще месяц постели – жаль, он так хотел ее увидеть…
Время от времени я беру детективы.
– Это вы кому? – несколько удивленный взгляд.
Смущенная улыбка. Себе, конечно. Что ж, таким я Уродился. Кстати, почему она так относится к детективам? Бертольд Брехт, например, обожал их. (Даром, что ли, перелопатил всю классику, – нет, теперь я не лыком шит!). Надменное движение подбородка. Очевидно, следует понимать так: «Что положено Зевсу, не положено быку!» Зевс, то есть Брехт, может позволить себе иной раз стать быком, но мне, то есть быку, Зевсом не стать никогда.
Кстати, взял я этого Кафку еще раз: «Сергей попросил», решил прочитать. Не понравился мне Кафка. Я уснул на пятой странице. И что он в нем находит, почему так любит и хвалит этого модерниста? (То бишь, это я передаю суждения Сергея по поводу прочитанного. Суждения эти я почерпнул из «Иностранной литературы»). Я начинаю тихонько ненавидеть этого сноба. Он, видите ли, увлекся Максом Фришем. «Назову себя Гантенбайн» – всю ночь напролет. Впрочем, это уже излишество. Чтобы передавать ценные суждения кандидата наук, достаточно прочитать предисловие. При моем косноязычии и незнании специальной терминологии, выходит довольно эффектно.
А дни летят. Желтые субботы слетают с календаря одна за другой. Впрочем, они теперь окрашены другим цветом – академическим, светло-коричневым, что ли…
Я погружаюсь в эту игру с бездумностью мотылька, летящего на огонь. Разница в возрасте между нами слишком велика, чтобы я чувствовал себя виноватым. Маленькая ложь ребенку – привычная забава взрослых. Меня забавляет завороженность этой девчонки. Иногда забавляет, иногда бесит. И ее отношения с выдуманным мною Сергеем, которого я уже устал выдумывать, меня забавляют, дают пищу для размышлений. Например, я думаю о том, какую роль в жизни играют иллюзии. Ведь все мы или, по крайней мере, большинство, взрослые, серьезные люди, – носим в душе тайное стремление к несбывшемуся. Недаром таким бешеным успехом пользуются приключенческие романы и сильные личности, а классика больше пылится на полках библиотек. Классика скучна, потому что правдива, жизнеподобна, а мы сыты жизнью по горло. Не может современный человек смотреть на себя в жестокое зеркало правды с удовольствием. Ему хочется выпятить грудь на пляже и хоть на минуту ощутить себя суперменом, а не полысевшим раньше времени чиновником с отвислым брюшком. Иллюзии поддерживают, они помогают перешагнуть то, на что, зная судьбы других, часто и смотреть боишься. Но нельзя слишком доверять им, потому что если сломается и это, нечем будет защищаться. Жажда перемен, вера в то, что они непременно будут, помогает терпеть однообразие, все остальное – дело случая, удачи. Жить хотят все, а с верой жить легче даже неудачнику.
Вот такие размышления занимают мое время все чаше. Явное влияние немецкой литературы.
…Я лгу сам себе и лгал с самого начала. Потому что вовсе меня все это не забавляло. И не забавляет, а тяготит. Игра продолжается, и какой-то холодок предчувствия обдает мою спину легким ознобом.
Она меняется на глазах, повинуясь какой-то неведомой мне женской идее, то есть – скорее инстинктивно, чем осмысленно, сама не понимая, что делает.
Во-первых, одежда. Нет больше серой бесформенной юбки, вязаного пуловера и глухих воротничков. Серое, но уже открытое платье с пояском, подчеркивающим талию и грудь. Появляются коричневые, но довольно изящные туфли на высоком каблуке, и подстриженные волосы открывают тонкую беззащитную шейку. Модные большие очки в тонкой оправе, женский жест. Косметика – чуть, легкие мазки. По-прежнему консервативно короткие ногти осторожно тронуты бесцветным лаком. Крепости рушатся? Нет, крепости строятся и укрепляются, так все это следует понимать, и ее напор растет день ото дня, проявляясь в потоке эрудиции, который обрушивается на мою бедную голову.
…Он вот-вот должен встать. Она вся как на иголках, но это проявляется своеобразно: у нее чуть припухают веки, и я понимаю, что это не от чего иного, как от усиленного чтения, лихорадочного перелопачивания специальной литературы. Она хочет быть во всеоружии, потому что он теперь вместо записок пишет ей пространные, на пяти страницах, послания. Например, такие: «Что касается Кёппена, то, на мой взгляд, вся его художественная система построена на разрушении, на бесконечном расчленении «Я», что само по себе служит признаком разрушения и деградации культуры в Целом, между тем как истинной целью культуры всегда являлось и будет являться созидание. Разрушение старого есть внутренний мир человека, но не внутренний мир литературы, поскольку эволюция художника и эволюция творчества – разные вещи. Завтра художник может отречься от творений, которые волей-неволей воспитывают миллионы. Поэтому нигилизм во имя построения – это дело уборщиков мусора, но не художников, и потому, приемля Кёппена как личность, изымая его из сферы вечной и общезначимой, я не приемлю его художественной системы. Это парадокс, но над этим стоит задуматься». И т. д.







