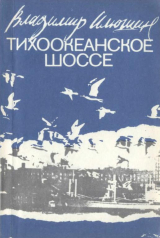
Текст книги "Тихоокеанское шоссе"
Автор книги: Владимир Илюшин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
А Витька посадит на ладонь голубку, погладит пальцем сизые перышки, наклонится ухом, слушая, что она там воркует, часто тукая горячим птичьим сердцем, поднесет ее клювом к вывороченной губе и, губами забрав клюв, пустит в него нажеванного хлеба, а потом подкинет вверх. Она, подлетев, распустит крылья, затрепыхается и уже, упруго отталкивая крыльями воздух, начинает чертить круги, норовя сесть. Взлетит за ней вся стая, и Витькин свист подбросит ее к облакам. Витька стоит и скалится. Голубей он любил. А еще любил кормить кур намоченным в вине хлебом, и когда они во главе с петухом, захмелев, начинали спотыкаться по двору, очумело, невпопад квохтать и всякие фокусы выделывать, Витька садился на крылечко и играл им на гармошке. Мать его за это ругала – куры с похмелья не неслись, – а он только улыбался. Любить любил, но и голову мог открутить той же голубке, не поморщившись. При таких странностях как Любкиной симпатии к нему повернуться?
Что еще характерно – не любил он города и дальше деревянной слободки с ее переулочками, черемухами, деревянными домиками выползал редко.
Ну вот. В общем, начала Любка Витьке видеться. Ляжет он спать, глаза закроет, тут и она подкрадется. То в бесстыжем виде, от которого в жар кидает, то вроде скромница, то вроде молит о чем-то, то издевается над ним и с улыбочкой стегает его кнутом. Витька перевертывается с боку на бок, повздыхает, засопит, опять перевернется, сядет. Посидит, посидит и ляжет опять, натянет одеяло на голову и начинает считать. Уже до ста досчитает, уже и сон подступает, а тут опять – Любка…
Днями он, насмешничая, присматривался к Любке с недоумением. Столько они вместе в снах его натворили, столько всякого наговорили и наплакали даже, что ему перед ней как бы слегка неудобно. Хоть бы щипаться позволила, все бы Витьке легче, как с живым существом, от которого ясно чего ждать можно, но Любка такой павой ходила, что Витька не представлял, как к ней подобраться и чем ее взять.
От недосыпаний и недоумения стал он худеть. Даже блажь всякая в голову лезла: а может, думал, подвиг какой совершить? Потом нашел он все же выход и стал Любкиных кавалеров отваживать. А они к ней нахаживали, заниматься чтобы совместно. В комнатке сидят: Любка, ноги поджав, – на кровати, кавалер на стуле. Разговаривают, смеются, а Витька через забор поглядывает и щурится. Как звякнет за кавалером калитка, а они поздно засиживались, Витька не торопясь выйдет следом, ласково попросит у парня прикурить, пощурится да и предложит дорогу сюда забыть. Парень рыпнется, тут Витька и съездит его по уху. И еще разок. Если кто покрепче попадался, то и Витьке перепадало. Но конец всегда был один: флот – он человеку закалку дает физическую и моральную, известное дело. Иной раз Любка выбегала, ругалась, отбивала у Витьки соперника и сама провожала из переулка. Витька на такое обращение ухмылялся и сдерживал желание отвесить одним разом и Любке. Приходил домой, валился на койку и терзал себя мыслями, представлял, как он над Любкой воду варит, треплет ее уже по закону и праву. «Ла-адно, – думает, – дай до загса добраться, а там я те устрою блошиный цирк». Ну, а днем опять они друг друга всякими словами поливали и насмешки строили. Любка и понимала и понять не могла, чего ему надо. А в Витьке злость и насмешка кипели оттого, что в нем страх сидел: что как вот эта женщина верхом на него сядет? Сядет я ничего он, Витька, против этого не сделает, а даже рад будет.
Старики, и те и другие, все это понимая, тоже вошли в конфликт. «Что дурень ваш к нашей Любке пристает?». «А ваша все хвостом крутит? Не вертела бы. Чего она ему знаки строит? И гости к ней ходют». Ругались больше старухи, старики только горюнились, понимая, что как ни крути колесо, дороги разные, а деготь тот же.
Понемногу Витька стал успокаиваться, перестал на крыше сидеть. Открылось у него другое увлечение.
В переулке, в самой его глубине, жил скользкий один мужичок по фамилии Копцов. Не любили его – чувствовалась в нем какая-то червоточина. Появился он неизвестно откуда, вида был неприятного. Лысенький, с брюшком. В разговоре хитер. Похихикивал. Никогда слова грубого не скажет, не обидит, про жизнь спросит с участием, ребенку конфетку даст. Но дети его не любили, прятались от него, и собаки на него не лаяли, вот что удивительно. Точнее всех определила его старуха Бобкова – серьезная была старуха, тучная, в церковь ходила каждое воскресенье и принародно, стуча палкой, любила бранить космонавтов за то, что погоду портят и богу житья не дают. Старушки вокруг нее собирались по вечерам на бревнышке, говорили про святых, про месяц ясный и про своих детей, а Бобкова всех пушила за грехи. Суровая была бабка, крепкого отлива. Одна она могла Витьку еще подростком поманить пальцем и потрепать за чуб, да по мягкому месту стукнуть клюкой. Любила она Витьку. А Копцова не терпела, величала пауком. А он особо лебезил перед нею. Ходили к нему по сумеркам всякие непутевые бабенки и серьезного вида мужики в сапогах и кепках.
И с этим типом Витька схлестнулся. Копцов стал его к себе зазывать, подмигивать, предлагал от сердечных переживаний излечить, намекая на известное обстоятельство, которое ни для кого в переулке секретом не было, – что Витька от Любки страдает. И впрямь было в нем что-то паучье, в Копцове, умел он человека опутать. Витька из любопытства стал захаживать. Ну, винцо, гитара малиновый звон, да песни странные, карты с картинками, разговоры… Он сразу понял, куда дело клонится, но нет чтоб из кубла этого бежать, стал едва ли не каждый день захаживать. Как-то Копцов, кое с кем перемигнувшись, толкнул его пьяненького, в соседнюю комнату, и там на кровати увидел Витька пухлую накрашенную девицу. Уже и ночевать домой не появлялся. Старый Лоншак стал примечать, что из комода деньги пропадают, пробовал с Витькой говорить, но тот строил невинную физиономию, и старик только кряхтел от огорчения. Был у Копцова по этому поводу даже стишок.
– Живем, – говорит, – Витя, только раз! И жизнь наша – свист да пляс.
Строил Копцов ему намеки на легкую жизнь и большие возможности, но Витька делал вид, что не понимает. В карты играть играл, водочку попивал, но под Копцову дудку плясать не торопился. А потом, проиграв в карты сотни три родительских денег, и вовсе ходить перестал. Отшутился, отбрехался от Копцова и опять стал голубей гонять да шляться ночами по переулкам. Любка тем временем отбыла в стройотряд, и Витьку видения не тревожили. Он только то, что живое, чувствовал, так уж был устроен.
Но было ему все это время маятно и тревожно, ночами не спалось и наваливалась тоска. Глушил он ее по-старому – драками и гулянками. О Любке думал теперь спокойней, без жара, но она вошла в него прочно, и невозможно ему уже было представить себя без нее, как и без синих от пыли улочек, в которых заблудилось детство. В поведении и характере своем ничуть Витька не изменился, но дикость его, поистрепавшись в угарах и пущем у Копцова забалдении, будто вылиняла, сошла на нет. Сам он, умом понимая, чувствовал, что безобразные те ночи у Копцова нужны были, чтоб дойти до края, вываляться в грязи, а потом, грязь очищая, привести себя к знаменателю и на Любке жениться. Такие были у него планы.
И не в том было дело, что – любовь. Если бы кто сказал Витьке, что врезался он в Любку по самые уши, он, пожалуй, расхохотался бы, а то, рассердившись, еще и побил бы. Слова для него не значили ничего абсолютно. Чудилась ему в них какая-то хитрая уловка. Да и не знал он всяких таких слов. В том же, чего ему хотелось, был для него закон, и не от каприза вовсе. Желание для него было как бы движением, естественным, как оборот земли, без всякого понимания, хорошо это или плохо, иначе он и жить не мог.
У совести много ловушек, из них удобнейшая – страдание. Коль страдаю, значит, вроде искупаю вину и уже как бы сам себя наказываю и уже не виноват. Так весь грамотный народ от вымирания и спасается, а Витька страданий и мук совести не знал вовсе. Худел, аппетит терял, сон, даже слабеть стал, но уколов этих злостных, что доводят до умоисступления, он не знал. И не потому, что поступал по совести. Он-то как раз, для нормальных людей, был самый что ни есть бессовестный. Тем удивительнее, что старуха Бобкова, людей насквозь проникающая, о Витьке говорила непонятное, как говорят о блаженных, что его, дескать, Витьку, бог любит. Старуха бога везде и всюду совала, меж тем всякий раз понимала под этим словом разное.
Отгуляв свои законные, Витька устроился на станцию, в багажное отделение грузчиком. По двенадцать часов в ночь через сутки. То есть, и тут потакнул безалаберному и разнузданному своему нраву. Уж лучше он отработает на четыре часика больше, чем всякий дисциплинированный серьезный человек, да чтоб потом сутки можно лежать и пузо чесать. Не любил он всяких расписаний и радовался оттого, что работать надо было по ночам – вроде уж не работа, а забава. Когда и попотеть приходилось, конечно, но это его не пугало. От здорового физического труда и усердных родительских забот он быстро пошел вширь. За Любкой скучал. Сядет на крыльцо, подопрет кулаком подбородок, посмотрит мутно по-над огородами, где качаются желтыми фонарями подсолнухи, подумает: «А что там моя Любка?» Вздохнет, почешется и опять вздохнет. Скуки ради начал он опять похаживать к Копцову, в картишки поигрывать.
Копцов же вился вокруг него, не чуя ног, и был ему страшно рад. То ли впрямь Витька ему глянулся, то ли был у него подлый план сбить парня на плохую дорожку. Подсовывал ему Копцов разных бабенок, но Витьке они не глянулись.
– У-у-у! Вот это зацепила она тебя, – хихикал Копцов, обнимая его за плечи, заглядывая в глаза и масляно жмурясь. – За жабру тебя взяла, а? Да я тебе таких – вагон!
– Не надо мне их! – отмахивался Витька. – Ты лучше, Тимофеич, скажи, бывает у тебя недоумение?
Копцов пучил глаза, закусывал губу, тужился, изображая задумчивость, и кивал: да, мол, Витя, что есть, то есть.
– Вот и у меня, – узил глаза Витька, – что-то будто у меня вынули, Тимофеич.
– Что с нашим братом делают! – всплескивал руками Копцов. – Что делают! Непостижимое! У меня, Витя, тоже любовь была…
Застольные бабы от таких речей басом хохотали, Копцов на них сердился и топал ногой, багровея. На подлость он был горазд, но под хмельком тоже любил поговорить про тонкие вещества до дрожания в голосе и слезы.
Народ у него собирался один к одному, как грибы под той осиной, на которой Каин висел. Приходили с барахлом, уходили врозь и тихо, как бы пьяны ни были. Копцов меж ними мелким бесом вился, но, как видно, не любил, и даже ненавидел тайком. Наверно, потому он Витьку и привечал, что чувствовал в нем бесхитростного человека. Подлости с подлостью тяжело жить, известное дело. Она простоту любит, голубит ее, над ней ставит опыты и перед ней кается. Любил Копцов с Витькой далекие разговоры заводить.
– Вот, – говорит, – Витя, не любят меня тут, брезгуют. А за что, спроси? За то, что я закон преступаю. А людишки эти за заборами что – лучше меня, думаешь? Да они в мыслях, может, во сто крат хуже моего, но боятся до икоты, трусы то есть, а я честен. Я воровским делом ведаю. Я с открытым забралом иду. И наказуем буду. Но в мыслях-то подлости не держу! Она вся наруже! Так кто из нас подлее? Ведь им только волю дай, только лиши их страха, да они такого натворят, такого натворят! Они, может, только и ждут, когда объявится кто-нибудь, кто скажет им, что подлость их отныне будет в закон введена. Они подличать боятся, потому что им нужно, чтобы подлость была в законе. Вот кто страшен-то, а не я! Не дай бог, будет такой закон, – да они всех вокруг переедят, а потом друг из друга кровь выпьют! А меня они ненавидят, потому что завидуют. Сами бы так хотели, да кишка тонка!
– Не понимаю я этого, Тимофеич, – говорит Витька, вспоминая свое, светлеет и уходит глазами.
– Да ты и вправду блажной! – в сердцах восклицал Копцов. – Здоровый, а как ребенок! Баб тебе гоню, не хочешь! Чего ж тебе надо?
– Не знаю, – отвечал Витька. – А если б что сбылось, значит, так тому и быть. Этого и хочется, значит.
– Ду-урак! – кипятился Копцов, ничего не понимая и от непонимания злясь.
Витька скучал и вдруг, ни с того, ни с сего, принимался безобразить. Глаза загорались кошачьим шальным блеском, отлетал стул и флотские клеши писали кренделя под гитару, тяжко грохотали по полу каблуки, шлепали ладони, и тут уж было его не остановить. Если начал, значит, будет содом, – свист, безобразие, оборванные юбки и свороченные набок носы. Копцов в такие минуты на Витьку смотрел с обожанием и со злостью, мял себе ладонью физиономию, хлопал по толстым коленям. Ведь такая силища, не знающая страха, а дураку досталась. Эх, взнуздать бы да плеткой, плеткой! В общем, смотрел, как купец на чужой товар.
Уже крались ленивые дни осени, наполненные суховатым шуршанием желтеющей листвы, вялой от усталости долгого лета, ежились по утрам лужи, и у собак стала видна душа, отлетая клубочками белого пара в выстуженную утренниками стынь обветшалых небес.
Город как-то разом запарил, взбодрился, гулко покрикивая гудками машин, забегал быстрее и крепче спал, рано гася окна. Витька полюбил ходить на речушку, что виляла в деревянной путанице окраин, унося людской срам. Речушка была заросшая, захламленная сором, иной раз пованивала, но за себя боролась, очищались и в середине была светла. Под ивами, у воды, было укромно и тихо. Рядом стояли блочные пятиэтажные дома, потихоньку проникающие на окраины, мостились в геометрическом порядке скамейки и беседки. Недремлющий глаз общественного мнения выживал отсюда слободских алкашей, привыкших к тому, что каждая скамейка родная. Трепыхалось на балконах белье, какое любая старуха в деревянных домах сочла бы за позор чужим людям показать, ребятишки мяч гоняли, в общем, освоился, обжился народ.
Витька, минуя асфальт, переулками пробирался на речку и часами сидел где-нибудь на бережку, строгая ножиком палку, лежал на опавших листьях, подперев голову и глядя, как полощет длинные пряди водяной травы, а то воображал, что если, мол, построить дамбу, запрудить речку да пустить карасей, глядишь, – и рыбалка была бы. В грязной низине текла своя жизнь. Посиживали под кустами компании, бродили старушки с палками и мешками, собирали посуду, добирая копейки к пенсии, бегали, роясь в мусоре, тощие собачонки. Чистый народ из больших домов речкой брезговал и детей на нее не пускал: дескать, там сплошь зараза. Что характерно, из деревянных домов тоже ребятишек на речку не пускали: говорили, что там водяной живет. И рядом была людная, шумная улица, по которой вечерами катили набитые троллейбусы, перевозя из окраинных общежитий в центр, на танцы, расфуфыренных, толстоногих и курносых горожанок в первом поколении, двинувшихся завоевывать себе жизнь и инженеров в мужья.
А Витька на речке время убивал. Жил он это время вяло. Опять чуть в загул не ушел, но тут, к уборке огородов, вернулась Любка. Приехала со стройки похудевшая, закопченная от загара, еще больше глазастая и какая-то чужая, не та, в которую камешками кидать можно. Да не одна приехала, а с типом. Тип ей чемодан во двор внес и до сумерек сидел в доме.
Тип ушел по темноте, и Витька провожал его до самой остановки, присматривался, но не пристал, оробел чего-то. Не то чтобы испугался. Тип был здоровый, правда, чуть потоньше Витьки в кости, но ростом повыше и с белозубой, ничего не боящейся улыбочкой. Витьку как холодной водой облило, что Любка совсем на себя не похожая сделалась. То была прямо родная, а тут что-то в ней появилось новое. И он, Витька, в ухорезе, которого Любка с собой привела, старался эту перемену отгадать, подозревая, конечно, худшее.
Пришел он домой и стал этой переменой мучаться. То порывался идти к Сорокиным, требовать объяснений, но не шел, только яростно чесался и морщил лоб. На следующее утро увидел Любку во дворе, та обруч крутила, развивала, значит, себе талию. Любка тоже увидела его и даже обрадовалась, но обрадовалась, – и Витька сразу это понял, – как человек, все забывший и прошлое сводящий к нестоящему пустяку, оттого что настоящее ему все застит. Поговорили про то, про се. Витька Любку глазами ест, а она ему улыбается, будто насмешку строит.
К обеду приехал на «Жигулях» тот тип, и они с Любкой укатили.
Так и пошло изо дня в день. Придет Любка с занятий, нарядится и упорхнет. И поздно, к полуночи, воровато прожурчит в переулке мотор. Витька выглянет – а они сидят в машине, и чего делают – не понять. Потом хлопнет дверца, рассыплется Любкин смех, и теперь уже победно, не таясь, взревет «Жигуль» и укатит вперевалку по ухабам.
Витька совсем с катушек сошел. Вдруг ворвется к отцу и давай его трясти:
– Батя, давай машину купим!
– Денег нету, – бурчит старик. – Скорый какой – машину!
Витька дернет себя за волосы, выскочит, опять просунется в дверь:
– Давай тогда, – кричит, – мотоцикл купим!
И таращится, будто конфетку ждет. Он все забросил, на работу перестал ходить, днями пропадал у Копцова и все что-то думал. Сидит и шевелит губами, глядя в одну точку и морща лоб. Толкнут его – начинает озираться. В эти дни и Копцов сошел с рельсов – опух, позеленел, и нос у него как будто начал набок заворачиваться. Гулял с ними еще один мужичонка по фамилии Обабков, по-уличному Обабок. У него была манера – считать. Считал все подряд. Сидит, сидит, вдруг поднимет удивленные глаза и говорит: «Ой, братцы, сколько ж я хороших вещей в дерьмо перевел!» И вслух начинает считать: сапог сносил столько-то, пиджаков и рубах столько-то, папирос выкурил столько-то, пищи уничтожил столько-то. Подсчитает и начинает все в рубли переводить, причем считал, собака, без бумажки. Подведет общий итог, изумится цифре и начинает считать, что́ на такую сумму купить можно. Витька, воодушевляясь невиданной обабковской способностью, просил, чтоб он ему посчитал, сколько раз откладывать нужно, чтоб машину купить. Обабок серьезно морщился в потолок, определял, что если по сотне в месяц, то семь лет, а если меньше, то десять лет. Копцов, потерянный и пугливый оттого, что накануне черта видел, тоже задал неожиданный вопрос – сколько ему до Архангельска пешком идти? Обабок и ему подсчитал. Так днями напролет сидели они при зашторенных окнах, бледные и серьезные, считали всякую всячину и разговаривали шепотом.
На четвертый день пришла за Витькой мать и с плачем стала звать домой. Он не противился, пошел, сразу же лег и как в бреду лежал до темноты, окруженный странными видениями, а потом тихонечко вышел.
Вышел и сел на крылечко как раз к тому моменту, когда Любка задернула шторки и погасила свет. Окошко у нее осталось открытым – для свежего воздуха, – и Витька все смотрел на это окошко, а его мягко покачивало, и иногда казалось, что кто-то в ухо кричит. Этот кто-то подходил незаметно и вдруг в самое ухо: «У-у-у!» Витьку бил озноб, но он все смотрел на окошко, разинув рот. Час сидел, второй, потом тихонько поднялся, перелез через штакетник и по палисаднику, не хрустнув, подошел. Отодвинул шторку. Пахнуло сонным дыханием, тихой сладостью. Любка спала, закинув руки за голову, и проскользнувший в окошко лунный луч осветил матовое плечо, коснулся щеки, на которой лежала светлая прядь, прошелся по сверкнувшей из полуоткрытых губ влажной эмалевой полосе.
Витька перекинул ногу через низенький подоконник, тихонько подошел к кровати и присел на корточки. Руки у него дрожали, и, не зная, куда их деть, он спрятал их за спину. Любка во сне шмыгнула носом. Витька от умиления всхлипнул, поймал ее руку с края постели и прижал к щеке. Любка ворохнулась, открыла глаза и, узнав Витьку, дернулась, вырвала руку.
– Люба, пропаду я без тебя… – сказал Витька.
Любка ловила ртом воздух, комкая у горла одеяло. Одеяло потянулось, и из-под него двумя зверьками выпрыгнули маленькие Любкины ноги. Витька, не выдержав, всхлипнул и ткнулся лицом в Любкин скользкий под простыней живот, что-то забормотал неразборчиво. Любка, отпихивая его ладонями, испуганно заговорила подсекающимся шепотом:
– Уходи сейчас же! Уходи, слышишь? С ума сошел, что ли?
– Люб…
– Убирайся!
Витька, не слушая, обхватил Любку, и тут она закричала. Отбивалась от него руками, ногами, кусалась, вертела головой. Вдруг зажегся свет, Витька вскочил и заметался, а Сорокин что есть силы охаживал его кочергой. Старик был яростен, хрипел, брызгал слюной. Любка визжала. Витька осатанел от боли, схватил стул и грохнул старика по голове. Старик свалился, а Витька напролом бросился из комнаты. Дверь была на крючке, он вышиб ее плечом, вылетел, сломал перильца, прыгнул через хрустнувший забор на улицу, побежал, потом остановился, зачем-то пошел назад, хлопнул себя по лбу и опять побежал.
На улице было лунно, ухабистая дорога светилась. Увидев, что кто-то идет навстречу, Витька пошел шагом. Шел пацан лет пяти, в коротких штанах с лямками. Увидев Витьку, сошел на обочину. Витька прошел мимо, мельком глянув, побежал опять, но тут остановился, заскрежетал зубами, присел и стал мочить в луже зашибленную кочергой руку.
– Дя-а-адь!
Витька оглянулся. Пацан стоял посреди дороги и смотрел на него.
– Ну, чего тебе?
Пацан молчал.
Витька плеснул воды на горячий лоб и, баюкая руку, пошел прочь.
– Дя-я-я-адь! – закричал пацан отчаянно и заплакал.
Витька оглянулся, всматриваясь в темную фигурку, крикнул сердито:
– Ну чего тебе надо?
Пацан молчал, потом заревел. Витька скрежеща зубами, повернулся, пошел к нему. Присел на корточки. Пацан засучил ногами и опять ударился в рев.
– Тьфу ты, пропасть! – выругался Витька и повернулся, чтобы уйти.
– Дя-а-адь! – опять заблажил пацан.
– Да чего ты ревешь? – Витька опять присел на корточки. – Страшно, что ли?
– Ага… – ревел пацан, кулачишком давя глаза. – Соба-а-а-ки…
– «Соба-а-ки!» – передразнил Витька. – А мамка твоя где? Где живешь-то?
– Не знаю, – пацан задыхался от всхлипов.
– Откуда идешь-то?
– Я с автобуса слез…
– С мамкой ехал?
– С ма-амкой…
– Ах ты, мелкота… – Витька подумал, сидя, потом встал, взял пацана за руку, спросил: – Тебя как зовут? Генкой, что ли?
– Лешкой…
– Ну, пойдем тогда, Леха.
Пошел назад, к улице. Пацан семенил рядом, спотыкаясь. У Витьки горячка прошла, только тупо и сонно болела голова. У Сорокиных все окна горели, стояла медицинская машина, слышались голоса.
– Знаешь что, Леха, – сказал Витька, – мы дальше, пожалуй, не пойдем. На скамеечке здесь посидим, а мамку твою потом найдут.
Отошли через переулок, присели на бревнышках. Пацан все дрожал – ночь сентябрьская нежаркая.
– Ты, Леха, залазь ко мне на колени, а то тебя что-то колотит, я вижу.
Леха быстренько залез, свернулся клубком, Витька укрыл его полами пиджака, стал тихонько укачивать. Пацан пригрелся, засопел, высунул голову, покрутил ею.
– Дядь, глянь, – милиция приехала!
– Ага, вижу, – сказал Витька.
Пацан примолк, потом опять засопел, закрутился. Витька его легонько шлепнул:
– А ну не крутись, давай спи лучше, руку мне бередишь, рука у меня раненая.
Пацан притих, задышал Витьке в живот. Витька улыбнулся и, нагнувшись, понюхал вихрастую светлую макушку. Пахло теплом, цыплячьим пухом, пацанячьей беззаботностью.
– Цыпленки мы с тобой, Леха, – сказал Витька. – Мамку потеряли…
Ночь была звездная и бестолковая. У Сорокиных ходили, хлопали дверьми, разговаривали. А когда стало светать, заметили Витьку на бревнышках. Так, со спящим пацаном на коленях, его и взяли.







