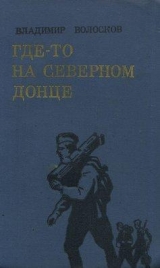
Текст книги "Где-то на Северном Донце"
Автор книги: Владимир Волосков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
XII
Ночью Лепешев стоит в блиндаже у амбразуры и всматривается в расположение противника. Туго перебинтованная рука болит, но терпимо. Пуля кость не задела, только продырявила плечевую мышцу.
Внизу, в темноте, сидит тот самый младший лейтенант-радиотехник, что прошлой ночью пригонял плоты за лепешевским взводом. Сегодня ему вновь поручили это дело. Сейчас радиотехник нервно ерзает на плащ-палатке, шумно вздыхает и ждет, когда лейтенант даст наконец приказ на эвакуацию.
Лепешев же не торопится. Он ждет повторения ночной атаки. Немцы не спят. В развалинах слышны приглушенные голоса, бряцание оружия. Очевидно, из садов подошло подкрепление.
Первую атаку немцы предприняли в полночь, как раз тогда, когда за лепешевским взводом вновь пригнали плоты. Готовясь покинуть позицию, бойцы ослабили наблюдение за противником, и это позволило фашистским солдатам подползти на дистанцию гранатного броска. Если бы не бронебойщик Степанов, случайно нажавший на спусковой крючок автомата, неизвестно, чем бы все это кончилось.
Одиночный выстрел, внезапно ухнувший в конюшне, заставил красноармейцев инстинктивно пригнуться, а нервничавших немцев раньше времени открыть огонь. Сверкнули в ночной темени вспышки выстрелов, разорвали тишину взрывы гранат. И тут же грянуло нарастающее «хо-о-ох!».
* * *
Вражескую вылазку все же удалось отбить. Выручили фланговые пулеметы, еще не снятые с огневых точек. А потом, когда прошло первое замешательство, открыли огонь и остальные.
Сам Лепешев стрелял из пистолета и ранил в плечо и ногу унтер-офицера, неожиданно прыгнувшего из темноты к самой амбразуре блиндажа. Потом, когда противник отхлынул, этого унтера затащили в конюшню и заботливо перевязали. Лежит сейчас увязанный бинтами немец на плоту и ждет отправки в разведотдел дивизии.
– Может, пора, товарищ лейтенант? – подает голос радиотехник. – Скоро светать начнет. Ведь тогда…
– Что тогда? – злым свистящим шепотом спрашивает Лепешев.
– Тогда нам конец. Перебьют всех посреди реки, как утят…
Лепешев не отвечает. Он и сам видит, что затянутое облаками небо начинает сереть, но он зол и расстроен, и робкое напоминание младшего лейтенанта, который вообще-то нрав, раздражает его.
Неожиданная ночная вылазка гитлеровцев дорого обошлась взводу. Убит Степанов, убит курский соловей Алеша Крыночкин. Ранены Хасанов и Максимов, лучшие пулеметчики взвода. Даже Глинин на этот раз не уберегся. Взрывом гранаты исковеркало у помкомвзвода пулемет, осколком, срезало половину уха. Хорошо хоть этим отделался. Могло быть хуже. И на этот раз обошла смерть несчастного, угрюмого бирюка.
– Нельзя больше ждать, – решительнее говорит младший лейтенант. – Скоро три. Всему есть предел.
– Я не хуже вас знаю, когда бывает предел! – злится Лепешев. Сейчас ему ничуть не жаль перепуганного пожилого человека, нервно ерзающего в черной яме блиндажа.
– Но бойцы, приплывшие со мной, могут вернуться на тот берег, – плачуще говорит радиотехник. – Они знают, что должны вернуться в темноте…
– Вернуться? – Лепешев делает шаг в черноту, вытянутой здоровой рукой нащупывает по-мальчишески худое плечо радиотехника. – Вот что, товарищ младший лейтенант… – Голос его звучит громче, Лепешев уже не может сдерживаться. – Они не вернутся без нас. Вы сейчас пойдете к реке с этим автоматом, – он снимает руку с плеча притихшего радиотехника, шарит по лежанке, подает трофейный автомат, отобранный у унтер-офицера. – Пойдете и будете нас ждать. И если хоть один человек попробует удрать отсюда – вы пристрелите его, как предателя. Правом старшего командира на этом рубеже приказываю сделать это!
– Но… как же. Как же…
– Никаких «но»! Выполняйте приказ. И не вздумайте струсить или запаниковать. Если удерете – я найду вас даже на том свете и рассчитаюсь по законам военного времени. Ясно?
– Ясно. Есть выполнять приказ!
* * *
Оставшись один, Лепешев опять смотрит в амбразуру. Небо в самом деле начинает сереть. До чего же коротки эти майские ночи! А ведь не майские – июньские. Лепешев только сейчас сознает, что май 1942 года закончился и с полуночи начался июнь. Что-то он готовит самому Лепешеву и всей армии?
Шум и передвижения в развалинах усиливаются. Лейтенант не сомневается: немцы готовятся к повторению атаки. Они обозлены большими потерями и упорством обороняющихся. Конечно, они понимают, что темнота в данном, частном случае – их союзник. Гитлеровцам ничуть не улыбается перспектива атаковать днем, под убийственным прицельным огнем. И Лепешев знает – они повторят атаку. Знает потому, что сам точно так же поступил бы на их месте.
Лейтенант ждет и беспокоится. Беспокоится не от предчувствия близкого боя, а из-за боязни, что противник выберет для удара другое место. Вдруг попробует атаковать еще раз возле реки. А там почти никого нет. Справа – сержант с двумя автоматчиками, слева – тоже трое.
В блиндаж по-кошачьи тихо входит Глинин. Он поднимается на приступку и встает рядом с лейтенантом у амбразуры. В тусклой полоске света, падающей из амбразуры, Лепешеву хорошо видно его обмотанную бинтом голову.
– Все на огневых? – спрашивает лейтенант.
– Да. – Глинин вздыхает, зачем-то шарит в карманах и неожиданно говорит: – Атаку отобьем – взвод надо переправлять. Другой возможности уже не будет. Немцы не успокоятся, повторят атаку. Им надо выбить нас до рассвета.
– Я тоже так думаю, – соглашается Лепешев.
– Ну, тогда полная ясность. – Глинин ненадолго замолкает, затем хмуро повторяет: – Тогда полная ясность. Отобьем атаку – давайте к реке. Я вас прикрою. Оставьте мне ручной пулемет, несколько заряженных дисков и с десяток гранат.
– Почему именно вы? – вырывается у Лепешева.
– Мне кажется, я лучше любого другого справлюсь с этим делом. Притом я отлично плаваю и ныряю. Долго могу быть под водой.
– Но как же… Как же так, почему вы? Может остаться кто-то другой… – Лепешев бормочет эти слова, хотя сам знает, что надежнее Глинина переправу взвода никто не прикроет.
– Останусь я! – как о чем-то давно решенном говорит Глинин.
Лепешев сжимает здоровой рукой мосластые, грубые пальцы его.
– Послушайте, Иван Иванович… Простите… Василий Степанович… – Волнение, какого Лепешев давно не испытывал, мешает ему говорить. – Не сердитесь, но я сегодня случайно слышал ваш разговор с генералом Федотовым. Я шел к Каллимуллину и…
– Ну и что? – В голосе Глинина ни досады, ни обычной официальности.
– Так вот, Василий Степанович… Я не знаю, что там у вас когда-то произошло, не знаю, почему вы носите чужое имя… Мне на это наплевать! Я знаю главное: вы – наш советский человек, на все сто процентов наш, без всяких скидок. Я вам верю!
– Спасибо, лейтенант. Я знаю, что вы хорошо обо мне думаете.
– И я считаю, Василий Степанович… – Лепешев продолжает тискать пальцы Глинина, – вам надо переправиться. Вы должны обязательно выйти живым из этой войны, вы обязаны доказать… я не знаю кому и что… Но люди должны знать, какой вы есть! Не подумайте, что я перестраховываюсь, боюсь ослушаться полковника Савеленко. Для вас, для самого вас сейчас это крайне необходимо!
– При чем тут Савеленко… – досадливо бурчит Глинин. – Он по-своему прав. Я немного погорячился… Не надо было. Полковник и сам понял, что отдал ошибочный приказ. И вообще я ему не завидую… Ему сейчас ой как не сладко.
– Да, не сладко, – соглашается Лепешев, вспомнив, с какой грустью прощался с ним полковник у реки, как ссутулился, шагнув на плот.
– Он неплохой человек, наш комдив. С заскоками, но неплохой, – продолжает Глинин. – Только… только выбрал он себе не ту профессию. Не по призванию. Быть кадровым командиром – тоже нужно иметь призвание. Иначе…
– Вроде бы неплохой, – соглашается Лепешев. – Но… Но тем не менее я обязан завтра доставить вас в штаб дивизии.
– Знаю. – Глинин вздыхает. – Ничего. Я сам точно так же поступил бы на его месте. Ничего… Не такое со мной бывало.
– Но все же…
– Сколько вам лет? – неожиданно теплым голосом спрашивает Глинин.
– Мне? – Лепешев теряется. – Мне… двадцать три.
– А мне сорок шесть… – Лепешеву кажется, что Глинин грустно и задумчиво улыбается в темноте. – Я как раз вдвое старше тебя, Коля… – Это неожиданное «ты» не вызывает в Лепешеве протеста. – И я многое пережил. Четыре войны не в счет.
– Почему четыре?
– Испанскую считаю. – Глинин долго молчит, что-то вспоминая и обдумывая, потом предлагает: – Если тебе это интересно, я могу рассказать об одном человеке… Тебе первому, может быть, последнему. Мало ли что может случиться…
* * *
Лепешев понимает, о каком человеке хочет рассказать Глинин, и еще сильнее стискивает его пальцы.
– Я не считаю это обязательным. Не считаю, Василий Степанович. Но если вы находите нужным, если станет легче…
– Пожалуй. Хочу, чтобы стало легче. – Глинин опять ненадолго замолкает, потом незнакомым, подобревшим голосом рассказывает: – Жил один человек. Воевал в первую мировую прапорщиком, затем воевал в гражданскую командиром полка, комиссаром бригады… В общем, кадровый военный. После победы Советской власти этот военный учился в академиях, командовал бригадой, дивизией и даже корпусом. Занимал еще ряд важных армейских должностей. Когда началась гражданская война в Испании, он добровольно поехал туда защищать свободу, бороться с фашизмом. А потом… – Глинин осекается.
– Что потом?
– Потом была финская кампания…
– Ну и что?
Глинин опять долго молчит, размышляя, очевидно, о чем-то трудном и важном.
Лепешеву начинает казаться, что помкомвзвода уже жалеет о своей откровенности, как Глинин вдруг говорит без всякой связи с ранее сказанным:
– Плохо, когда человеку все легко дается. Оп расхолаживается, психологически разоружается, теряет чувство самоконтроля, лишается самого главного, необходимого всякому настоящему человеку, – способности знать себе реальную цену. Во всем. И в деле, и в обыденной жизни, даже в дружбе и любви… – Глинин глухо кашляет, щупает повязку, длинные фразы даются ему трудно. – Мне слишком легко все давалось. Повышение следовало за повышением, среди сослуживцев я считался порядочным человеком, добрым товарищем и способным командиром… В конце концов я сам в это поверил. Без оглядки…
Смутное беспокойство охватывает Лепешева, он сильнее стискивает пальцы помкомвзвода.
– Так вот… Во время одной из операций дивизия, которой я командовал, действовала совместно с другими соединениями. Взаимодействие в должной степени отработано не было, условия наступления были тяжелыми – в итоге поставленных задач мы не решили, а соседи понесли потери. И тут в горячке командование обвинило меня и мой штаб в провале операции, все напрасные жертвы отнесло на мой счет. Ты знаешь, как это бывает на фронте.
– Представляю, – Лепешеву вспоминается, как ему самому даже в мелких взводных делах случалось пороть горячку.
– Позже, когда остыли, выяснилось, что ни я, ни мой штаб не виновны, что ошибки и медлительность допустили другие командиры, а в тот момент… Я чувствовал, что сделал все возможное, и потому очень обиделся. Не захотел понять обстановку, не захотел понять состояние других, не захотел подождать. Нагрубил командованию, оскорбил некоторых товарищей. Знаешь, конечно, что из этого получается…
– Знаю.
Глинин тяжело вздыхает, заглядывает в амбразуру, и Лепешеву почему-то кажется, что помкомвзвода прячет от него лицо.
– Разгорелся конфликт. Меня откомандировали из действующей армии в наркомат, а там кому-то пришла в голову идея назначить меня начальником тыла одного из военных округов. Как я ни протестовал – приказ есть приказ. Пришлось ехать…
– И справились?
– Куда там… – Глинин безнадежно машет свободной рукой. – Служба тыла – служба сложная, нелегкая служба. Без специальной подготовки в ней долго не накомандуешь. Так и случилось со мной. Запутался, нарубал дров…
– Сияли?
– Сам подал рапорт. Уволили в запас. Но этому предшествовало еще кое-что…
– Что именно? – спрашивает Лепешев, чувствуя, что Глинин приблизился к главному.
– Ты любил когда-нибудь? По-настоящему.
Вопрос настолько неожидан, что Лепешев отпускает пальцы собеседника. Помявшись, лейтенант все-таки признается:
– Иллюзия – была. Любви – не было.
– А ко мне, к несчастью, пришло настоящее, – опять вздыхает Глинин. Ему больно говорить – Лепешев остро чувствует это. – Она была врачом в моей дивизии и не ответила взаимностью. Сам понимаешь, как неприятно сорокатрехлетнему холостяку вдруг открыть, что мужскую привлекательность не заменят ни высокое воинское звание, ни высокая должность. О таком раньше не думалось… за ненадобностью. Она напропалую флиртовала с молодыми лейтенантами, со мной же держалась строго официально, а я не понимал, что это игра, что меня, как это говорится в просторечье… элементарно обрабатывают. Расчетливо, цинично. Под пожилого влюбленного карася подводят надежный сачок… Это я осознал позже, а тогда… Проклятое, дьявольское чувство. Стыдно вспомнить, но она мне снилась, я готов был простить ей все прошлые похождения. И простил, когда она демобилизовалась и неожиданно приехала ко мне. Это было последним шагом к окончательному падению.
– Какому падению?
– Человеческому. На гражданке, учитывая последнюю воинскую должность, мне оказали доверие – назначили заведующим областным торговым отделом. Она не позволила мне отказаться. Я не сумел… – Голос Глинина становится еще глуше от трудно сдерживаемой ненависти. – Проклятое, низкое чувство. Ведь умом я все понимал, а все-таки почему-то поверил ее уверениям в любви. Знал – взаимности нет и не было, а верил. Она внушила мне иллюзию счастья, внушила, что я – талантливый, чистый и умный – просто-напросто жертва людских интриг, что попросту не умею жить… Да, было так, Коля. Умом верить в одни принципы, а жить по иным, по ее принципам… Проклятое рабское чувство. Ты молодой, чистый, ты не знаешь такого чувства!
– Не знаю, – честно признается Лепешев, наполняясь жалостью к собеседнику. Он старается разглядеть выражение лица Глинина. Но в блиндаже все еще очень темно, хотя в узкую щель амбразуры пробивается мерклая полоска света.
– И не дай бог узнать. Только падшего, разоружившегося человека может одолеть такое чувство. Я всегда считал себя волевым, честным, а тут… Таскался с ней по портным и вечеринкам. На столе и дома не переводились вина… Все кончилось так, как и должно было кончиться. Когда иссякли холостяцкие сбережения, она от моего имени назанимала у товарищей. Мне пришлось покрыть долг чести казенными. Рассчитывал вернуть, но в таких случаях всегда бывает ревизия…
У Лепешева вырывается наивное:
– Так какого черта вы ее не гнали от себя?!
– Милый Коля, – горько усмехается Глинин. – Если б это было сейчас – я бы не задумываясь пристрелил ее. Таким самкам, расчетливо торгующим своим телом, нет места на нашей земле! – В голосе его звучит металл, жестокость.
– Пожалуй, – соглашается Лепешев. После всего только что услышанного ему не по себе, и о предстоящей немецкой атаке он уже думает без прежней тревоги. Сложное чувство недоумения терзает его. Услышанное заставляет подумать, что, несмотря на свои двадцать три года, он, в сущности, не понимает многого, происходящего в жизни.
– Вы все-таки убили ее! – вдруг убежденно говорит он.
Сказанное заставляет Глинина вздрогнуть. Он опять что-то ищет в карманах, склонив на грудь забинтованную голову. Потом, очевидно, решает быть откровенным до конца.
– Нет, к сожалению. Судить меня не стали – учли ходатайство соратников по гражданской войне и внесенные ими деньги. Из партии же исключили… – Голос Глинина становится еще глуше. – Когда я возвратился из обкома без партбилета, то застал у нее гостя – прилизанного мордастого верзилу. Оба они были пьяны, вещи мои собраны в чемодан…
– Какая сволочь! – вырывается у Лепешева.
– Я плохо помню дальнейшее. Они хотели силой вытолкать меня из квартиры. И тут произошел взрыв. Он должен был когда-то произойти. Все, скопившееся во мне, искало выхода. Не знаю, откуда взялись силы, не помню, что попало под руку, но каждый из них получил все, что заслуживал…
Лепешев зябко дергает плечами.
– Это был паскудный финал падения. Я взял чемодан и пошел вон. Сел в трамвай, поехал на вокзал. В конце концов добрался до одного из моих вернейших старых товарищей по гражданской войне. Жил у него несколько дней… Я обманул его, заявил, что меня оклеветали, что мне угрожает опасность, что мне надо хоть на время исчезнуть и еще черт-те что… Не помню. Он был отличным, честным человеком. Когда-то я спас ему жизнь… Он взял грех на душу, он верил в мою честность и порядочность… – Голос Глинина снижается до шепота. – Он работал в паспортном столе и не захотел оставить меня в беде. Вот так и воскрес мирно почивший в те дни одинокий бухгалтер Глинин.
Лепешев не может этого понять. Он не выдерживает:
– Боже мой? Зачем вы это сделали? Ведь не убили же вы их!
– Да, не убил. Но об этом я узнал много позже. А в те дни… Ничего не помню. Наверно, я тогда немножко помешался от всего… Не то меня сжигал стыд при одной мысли, что, попав под суд, я опозорю не только себя, свою фамилию, свое прошлое, но и своих боевых товарищей, не то терзало что-то похожее… Я стал работать, работать честно, но чувство вины не покидало и сейчас не покидает меня ни на минуту.
Он глухо и надсадно кашляет.
– Простыли?
– Есть немного.
Поколебавшись, Лепешев все же решается спросить собеседника:
– Вы могли не быть на фронте, почему вы все-таки здесь?
– А где я должен быть?.. – хмуро удивляется Глинин – воспоминания вернули ему обычную угрюмость. – Иного места себе не знаю. Ничего не хочу в жизни, кроме победы над фашистами. Помкомвзвода – не комдив, но все же в бою и он кое-что значит. Разве не верно, Коля?
– Верно, – соглашается Лепешев и вспоминает, какое лицо бывает у Глинина, когда он ведет огонь по гитлеровцам.
Затаенное движение в развалинах усиливается. Лепешев и Глинин настораживаются, долго смотрят туда, но мутная дымка предрассветного тумана, тянущегося с реки, скрывает перемещения противника.
– Скоро начнут, – говорит Глинин.
– Пожалуй, – подтверждает Лепешев и спрашивает: – Почему вы отказались от помощи генерала Федотова?
– Еще чего! – Глинин даже содрогается. – Хватит и того, что так подвел одного из моих друзей. Повторной ошибки не допущу. Я просил Федотова молчать о моей прежней службе.
– Это почему же?
– Наивный вопрос! – Глинин явно сердится. – Закон есть закон. После того, что я рассказал здесь, любой из вас, на правах командира, обязан тотчас арестовать меня. И это будет правильно. Федотов этого не сделал, не сделаешь и ты… Я понимаю – человечность. А ну-ка, доложи кто-нибудь из вас обо мне какому-нибудь сухарю! Если у него казенная душа, если у него на первом плане буква? Почему не арестовали, порядка не знаете? Укрывательством занимаетесь, личные отношения выше закона ставите! И готово дело. И будет все рассматриваться по законам военного времени. При мысли, что из-за меня может пострадать еще кто-то из друзей – все внутри переворачивается.
– А если я все-таки буду ходатайствовать перед командованием?
– Нет, ты не сделаешь этого. – В голосе Глинина непоколебимая уверенность.
– Это почему же?
– Потому что я так хочу. Вчера Федотов сообщил, что друга моего в живых уже нет. Погиб при выполнении особого задания за линией фронта.
– И что из того?
– А то, что я пообещал Федотову тотчас, как переправлюсь, явиться куда следует.
– Вы так решили?
– Да. Это окончательное решение. Иного не может быть. Свою судьбу предпочитаю решать сам.
– В таком случае, оставить вас не могу. Переправляйтесь вместе со всеми, – решает Лепешев. – Мало ли что может случиться. Оказаться на том берегу живым и здоровым – нет для вас, Василий Степанович, теперь ничего более важного.
– Нет, ты оставишь меня! – Глинин словно клещами сжимает локоть лейтенанта. – Сам подумай – у меня нет никого, ни семьи, ни родных – одни товарищи. Оставишь! Мне это надо! Обязательно надо! Мне необходимо это последнее испытание. Ты понимаешь, Коля? Необходимо! – В голосе его мольба, решимость и что-то такое – сокровенное и долгожданное, – что Лепешев вдруг ясно сознает: да, необходимо.
– Ну, коль так.
Громкий треск пулемета разрывает тишину. Глинин пригибается к амбразуре. В мутной предрассветной дымке мелькают расплывчатые силуэты бегущих немецких солдат.
XIII
Лепешев покидает конюшню последним. Здесь остается лишь Глинин. Он устанавливает у пролома в стене ручной пулемет и прощально машет своему командиру рукой.
– Давай, Коля. Ни пуха ни пера! Поторапливайся, скоро взойдет солнышко.
– Смотрите, Василий Степанович, не задерживайтесь. Как только подойдем к берегу, так в реку – и к нам! – еще раз наказывает на прощание Лепешев, ему хочется подойти, расцеловать ставшего снова сумрачным, деловитым старого солдата, но непонятная суеверная боязнь мешает ему сделать это. Попрощаться – как бы приговорить боевого товарища к смерти. – Так смотрите! – повторяет лейтенант.
– Ну-ну…
И в этом «ну-ну» звучит такое, что у Лепешева сжимается сердце. Он делает шаг к Глинину, но тот смотрит в сторону противника, и на лице его знакомое зловеще-каменное выражение. Он уже забыл и о командире взвода, и об ушедших к реке пулеметчиках, он весь внимание и напряженность.
Лепешев машет рукой и бегом спускается по мелкому ходу сообщения вниз.
* * *
Плот движется медленно. Лепешев нервничает, нетерпеливо поглядывает на орудующих длинными шестами бойцов, прислушивается. На высокой береговой круче, где виднеется зазубренная стена, пока тихо.
– Лешачья посудина! – сердито бурчит Лепешев. – На гробу и то быстрей переплывешь…
– И так быстрее, чем обычно, идем! – откликается младший лейтенант-радиотехник. – Ребята работают на совесть.
Лепешев и сам видит, что бойцы стараются. Они вспотели, устали и тоже поглядывают на крутой правый берег, где остался Глинин. В этих поглядываниях озабоченность, хмурость. Наступающее утро тем временем быстро набирает силу. Становится совсем светло. На востоке розовеет небо, наливаются багряным румянцем мешковатые облака. Лепешев сердито глядит на разгорающееся пламя зари и беспокойно топчется на зыбком настиле плота. Чем ярче разгорается это пламя, тем меньше шансов остается у бойца Глинина, чтобы вернуться живым и невредимым в свой взвод.
Последняя немецкая атака продолжалась дольше, нежели предполагали. Вслед за первой гитлеровцы предприняли еще несколько отчаянных попыток прорваться в здание конюшни. Пока все эти попытки были отбиты массированным огнем, прошло более часа. Сейчас этот потерянный час обернулся предательским росплеском занимающейся зари.
* * *
Сырая утренняя тишина разрывается длинной пулеметной очередью. Стреляют там, на высоком правом берегу. Это Глинин. Лепешев сразу узнает суховатый голос ручного пулемета. Бойцы с удвоенной силой налегают на шесты. Но массивный плот лишь чуть ускоряет свой бег по сонной глади реки. Лепешев озирается на низкий левый берег. Он уже близок.
«Кончай, Степаныч! – мысленно командует лейтенант. – Тут уже мелко. Ни черта фрицы нам не сделают… Плыви!» Но Глинин на обрыве не появляется. Его «дегтярь» гремит за зазубренной стеной, и в ответ несется громкий стук немецких винтовок и пулеметов. Лепешев кивает младшему лейтенанту. Тот вскидывает ракетницу, стреляет. Бледной розовой звездой вспыхивает и рассыпается над обрывом красная ракета. Это сигнал Глинину, чтобы отступал.
* * *
Наконец плоты тыкаются в очищенную от камыша илистую кромку левого берега. Лепешев прыгает на землю первым. Будто выросший из травы, появляется перед ним высокий тучный майор, что позапрошлой ночью инструктировал лейтенанта о переправе.
– С удачным возвращением! – трясет он Лепешеву здоровую правую руку. – Давайте за мной.
Вслед за майором появляются красноармейцы-саперы. Едва успевают переправившиеся бойцы сойти на берег, как они прыгают на плоты и гонят их куда-то в сторону, в узкую заводь, прикрытую стеной камыша.
– За мной! – повторяет майор мягко. Он, очевидно, из резервистов, так как в голосе его еще нет военной властности.
– Нам надо прикрыть огнем бойца… – начинает объяснять Лепешев.
– За мной! – сердится майор. – Вам подготовлен пулеметный окоп. – И большой, грузный, неожиданно резво бежит от берега, взмахивая полной рукой.
Лепешев следует за ним. Сзади бегут усталые, вспотевшие, нагруженные оружием и ящиками с патронами пулеметчики. Четверо тащат пленного унтера. Бегут они недолго. Майор вдруг ныряет под маскировочную сеть, потом спрыгивает в ход сообщения, ведущий к огневой позиции. Лепешев и его бойцы с трудом поспевают за ним.
В ходе сообщения, в отрытых тут и там щелях, сидят и лежат раненые. В пулеметном окопе их тоже несколько человек.
– Вот, размещайтесь. Добро пожаловать! – совсем по-граждански, радушно разводит руками улыбающийся майор. – Правда, здесь немного тесновато, но ничего не поделаешь. Раненых вывозить пока почти не на чем. Не взыщи, лейтенант. Что успели – сделали. Чем богаты, тем и рады.
Но Лепешеву не до обмена любезностями. Он быстро оглядывает позицию, смотрит на правый берег. Обзор неплохой. Зазубренная стена и ход сообщения, идущий от нее вниз, видны хорошо.
– Станковые пулеметы по флангам, ручные в центр! Расчеты, занять места, приготовиться к огню! – отрывисто командует лейтенант и выдергивает из кармана свисток.
– Вы с ума сошли?! – Радушие исчезает с потного лица майора, он выхватывает из руки Лепешева свисток. – Стрелять категорически запрещено. За нарушение – трибунал!
– Да вы что?.. – Лепешев ошеломленно смотрит на красное лицо майора. – Там же боец, который нас прикрывает. Слышите? – Он мотает головой в сторону кручи, где гремит перестрелка.
– Категорически запрещено! Хотите демаскировать позицию? – Губы майора складываются в жесткую складку. – Вы что, хотите всех их погубить? У нас же всего по две обоймы на стрелка! А если фашисты откроют минометный огонь? Что мы будем делать на этом степном блюдце?
Лепешев непонимающе глядит на забинтованных красноармейцев, сидящих у стенки окопа, потом оглядывается на своих бойцов. Но их рядом уже нет. Они рассыпались по стрелковым ячейкам, они ждут сигнал своего командира.
– Отдайте свисток… – хрипло шепчет Лепешев. – Я не могу бросить на произвол судьбы своего бойца. Вы же понимаете. Он нас…
– Да поймите же, лейтенант, – майор прижимает большие руки к груди, – не могу! Все окопы и щели забиты ранеными. И своими, и из хозяйства Федотова. А нам нечем ответить немцам, и мы еще плохо закопались… Ну, куда мы денем их, если противник откроет массированный огонь? Ведь кругом голая степь.
– Там наш боец, советский человек. Мы не имеем права не прикрыть его отход огнем! – упрямо повторяет Лепешев.
В это время в окопе появляется полковник Савеленко. Вслед за ним из хода сообщения вываливаются начальник особого отдела дивизии капитан Васильев и два красноармейца с немецкими автоматами.
– Что за шум, а драки нет? – весело и зычно басит полковник.
Майор коротко объясняет.
– Нельзя, лейтенант. – Полковник хмурится. – Связаны мы по рукам и ногам. Здоровых бойцов тут и роты не наберется, а раненых… – Он огорченно машет рукой. – Понимаю тебя, но не могу разрешить. До ночи нам немцев никак сердить нельзя. Да и нечем. Весь остаток боезапаса отдали Федотову. Приказали.
– Но как же… – Лепешев переводит взгляд с полковника на майора, потом на капитана, на раненых красноармейцев – ищет поддержки.
Всем неловко, все отводят глаза. Лепешев круто поворачивается, смотрит на правый берег. Там продолжает греметь частая пальба. На обрыве никого не видно – ни Глинина, ни немцев.
– Э-эх!.. Хотя бы батарейку минометов с комплектом мин… – вздыхает Савеленко. – А то из-за одного… – Он не договаривает, глубже натягивает фуражку на крупную костистую голову, печально косится на раненых красноармейцев.
Лепешев опять оглядывается. Обводит взглядом позицию. Кругом раненые. Бинты, кровь, гной… Он понимает, что полковник совершенно прав, что вызывать на себя огонь противника, нельзя, но и отменить отданный пулеметчикам приказ у него не поворачивается язык.
* * *
К Лепешеву протискивается капитан Васильев. Капитан приземист, невероятно широк в плечах, крутая грудь распирает гимнастерку. Природа так создала его, что ему бывает тесно в траншее нормального профиля, а в окопе, заполненном людьми, и подавно. При прорыве из окружения Васильев шел с пулеметчиками и трижды попадал вместе с Лепешевым в горячие переделки. С тех пор он особо отличал лейтенанта из всех офицеров дивизии и относился к нему очень дружески.
Увидев начальника особого отдела, Лепешев ободряется, пробует улыбнуться. Улыбка не получается.
Лейтенант уважает Васильева. Капитан не только опытный, смелый солдат, но и на редкость уравновешенный человек. Несколько дней назад, когда прорывались из окружения, капитан хладнокровно заколол финкой трех немецких солдат, которые подмяли под себя Лепешева во время рукопашной схватки во вражеской траншее. На следующий день лейтенант отплатил Васильеву взаимностью. Срезал автоматной очередью унтер-офицера и двух солдат-разведчиков, пытавшихся захватить капитана в плен.
Поэтому в их отношениях было нечто большее, нежели взаимные симпатии.
Сейчас начальник особого отдела встает рядом с лейтенантом Лепешевым, крепко жмет тому локоть, тихо говорит:
– Молодец, Николай. Молодчага! Мы знали, что ты выдюжишь! – И совсем тихо добавляет: – Савеленко и Федотов представили тебя к Герою. Не знаю, как там… Но Ленина-то получишь наверняка.
Радостное сообщение не трогает Лепешева. Продолжая напряженно прислушиваться к перестрелке, он с надеждой спрашивает:
– Слушай, Герман Романович, неужели в самом деле нельзя прикрыть?.. – Он кивает в сторону правого берега. – Неужели так плохо дело?
– Плохо, Николай. – Васильев устало поводит плечами. – Демаскироваться нельзя! Это единственный наш шанс спасти раненых. Сам видишь.
– Да вижу! Но не можем же мы вот так… Бросить его!
– Не можем. Не имеем права. Но и этих… А в общем, посмотрим. – Капитан достает пистолет, проверяет обойму, вздыхает: – Последняя… Если они поймут, каковы у нас дела, – жди атаки. Тогда…
Из ближайшей стрелковой ячейки выглядывает Ильиных. Он вопросительно смотрит на командира взвода. Лепешев отводит глаза. Много раз приходилось ему попадать в то тяжелое положение, когда душа командира разрывается между чувством солдатского долга и сознанием неумолимой военной необходимости, а никогда за весь год войны не было ему так нехорошо.
Проходит несколько томительных минут. Стрельба усиливается, как бы приближается.
– Послушай-ка, Николай, – вдруг говорит Васильев. – Мне нужен красноармеец Глинин. Где он?








