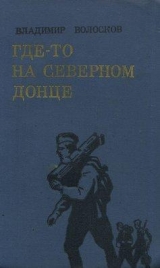
Текст книги "Где-то на Северном Донце"
Автор книги: Владимир Волосков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
* * *
От этого минутного праздничного настроения Лепешева отрезвляет мощный гул, нарастающий в вечернем небе. Розоватый воздух вибрирует от рева моторов.
– Воздух! – кричит Ильиных и бежит в здание, в свой окопчик у амбразуры.
Лепешев поднимает голову вверх и видит восьмерку «хейнкелей», идущую строем «пеленг» вдоль реки откуда-то с юга. Лейтенант не торопится укрыться, ждет, когда самолеты начнут перестраиваться для бомбометания. Но происходит неожиданное. Не снижаясь, «хейнкели» вдруг меняют курс, поворачивают на запад.
«Что за чертовщина?» – изумляется Лепешев и бежит на свой наблюдательный пункт. Оттуда следит за самолетами в бинокль. Они удаляются, превращаются в светящиеся точки, а затем вдруг идут вниз. Где-то далеко, у ломаной линии горизонта, «хейнкели» начинают кружить над степью, и до Лепешева наконец доносятся слабые раскаты взрывов.
Лепешев удивленно смотрит на примостившегося рядом Глинина, тот не менее удивленно глядит на лейтенанта. Они молча ждут, что будет дальше.
Через четверть часа бомбардировщики возвращаются назад тем же четким строем «пеленг». Над излучиной реки меняют курс и уходят на юг, туда, откуда прилетели.
Лепешев напряженно прислушивается, и ему кажется, что, хотя «хейнкели» и ушли, оттуда, из степи, где они кружили, нет-нет да и доносятся отголоски взрывов. Лейтенант наблюдает за немцами, укрывшимися в садах, и хочет понять по их поведению, что же такое делается там, в залитом лучами заходящего солнца степном просторе.
Но противник не проявляет активности. И это самое загадочное. Вражеские автоматчики, залегшие в развалинах, очевидно, начинают нервничать. В небо одна за другой взлетают две ракеты. Они бледны, эти звездочки немецкого страха, но Лепешев угадывает их смысл. Он тот же: «В чем дело?»
Проходит час томительного ожидания, проходит другой. Огромное степное солнце скрывается за горизонтом, А со стороны противника ни выстрела. «Неужели предпримут ночную атаку?» – сумрачно гадает Лепешев и идет посмотреть, что делается внизу.
* * *
Понтон и плоты все так же медленно передвигаются от берега к берегу. Но раненых в щелях уже нет, мало носилок под вербами. Медсестер под деревьями не видно. Около носилок лишь двое бойцов-санитаров да забинтованный повар.
С понтона опять начинают махать лейтенанту. Она! Лепешев узнает ее. Снова учащенно мечется в груди сердце, и он не знает, отчего это происходит. Он ответно размахивает пилоткой, ему хочется крикнуть в напутствие что-нибудь хорошее, но Лепешев – парень сурового уральского воспитания, и кричать ласковые слова вот так, у всех на виду, ему непривычно. Лейтенант просто машет пилоткой, и с души неожиданно для него самого спадает тяжесть, которая, оказывается, подспудно давила его с того момента, когда он увидел в конюшне девушек-медичек.
А с плотов и понтона лейтенанту машет уже много рук. Даже раненые взмахивают забинтованными культяшками. Прощаются. Благодарят. Лепешеву становится неловко отчего-то. Он оглядывается. Видит рядом бронебойщиков, Глинина и еще несколько бойцов. Они тоже машут плотам и улыбаются. Неловкость исчезает. С легким сердцем Лепешев последний раз взмахивает пилоткой и натягивает ее на голову. Надо возвращаться на наблюдательный пункт. Дело сделано. Еще рейс – и все раненые будут на левом берегу. Пусть фашисты поволынят еще немного – тогда без всяких осложнений переправится и Лепешев со своими бойцами.
Уходя с обрыва, лейтенант еще раз оглядывается через плечо. Девушка-военврач стоит на краю плота, она уже не машет, а пристально смотрит на береговую кручу, и руки ее мнут пилотку. Лепешев чувствует каким-то шестым чувством, что смотрит она на него. Он смущенно косится на своих бойцов и, взволнованный, быстро забегает в здание.
* * *
У немцев по-прежнему спокойно. Разыгравшийся вечерний ветерок несет из садов звуки чужой речи, пиликанье губных гармошек, бряканье посуды. Видимо, только что поужинали. Но над всеми этими мирными звуками растет и ширится гул далекого боя. Ветерок приносит уже явно различимое уханье орудий.
Опять появляются «хейнкели». Как и ранее, они идут с юга, таким же строем «пеленг», в точности повторяют недавний маневр – меняют курс над излучиной реки (Лепешев догадывается: это их визуальный ориентир) и идут на запад, в сторону далекого боя. Бомбят они уже не у огненной кромки горизонта, а где-то ближе, в глубине укутывающейся в синюю вечернюю дымку степи.
Лепешева охватывает возбуждение. Он щурится в бинокль, но, кроме поблескивающих в лучах зашедшего солнца плоскостей самолетов, ничего не видит. Даже шум взревевших за деревьями танковых и автомобильных моторов не гасит этого возбуждения. Лепешев приказывает бойцам занять позицию, приготовиться к отражению атаки, а сам продолжает наблюдать.
У немцев шум, какие-то перемещения. Что-то стряслось – лейтенант чувствует это обостренной солдатской интуицией. И он не удивляется, когда из-за садов, по левой дороге, мчатся в степь сначала мотоциклы, за ними автомашины с орудиями, последними уползают танки и бронетранспортеры. Видимо, немалая русская сила движется по степи, если противник не дождался темноты, снял из-под хуторка основные силы, бросил на произвол судьбы паникующих в развалинах автоматчиков.
Те действительно паникуют. Ракеты то и дело взлетают над хуторком, и Максимов короткими очередями бьет с фланга по обломкам стен, из-за которых они взлетают.
В ответ из-за деревьев начинают бить минометы. Лепешев подсчитывает число и порядок взрывов, стараясь определить, сколько минометов противник оставил в садах.
– Сколько? Шесть? – на всякий случай спрашивает он у Глинина.
– Шесть легких, – подтверждает тот.
– Заградительный. Хотят выручить автоматчиков, – констатирует лейтенант.
Действительно, вскоре то там, то здесь начинают мелькать меж обломков темные фигуры отползающих вниз вражеских солдат. Пулеметчики и стрелки открывают по ним огонь. Глинин не стреляет. Экономит патроны. Он поглядывает в сторону противника и что-то чертит в добротной офицерской тетради с красными корочками и вытисненной на обложке золоченой звездой. Лепешеву вспоминается, что такие тетради выдавались до войны командному составу армии.
Смотреть, как его бойцы расстреливают спасающихся автоматчиков, лейтенанту не хочется. Он знает наперед: уж коли немец пополз назад, – будьте уверены! – его даже страх перед смертью не остановит. Поэтому Лепешев убежден: метко или не метко будут стрелять бойцы – к ночи в развалинах не будет ни одного автоматчика. Немецкий солдат не любит, когда его подводят командиры. Когда немец потерял доверие к командованию – солдат он неважнецкий, из него можно веревки вить. Лепешев в том неколебимо убежден.
– Вот! – Глинин протягивает лейтенанту листок.
Лепешев смотрит. На листке красиво, аккуратно вычерчена самая взаправдашняя стрелковая карточка. План хутора с нанесенными на нем своими и немецкими огневыми точками. «Ну и молчун! Опередил! – восхищается в душе Лепешев, он сам собирался составить такую же. – Хоть сегодня в комбаты производи. И когда только успел все засечь?!»
– Значит, у них шесть легких минометов, восемь ручных пулеметов… – размышляет вслух лейтенант. – Это что… Что-то около мотострелковой роты в прикрытии оставлено?
– Пожалуй, – соглашается Глинин. – В мотострелковой по штату три легких. Значит, три минометика у мотоциклистов забрали.
Внутри конюшни уже сумерки. И в этих сумерках морщинистое худое лицо Глинина кажется лейтенанту грубым, вытесанным из камня. Оно бесстрастно, мертво, это темное, загорелое лицо старого солдата; живыми кажутся только глаза – колючие, цепкие, черные.
– Где вы, Глинин, обучились этой премудрости? – неосторожно спрашивает Лепешев.
– Кто хочет, на войне всему научится! – хмуро бурчит помкомвзвода и уходит к своему пулемету. Там он долго возится над чем-то, угрюмо сопит, часто затягиваясь огромной самокруткой.
Лепешев жалеет, что опять вспугнул носящего в душе что-то тяжелое нелюдимого солдата.
VII
Когда на темное небо выползает большая желтая луна, в конюшне неожиданно появляется полковник Савеленко. Его сопровождают несколько командиров, среди них и подполковник-штабист, тот, что днем подарил Лепешеву бинокль. Гимнастерка подполковника натянута поверх раненой руки, и в темноте он кажется лейтенанту пополневшим, раздавшимся в плечах.
Лепешев докладывает командиру дивизии обстановку.
– Ага! Ясно. Что я вам говорил! – весело басит полковник, разглядывая при свете карманного фонаря карточку Глинина. – Они потеряли к нам всякий интерес. У немцев других дел по горло. Переправа – вот что им было важно. Как вы думаете, почему они разбомбили переправу?
– Я думаю, случайно, – высказывается подполковник. – Судя по всему, экипажи бомбардировщиков имели другое задание. Их срочно перенацелили на нас в расчете одним ударом вернуть мост. Бомбили они неуверенно, не зная точной цели, – это все видели. И притом пятисотки. Когда это немцы применяли против пехоты, не имеющей даже простейших полевых укреплений, бомбы такой мощности? С чего бы?
– Согласен, – басит полковник. – Разбомбили случайно. Но как бы то ни было – переправы нет, и теперь у противника нет здесь никаких оперативных целей. Поэтому они отозвали отсюда танки, поэтому сняли мотопехоту с тяжелым оружием. Они прекрасно понимают, что у нас нет сил хотя бы для маломальского наступления. Да и плацдарм, извините, – сморкнуть некуда.
– Резонно, – говорит один из командиров, майор в черном танкистском комбинезоне.
– Мне кажется, немцы сняли отсюда танки, артиллерию и мотопехоту для удара по нашим войскам вот там! – Лепешев указывает в ночь, туда, где вспыхивают бледные зарницы взрывов. – По нашим наблюдениям, бой быстро приближается к реке. Очевидно, те средства, которые противник снял отсюда, – последние. Ибо зачем было снимать их засветло, на наших глазах? Откуда немцам знать, что у нас нет связи с прорывающимися?
Савеленко долго смотрит в степь, о чем-то думает, соглашается:
– Да. Там бой. Какая-то часть пробивается к Донцу, Но мы, к сожалению, ничем помочь им не можем. Единственная наша сила – полк Лоскутова – растянута на девять километров по фронту, вдоль реки. Нам приказано не допустить переправы противника на левый берег в своем секторе. Это главное. А у нас ни огневых средств, ни боеприпасов. К тому же соседи справа и слева еще слабее нас. Хоть окружения и избежали, но потрепали их здорово.
– Это так, – подтверждает тот же майор. – Боеприпасы подвезут только послезавтра вечером. Не раньше. Так сказали в отделе тыла фронта.
Все долго молчат и смотрят в ту сторону, откуда доносятся отголоски ночного боя.
– М-да… Помочь бы им, да нечем!.. – вздыхает Савеленко и поворачивается к Лепешеву. – Сидеть здесь теперь смысла нет. Сейчас будут переправлены последние раненые. Мы тоже переправимся. Теперь уже окончательно. Потом плоты придут за вами. Майор объяснит подробности.
Высокий, тучный майор, лицо которого в темноте Лепешеву рассмотреть трудно, торопливо говорит:
– Объяснять, собственно, нечего. Ждите красный сигнал. И светите нам, когда отплывете, таким же фонарем. – Он сует в руку Лепешева что-то небольшое. – Это чтобы береговые посты не спутали вас с немцами.
– Снизу сигналят. Погрузили, – сообщает кто-то из-за конюшни.
– Ну, все! – шумно вздыхает полковник. – Пора. Будем ждать вас, лейтенант. Время не теряйте. Светает рано, так что…
– Нельзя нам уходить отсюда! – раздается в темноте негромкий хриплый голос. – Нельзя! Разве вы не видите, что наши идут сюда? Из окружения идут…
* * *
Сказанное столь неожиданно, что совещавшиеся командиры растерянно молчат. Зыбкая тишина висит в темноте. Первым приходит в себя полковник Савеленко.
– Кто это рассуждает? – громко спрашивает он.
– Красноармеец Глинин! – В темноте щелкают каблуки сапог.
– Ах вот кто… – В голосе полковника звучит веселое удивление, ирония. Он включает фонарик, освещает лучиком света Глинина, вытянувшегося возле своего пулемета. – Может быть, вы, красноармеец Глинин, разъясните нам ваш стратегический план поподробней?
– Могу. – Ни один мускул не дрогнул на иссеченном ночными тенями грубом лице бойца. Он подходит. – Маневр прост, – хрипло продолжает Глинин. – Переправить нам на усиление роту или хотя бы взвод автоматчиков и ударить по заслону, который немцы оставили здесь. Их мало, и они не ожидают атаки. У противника, очевидно, нет под рукой резервов, чтобы остановить прорвавшихся из окружения. Потому они и сняли отсюда все, что могли снять. Если мы сшибем заслон, это будет значить, что тылы немецких частей, ведущих встречный бой с нашими окруженцами, окажутся незащищенными.
– И что тогда? – Полковник обретает себя, в его голосе звучит сарказм.
– Тогда противник должен будет хоть какую-то часть сил бросить против нас. Значит, противодействие нашим прорвавшимся подразделениям будет ослаблено.
– А может, вы предложите развить успех – начать стратегическое наступление на всем Южном фронте?
Лучик света прыгает по угрюмому, окаменелому лицу Глинина, но он не желает понимать командира дивизии.
– Да. Если противник не сочтет нужным прикрыть тыл, то можно и потревожить его. И я хотел бы вторично обратить внимание на то обстоятельство, что перестрелка довольно быстро приближается к реке. Следовательно, бой идет маневренный. А это значит, что немцы имеют дело с механизированной группой. Это еще один довод в пользу того, что нам стоит остаться здесь.
– Ну, хватит, красноармеец… как вас… Вы слишком много на себя берете. И, кроме того, кто вам разрешил вмешиваться в разговор командиров? – Полковник круто поворачивается к Лепешеву: – Это ваш боец?
– Так точно.
– За нарушение устава наказать. Своими правами.
– Слушаюсь.
– Приказание мое остается в силе. До рассвета быть на левом берегу.
– Слушаюсь.
Командиры молча идут к выходу. Всем неловко, нехорошо. Савелеико, очевидно, сам чувствует, что поступил с бойцом неладно, что был неубедителен. Выходя из здания, он останавливается в дверном проеме. На звездном, подсвеченном луной небе четко вырисовывается его богатырский силуэт.
– Счастливого завершения операции, товарищи, – тихо говорит он в темноту, – счастливой переправы. Вернетесь, дадим отдохнуть. Ну, и вы… стратег… возвращайтесь… На всех заготовим наградные листы и на вас тоже. Солдат вы, видимо, все же хороший…
Глинин не отвечает. В темноте слышно лишь, как он переступает с ноги на ногу. Потом зловещую тишину вдруг нарушают его тяжелый вздох и громкие слова:
– Нельзя нам уходить отсюда!
Все вздрагивают, будто прогремел в черноте конюшни неожиданный взрыв. Даже у Лепешева, хорошо знающего неласковый нрав помощника, растерянно опускаются руки.
Силуэт комдива перекашивается в дверном проеме.
– Ч-что?.. – хрипит он. – Да вы… вы… Где начальник особого отдела? – резко поворачивается он к сопровождающим командирам.
– Он остался на том берегу.
– Т-так-с… Так. Лейтенант! Разоружить наглеца, доставить под охраной к реке!
Минутная растерянность проходит. Знакомое холодное спокойствие заливает Лепешева, он ищет слова, он не знает, что надо сказать полковнику, но знает другое – Глинина надо выручать.
– Вы слышите, лейтенант?
Лепешев решается.
– Товарищ полковник! Убедительно прошу отменить приказание. Боец Глинин контужен. Он прекрасно проявил себя в боях… Он мой помкомвзвода… И… и притом, кроме него, никто не умеет обращаться с трофейным пулеметом. Это его личный трофей! – У Лепешева пересыхает во рту, пока он какие-то мгновения ждет ответ комдива.
– Контужен?.. – Савеленко, очевидно, понимает, что лейтенант лжет, но понимает и другое – в этой лжи и просьбе единственный выход из того скандального положения, в котором он оказался. – Хм… Что ж… завтра проверим. Уважая вас, как одного из лучших офицеров дивизии… Удовлетворяю просьбу. Но за бойца этого отвечаете головой. Завтра вместе с ним, живым или мертвым, явиться ко мне!
– Есть явиться к вам!
* * *
Лепешев провожает командиров до реки. Впервые оказавшись внизу, он с любопытством оглядывается. В мерклом лунном свете видно, что весь берег изрыт щелями. Всюду клочья бинтов, ваты. В береговой круче чернеют ниши. Возле них тоже груды бинтов, от которых в сырой приречный воздух примешивается запах гноя и крови. И Лепешев только сейчас реально сознает размеры бедствия, обрушившегося на дивизию. Ему становится немного жаль Савеленко, хотя в душе он считает, что комдив перестраховывается, не желает рисковать.
– Проклятое отступление! – ворчит Савеленко. – Дожили!.. Каждый рядовой поучает, как поступать командиру дивизии. Не смешно ли?
Ему никто не отвечает. Командиры идут молча, сосредоточенно глядя под ноги.
– И невдомек этому стратегу, что окруженцы могут выйти к другому участку реки. – В голосе полковника Лепешеву слышится желание оправдаться, желание услышать от сопровождающих командиров одобрение принятого решения.
– Вы правы, – говорит майор в комбинезоне, который поддакивал комдиву и в конюшне. – Наши могут выйти к реке вовсе не на этом участке.
Остальные командиры молчат. Лепешев тоже. Но полковник рад и этой слабой поддержке.
– Этот кусочек правого берега не представляет для нас никакой ценности. Лишь распылим силы и потеряем пулеметы. Ни за понюшку табаку потеряем. Завтра немцы ударят по этому клочку так, что тут живого места не останется. Зачем нам терять людей, да притом еще таких обстрелянных? Мы и без того много потеряли… Надо спасать то, что есть.
– А может быть, все же оставить взвод Лепешева на месте? – неожиданно говорит раненый подполковник. – Если окруженцы пойдут сюда, то они действительно смогут помочь им. Хотя бы огнем.
– Вам прекрасно известно, подполковник Тарасюк, что командование поручило нам не допустить форсирование противником реки на нашем участке! – В басе полковника снова звучит раздражение. – Выполнить приказ – вот наша первейшая задача. Приказ – закон. Сами понимаете – положение тяжелое. Стабилизировать фронт – вот важнейшая цель. Ни на какие авантюры я не пойду. Вы же знаете, что резервы исчерпаны, что фронт по Донцу держат лишь соединения, чудом избежавшие полного разгрома.
«Эх, какой же ты напуганный, – осуждает про себя командира дивизии Лепешев. – А если бы ты был на месте тех, кто там, в степи?»
Савеленко начал войну генералом, командиром корпуса, В летних боях в Белоруссии потерял он все свои части, а также и штаб. Сам каким-то чудом сумел выбраться из окружения. Понизили Савеленко в звании, поставили командовать дивизией. И снова неудача. Лепешев мог понять обозленного комдива – опять достанется ему на орехи от высшего командования. Для Савеленко единственный шанс доказать, что он способен командовать соединением, – выполнить приказ, удержать левый берег Северного Донца. Это мог понять Лепешев. Но он не понимал раздражения, с которым полковник встретил предложение оставить пулеметчиков на правом берегу. Взвод в масштабах дивизии, даже потерявшей две трети личного состава, величина малая. И притом, нельзя же в самом деле повернуться спиной к товарищам, на пределе сил выбивающимся из немецкого окружения!
«Как же так? – думает Лепешев. – Мы хоть и потрепанные, но вырвались. А на остальных наплевать?»
Будто прочитав мысли лейтенанта, полковник Савеленко не торопится ступить на плот. Он останавливается у воды, поворачивается к Лепешеву, молча глядит ему в лицо.
Молодому лейтенанту становится не по себе под этим внимательным взглядом, но он старается не отводить взгляд.
Молчание затягивается.
– Скажите, лейтенант, – наконец произносит Савеленко, – этот боец… как его…
– Красноармеец Глинин.
– Этот Глинин действительно рядовой красноармеец?
– Так точно!
– Он что?.. Он что, разжалованный кадровый командир?
– Никак нет. Бывший бухгалтер.
– Так-с… Это вам досконально известно?
– Согласно документам – так!
– Хм… Ну, все равно. Приказ остается в силе. Завтра доставить его в штаб.
– Слушаюсь!
Полковник оглядывается на плоты, колеблется. Лепешев чувствует, что он что-то не договорил, не договорил весьма важное, необходимое.
– Будут еще указания? – Лепешев напрягается, ожидая ответ.
– Нет. Вроде бы все ясно…
– Значит, переправляться?
– Да. Приказ не отменяю. Но… – Савеленко продолжает колебаться. – Но… если возникнет непредвиденная ситуация… Если произойдет что-нибудь чрезвычайное… Разрешаю действовать по обстановке!
– Слушаюсь! – с облегчением гаркает Лепешев. Савеленко сказал именно то, чего он ждал.
– Но только при чрезвычайных обстоятельствах!.. – Полковник внушительно покачивает указательным пальцем, а в голосе его лейтенанту слышится затаенная грусть. – Всем нам будет искренне жаль, если с вами что-либо случится, лейтенант. Всем. И мне тоже. Вы меня понимаете?
– Так точно! – Лепешев готов расцеловать упрямого в принятых решениях Савеленко. Он рад грустным искренним ноткам в его потеплевшем голосе, рад разрешению действовать самостоятельно и разом прощает полковнику и недавнюю резкость с Глининым, и приказ доставить того в штаб, забывает собственное недовольство этим.
– Вот так… – тихо произносит Савеленко. – Гибель вашего взвода была бы тяжкой потерей для всех нас… – Он кивает в сторону левого берега. – Понимаете?
Полковник крепко жмет Лепешеву руку и, ссутулившись, шагает на плот. Лейтенант впервые остро чувствует, какое в самом деле тяжкое бремя ответственности несет он на своих плечах.
* * *
Плоты и понтон отчаливают от берега. Лепешев остается у реки один. Есть изрытый щелями берег, желтая луна, широко разлившаяся река да он, двадцатитрехлетний лейтенант Николай Лепешев, со смутным беспокойством на душе. И беспокойство это не оттого, что Лепешев сейчас одинок под желтой стенной луной. Лейтенант думает о том, что он предпримет, если окруженцы в самом деле будут прорываться к излучине реки, где держит оборону его взвод.
Лепешев скидывает гимнастерку, нижнюю рубашку и с наслаждением моется. Вода освежает его, усталость и сонливость исчезают. Умывшись, он идет посмотреть, как дела у автоматчиков, прикрывающих фланг его позиции. Те спят. Бодрствует только сержант. Он тихо окликает лейтенанта откуда-то из-под раскидистых верб, и Лепешев пробирается на звук его голоса.
В глубоком окопе, устланном камышом, разметались на шинелях уставшие за день бойцы. Лепешев присаживается рядом с сержантом, говорит шепотом:
– Ну, как дела?
– Спокойно. Немцев здесь нет. Ушли. Даже убитых не подобрали. – Сержант кивает на немецкие автоматы, сложенные аккуратной кучкой на краю окопа. – Одиннадцать штук.
– Добро. Возможно, скоро будем переправляться, – сообщает Лепешев. – Но… но, может быть, и не будем. Слышишь?
Сержант прислушивается к шуму боя. Даже здесь, под крутым берегом, стрельба кажется близкой, довольно громкой.
– Давно шумят. Кто это?
– Наши. Наверно, крупная часть из окружения вырвалась. Быстро к реке идут.
– Вот молодцы! – восхищается сержант. – То-то фрицы притихли.
– Не исключено, что нам придется остаться, а может, и атаковать немцев. Их тут мало осталось. Надо помочь нашим. – Лепешев еще не принял никакого конкретного решения, но какой-то неясный внутренний голос подсказывает ему, что уйти отсюда, с правого берега, не сделав всего возможного, он не сможет.
– Факт, надо! Не паскуды же мы, чтобы своим не помочь! – с энтузиазмом соглашается сержант. Он молод, этот сержант, гораздо моложе самого Лепешева, и в порыве его больше товарищеского чувства, нежели трезвого солдатского расчета, но лейтенант горячо жмет ему руку и говорит:
– Молодец! Правильно понимаешь. Разбуди кого-нибудь из своих, пусть разведает, как тут лучше к немцам подобраться. Или сам сходи. Потом подымешься наверх – доложишь.
– Будет выполнено! – с мальчишеской легкостью соглашается сержант.
– Вот и добро! – Лепешев отправляется к другому береговому посту.
* * *
Когда лейтенант возвращается наверх, там царит покой. Бойцы спят. Бодрствуют только Глинин и Степанов. Бирюк наблюдает за противником, а бронебойщик сидит у задней стены конюшни и смотрит на левый берег – ждет сигнала красного фонаря.
Лепешев пристраивается рядом с Глининым и смотрит на освещенные лунным светом верхушки деревьев. Под деревьями же непроглядная темень. И тишина. А дальше, в ночной степи, вибрирует волглый воздух от перебранки пулеметов, от уханья взрывов. Лепешеву даже чудится, что он слышит рокот моторов. И действительно, где-то не очень далеко, ибо видно невооруженным глазом, вспыхивает сначала один язычок огня, потом другой, третий, четвертый… Желтовато-красные язычки эти сначала стремительно рвутся к небу, а потом спадают, становятся шире, светятся неярким багровым светом. Горят подожженные автомашины – догадывается Лепешев. Чьи горят машины – он не знает, но дрожащие точечки огня заставляют его волноваться.
Глинин вдруг встает, прикладывает ладонь к уху. Лепешев невольно повторяет его движение. Теперь уже явственно слышит стук двигателя. Еще минута – и из-за увала выныривает яркий белый огонек. Это фара мотоцикла. Огонек стремительно приближается, растет, ширится. Вскоре мотоцикл подкатывает к садам, замолкает, несколько раз чихнув.
За деревьями начинается суета. Слышны голоса, звяканье оружия. Вдруг хлопает выстрел миномета, мина рвется где-то в развалинах. Затем через равные промежутки времени следуют новые взрывы. Несколько пулеметов начинают стрелять по освещенному луной зданию.
Спящие бойцы вскакивают на ноги.
Лепешев дает команду по цепи:
– Огонь не открывать! Отвечать только фланговым пулеметам.
План Лепешева прост – дать понять немцам, что основные огневые средства с мыса эвакуированы, что оставлено лишь небольшое прикрытие.
– Бери автомат. Потренируйся и ты, – весело говорит он Ильиных.
Здоровяк-бронебойщик, зевая, устраивается у амбразуры и открывает огонь.
В здание забегает Степанов.
– Разрешите доложить, товарищ лейтенант! С левого берега сигналят. Красным.
– Хорошо, – равнодушно говорит Лепешев. – Можете отдыхать.
Глинин трогает лейтенанта за плечо, указывает в сторону противника. По белой ленте дороги, вслед за мотоциклом, медленно уползают в степь три большие черные коробки – автомашины с потушенными фарами. Теперь Лепешеву ясно, зачем гитлеровцы подняли бестолковый ночной шум. Видимо, дела у них далеко не блестящи, если выскребают последние резервы. Лейтенант укрепляется в своем решении не покидать позицию.
Стрельба из садов прекращается. Опять тишина разливается над разрушенным хуторком. Только в степи, где-то уже совсем недалеко, гремит перестрелка. Лепешев совершенно ясно различает в частом треске автоматных очередей басовитый голос «максима».
Снизу приходят сержанты-автоматчики. Докладывают о результатах разведки. Немцев у реки, оказывается, действительно нет. Лишь на флангах у берега имеется по пулеметному расчету – и это все прикрытие. Снять посты нетрудно, так как они обнаружили себя, ведя огонь по конюшне.
Лепешев отпускает сержантов отдыхать, а сам продолжает вслушиваться в звуки непрекращающегося ночного боя. Ему совершенно ясно – немцы исчерпали все свои возможности и советские солдаты вот-вот появятся у реки. Важно, чтобы они вышли именно сюда, к садам. Лейтенант соображает, каким образом дать знать окруженцам, что здесь находятся свои.
* * *
Снизу прибегает запыхавшийся младший лейтенант.
– Товарищ лейтенант! Давайте поторапливайтесь. Мы вас давно ждем. Вы что, не видели сигнал?
Лепешев включает фонарик. Он в годах, высок, но хлипок, этот младший лейтенант с эмблемой войск связи на петлицах. Он нервно косится в ту сторону, откуда доносятся звуки перестрелки, и нетерпеливо переступает с ноги на ногу. Лепешев принимает окончательное решение. Гасит свет.
– Сколько вас?
– Нас? Мы пригнали четыре плота и понтон. Нас двенадцать. Вместе со мной.
– Хм… Это уже сила. Вооружены?
– Нет… То есть да. У меня наган, у бойцов винтовки, но патронов…
– Ничего. Мы снабдим вас немецкими автоматами, – усмехается Лепешев. Его забавляет нервозность младшего лейтенанта. – Переправа отменяется. Сюда подходят наши прорвавшиеся части. Мы обязаны им помочь. Так что вам придется возглавить группу, которая атакует немцев, находящихся в садах.
– Я?! – Голос связиста осекается, он испуганно вертит головой. – Я… я… как вам… Я радиотехник и в этих делах ничего не понимаю… Меня послали за вами – и это все. Мне приказано через час быть на левом берегу. Лично командир дивизии приказал. А уже прошло… – Он тыкает в светящийся зеленоватым фосфорным светом циферблат наручных часов. – Уже прошло более пятидесяти минут. Мы и так опаздываем!
– Я вам повторяю, – свирепо цедит сквозь зубы Лепешев. – На подходе к реке наши войска, наши советские люди. Мы обязаны им помочь! Полковник Савеленко не мог этого знать, когда отправлял вас сюда.
– Но я ничего не понимаю в немецком оружии… – умоляющим голосом говорит младший лейтенант. – И вообще… Давайте я сплаваю на тот берег и доложу обстановку. Если мне прикажут, то пожалуйста… Я вернусь, – быстро тараторит он, обрадовавшись спасительной мысли.
Лепешеву ясно, что от этого перепуганного резервиста толку не будет. Бесполезно разговаривать.
– Ладно. Катитесь к едреной бабушке! – грубо говорит он. – Но только больше одного плота отсюда не угонять. И вот еще… Коль сами вы так цепляетесь за приказ, я вас не держу. Но бойцы ваши ведь не ограничены им. Может быть, найдутся добровольцы помочь товарищам?
– Я спрошу, – с готовностью обещает младший лейтенант. – Я все объясню и, если найдутся желающие, отошлю их в ваше распоряжение. Я бы сам… Я все понимаю. Но ведь мне приказано!
Лепешеву вдруг становится жаль этого пожилого, нервного человека, который стыдливо прячет глаза в темноте. Конечно, это не вояка. Наверняка у него большая семья, малые дети. Лепешев почему-то в том уверен. Взяли вот такого робкого мужичонку, может быть сидевшего всю жизнь под жениным каблуком, надели на него военную форму и после маломальской подготовки послали на войну – делай и там свое гражданское дело, чини радиопередатчики. А вместо этого окружение, отступление, и нет ни передатчиков, ни радиоприемников, ни привычной работы. Болтался без дела человек – послали за реку. А тут изволь вести бойцов (этих сильных, задиристых мужиков, которых на гражданке он очень побаивался, когда бывали они выпивши) в атаку, куда-то в темноту, в неизвестность…
– С вами пойдет мой боец. Он поговорит с вашими людьми, – поясняет Лепешев. – А вы передадите полковнику мое донесение.
– Конечно, конечно… – совсем не по-военному бормочет радиотехник и услужливо светит Лепешеву, пока тот пишет.
– Ильиных! – командует Лепешев, когда донесение написано и отдано. – Пойдите вниз, объясните красноармейцам обстановку. Если найдутся добровольцы – ведите сюда.








