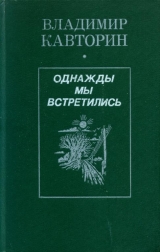
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Когда Бажуков вернулся, самобраное одеяло уже перекочевало в клуб, у самой воды горел костерок из сухого камыша и плавника и на песчаном уступчике над ним сидел, терзая Санину гитару, наш новый знакомый. Он уже вполне освоился и что-то там пел, а Наташка тихонько подпевала, сидя рядом в накинутой на плечи кофточке.
Бажуков стал впереди и немного сбоку. По его лицу гуляли латунные отблески костра, и оттого казалось, что под скулами и на впалых висках у него перекатывались твердые злые желваки.
«А ведь он его, Генку этого, похоже, невзлюбил, – подумал я. – Вот только за что?» – и эта догадка была мне почему-то неприятна, вызывала досаду.
3
Ну вот. Так и пошла-поехала наша совхозная жизнь.
Томка-повариха будила нас в шесть. Солнце уже стояло довольно высоко, но воздух был влажен, сладок; мы бежали мыться к Волге, и трава на склоне была вся бусая от росы, а над заленившейся водой всходила, колеблясь, рваная кисея тумана.
Кашу с тушенкой ели за длинным дощатым столом под старой рябиной, никнувшей своими зелеными прядями и буро-морковными кистями незрелых ягод. Потом пили горьковатый чай и расходились.
Обедали в час, а в полседьмого за тот же дощатый стол садились ужинать. В это время в конце прогона обычно показывалось облако пыли и слышались обиженные взмукивания коров, отрывистый лай пастушьей собачонки и охриплый мат старого Артемьича.
Клуб стоял в стороне от прогона, пыль нам не мешала, но Бажуков все равно злился. Особенно, когда показывались последние буренки, а с ними наш новый приятель Генка в огромных рыжих сапогах и лихо заломленной соломенной шляпе. Этот не матерился, как Артемьич, не кричал: «Куды пошли, падлы?» Пыля сапогами, он широким скользящим шагом подбегал к отстававшей животине и с маху бил короткой палкой по самому чувствительному месту, по почкам. И коровы у него знали порядок: не брели как коровы, а плотной рыже-белой пробкой прокатывались по всей деревне.
– Вот паразит! Его бы так гнать! – суживая глаза, буркал Бажуков.
– Ударник, – оправдывал Саня, – торопится…
– Сукины дети так торопятся – вот кто!
– Это ты хорошо сказал, – благодушно улыбался Химик, – почти как у Хемингуэя фраза, ей-богу!
Бажуков озлялся еще больше:
– Иди ты со своим Хемингуэем!..
– А тебе бы только человека охаять, – встревала сидевшая рядом с Химиком Люда Поливода. – Генка парень как парень. Не такой пентюх, как некоторые. А что пастух, так ничего такого…
– Нет, – делая умильную рожицу, сообщал Аяков. – Коля бы так вежливенько их: «Не будете ли вы столь любезны, госпожа корова, позвольте потянуть вас за титьку!..»
Мы дружно ржали, а девушки обзывали Саню дураком, но, впрочем, тоже посмеивались.
И этак через полчасика, когда Томка уже мыла на конце стола посуду, а остальные сидели, покуривая, являлся обычно и сам Генка с мокрой еще шевелюрой, в модной цветастой тенниске навыпуск.
Подходил он всегда с каким-нибудь фортелем, с подмигиванием.
– Девчонки! – кричал, например, издалека. – А я вам змеючку несу… Показать? – и лез к себе за пазуху.
Те взвизгивали, отодвигались.
– Та дуры ж!.. У меня дрессированная. Я на груди ее ношу, у сердца. От пощупай, Саня. Вот туточки… Ну, чего боишься?
И Саня, дурашливо пожимаясь, приподнимал его голубую в алых маках тенниску, вытаскивал из-за брючного ремня бутылку водки, а Генка, давясь смехом, пояснял:
– Зеленый змий, ядовитость сорок градусов.
Бутылка распивалась, бегали к магазинщице за «подмогой», становилось шумно, выносилась Санина гитара, затевались танцы или споры ни о чем, и Генка чувствовал себя при этом как рыба в воде: размахивал руками, травил про зимние приключения на танцах в районном Доме культуры, про свой неукротимый характер и про то, как зимой, работая бульдозеристом на стройке, зарабатывал по триста рублей.
– А может, по четыреста? – спрашивал Химик.
– Ты чо – не веришь?
– Уж ты загнул, конечно…
– Да? А я не какой-нибудь инженеришка, чтоб за полторы сотни корячиться, понял? У меня двести восемьдесят пять средний вышел.
– Ровно?
– Чего?
– Ровно двести восемьдесят пять или с копейками?
– А иди ты… туда и сюда! Хошь, расчетную принесу?
– Зачем она мне?..
– А, в кусты? Принесу и носом ткну, понял? – горячился Генка и, хоть был еще без расчетной книжки, уже махал перед носом у Химика мосластым своим кулаком.
– Ну, завелись… Охота вам? – лениво спрашивала Наташка.
Генка сразу же успокаивался и только бурчал:
– А чего он?.. Тоже мне – фря!
Так-то Генка был человек расторопный, услужливый и беззлобный, но ужас не любил, когда ставили под сомнение его рассказы. Тут он, что называется, лез в бутылку и в глотку готов был вцепиться. А привирал частенько.
Бажуков в самом начале танцев обычно уходил к Волге, сидел на обрывчике, обняв коленки руками, шевелил босыми пальцами и смотрел, как играли, пощипывали траву и пили воду отпущенные под вечер на свободу белые кони.
Иной раз коней отпускали пораньше, когда мы еще ужинали, и тогда Белый подходил к столу, влажно дышал в затылки, и его угощали сахаром и хлебом с солью, и даже девчонки уже не боялись, когда его мягкие замшевые губы подбирали с ладошки куски рафинада. Генка сердито смеялся «с наших слюней» и доказывал, что баловство скотину портит. «Иди, иди, – замахивался он чем-нибудь на Белого, – ишь на чо губу дует…» И Белый, гордо вздернув головой, уходил.
Сумерки потихоньку загустевали, солнце сваливалось за лес, багрило оттуда синеватые облака, у нашего клуба пустело, утихало, а Бажуков все не трогался со своего обрывчика – ждал, когда кони пройдут на люпинное поле и поднимутся на гребень холма.
Иногда и Химик, раздосадованный бессмысленной перепалкой; уходил к нему и, подгибая под себя полную ногу, тяжело плюхался рядом.
– Вот ведь, – сокрушался, – и не переспоришь его ни в чем. До чего упрям!
– Ты не спорь! – советовал Бажуков, сердито сплевывая сквозь зубы.
– Так ведь врет.
– А ты или не слушай – пусть себе гавчит! – или кулаком по сопатке, и точка. Другого они все равно не понимают. Я таких насквозь знаю!
Химик вздыхал, молчал, потом спрашивал:
– Слушай, Николай, с чего ты такой злой? Ну что ты о нем знаешь?
– Пусть и не знаю, а гаденыша за версту чую.
– Брось… Он, конечно, немного хвастун, немножко брехло, но вообще-то нормальный парень. Не один он такой.
– А ты послушай, чем он все выхваляется. А? Чем?
– Вот те раз. Что считает хорошим, тем и хвастается, – удивлялся Химик, – а чем же еще?
Бажуков не отзывался. Химик вздыхал и говорил, хлопая его по коленке:
– А вообще, Николай, согласись: невзлюбить человека только за то, что у него культурешки мало, – так это неумно…
Бажуков отмалчивался, поплевывая в речку и морщась.
Иногда во время таких-дискуссий и я сиживал с ними, а чаще танцевал или шел со всеми гулять к заброшенному совхозному саду. Со мной под руку шла Люда Поливода, а впереди, этак небрежно бросив на Наташкино плечо руку, – Генка.
4
В сельпо, кроме водки и засохших конфет, почти ничего не было, а совхоз давал нам только картошку, мясо и молоко. Томка шумно бунтовала, и к концу второй недели нас с Бажуковым отрядили в район за продуктами. Приехали мы туда часика в два и очень быстро все закупили, набили рюкзаки и могли бы возвращаться, но Бажукову загорелось звонить в Редкино.
Пошли на почту.
Народу там было немного, мы полюбезничали слегка с телефонисткой, назвали ее лапушкой, Редкино нам дали быстро, да Бажуковой, как назло, не было на месте – «вышла в цех», и Николай ужасно расстроился. То есть он ничего такого не показал, но я его уже знал немножко и поспешил сказать, что времени у нас еще вагон, пусть подождет минут десять и попросит набрать снова…
Он звонил еще раз пять, и все время то «вызвали куда-то», то «вышла», и с каждым разом его лицо делалось все неподвижнее и будто скуластее. А до катера оставались минуты.
– Бог ты мой, – удивлялся я его упорству, – ну, пошли телеграмму, передай через кого-нибудь… Тоже мне проблема в наш век – с женой поговорить!
Он помолчал, потом сказал: «Ладно, не зуди!» – и заказал тот же номер, но теперь уже «кто подойдет».
Когда мы вышли наконец из обшарпанного здания почты и я спросил, все ли в порядке, он ответил коротко: «Да. Все здоровы».
На катер мы, понятное дело, опоздали, и я пошел побродить по городу, попить пивка, а Бажуков остался на дебаркадере, и, когда я вернулся, он все так же сидел, прислонясь спиной к рюкзаку и обхватив руками стрекозино-тощие коленки.
В Юрятино мы вернулись часов только в одиннадцать.
Катерок, скользнув по берегу прожекторным лучом, отвалил, и стало очень темно. Последние дни погода вообще портилась, хмурилась, и сейчас было сплошь наволочно – ни звездочки. Черно, маслянисто поблескивала Волга, а землю заливала такая чернота, что каждый раз, когда я опускал ногу, невольно подкатывал детский страх, что она провалится в какую-то бездну. В самом конце деревни, на магазине, подслеповато желтела единственная лампочка. А тут еще тишина какая-то неестественная – без скрипов, без шуршания листвы и дальнего собачьего бреха.
Мы уже поворачивали к клубу, когда сзади что-то тихо хрупнуло – точно кто-то, изготавливаясь к прыжку, наступил на сухую веточку. Бажуков резко дернулся и метнул туда лучом карманного фонарика. На углу прогона стояла пара. Мужчина заслонился от света длинной рукой, а женщина спрятала лицо за его плечом.
– Это ты, Николай? – спросил Генка. – Да не свети в глаза…
– Прости, – сказал Бажуков, отводя луч. – В темноте померещилось.
– Откуда так поздно?
– Со вторым катером.
– А… Ну, бывай.
Женщина не проронила ни звука, но светлое Наташкино платье было слишком приметно.
В нашей комнатешке было темно и душно, и, раздеваясь, мы то и дело натыкались на тумбочку, на соседей, которые ворочались, не просыпаясь, и сладко чмокали губами.
Потом, когда уже улеглись и установилась чуть шуршащая сеном тишина, я вдруг вспомнил, как сторожко дернулся на треск Бажуков, и подумал, что и он, поди, чувствовал себя в темноте неуютно. Это почему-то мне показалось смешным, и я хмыкнул.
– Ты чего? – спросил Бажуков.
– Чего – чего?
– Смеешься…
– А… В конце прогона, – сказал я, сворачивая на другое, – сеновня больно хороша. Тепло, запашисто…
– Ну? А ты при этом с какой стороны? – зло спросил он.
– Да так… Обидно, знаешь: пока умные делом заняты, все дуракам достается.
Ответил он только минуты через три, когда я уже думал, что он спит.
– Ладно, – сказал вдруг. – Что твое, то другим не достанется, не боись.
Назавтра было все так же тихо, беспросветно наволочно и несколько раз принималось крапать, но – и только. Пыль из-под колес летела высоко, и духота как будто даже усиливалась от туч. К тому же налетела тьма-тьмущая комарья. За ужином мы, как кающиеся грешники, усердно нахлестывали себя по щекам и шеям, и Саня Аяков шипел, делая страшные рожи: «Ишь, гудят, «мессершмитты» проклятые! Я вас!»
Кожа у Сани была нежная. От каждого комариного укуса на ней вспухал этакий розовый бугорочек – как чиришек вскакивал. Поэтому он был особенно зол и не смягчился даже тогда, когда пришел Генка со своей непременной бутылкой.
– Сегодня ты лучше б бутылку «Тайги» принес! – сказал Саня с досадой. – Всю кровь выпили… Грудь затоптали!
– Эка! – объявил Генка, – Мы всё моментом!
Он вскочил на скамью и стал обламывать тонкие рябиновые веточки. Они хрупали в его руках легко, но отдирались только вместе с длинной полоской серой кожицы, и эти ранки на ветках четко белели в сизом воздухе сумерек.
Все почему-то обрадовались, развеселились…
– И мне, Генка, и мне!
Генка старался.
Саня Аяков уже прилаживал на оголившийся сук транзистор, а Генка обмахивал с разными ужимками Наташку, и та улыбалась, как всегда, замедленно и лениво, а Люда Поливода кричала Сане, чтобы он нашел что-нибудь танцевальное или тащил гитару… В общем, все шло по своему кругу, как и в первые дни, только сумерки начинались чуть раньше.
– Пошли-ка лучше на бажуковский бережок, – сказал я Химику, – надоели эти танцы, эти игры надоели…
Бажуков сидел на своем обрывчике.
– Что не танцуешь? – спросил Химик, отдуваясь и валясь рядом с ним на траву. – Такой стройный – и не танцуешь! Или набегался?
– Набегался…
Бажуков помолчал, потом резко, сминая в пальцах окурок, добавил:
– Да и вам удивляюсь: как вы с ним… просто рядом можете?
– Это ты про Генку? – беспечно спросил Химик. – Хороша хмурая Волга, братцы, а? Хороша! Свинцовая такая… У тебя на него зуб, а мы…
– Он мне мерзит! Рука чешется! – Бажуков щелчком отправил в воду смятый окурок. – Ходят такие по земле – красоту портят. И ладно бы из нужды, а то ведь – так, ради мелкого выпендрежа! И мы подхихикиваем.
Мы молчали, оглушенные этой внезапно выплеснутой злобой. Следили, как окурок, покачиваясь на мелкой вечерней волне, приближался к берегу. Когда он коснулся песка, я осторожно спросил:
– Ты Наташку имеешь в виду?
– Чего? – он резко крутнул ко мне лобастую голову.
– Насчет красы…
– Рябину как он обдирал, посмотреть – так сразу видно, какой подонок.
– А…
– Граблистый! – сказал Бажуков и сплюнул.
«Граблистым» называли Генку на ферме, да и по всей деревне, но я считал, что, кроме намека на его длинные руки, ничего в этом особого нет. У Бажукова это прозвучало по-другому.
– М-да, рябину жалко, – сказал Химик. – Но ведь это мы сами… зря позволили. А он – с него что возьмешь? Дитя природы.
– Как же, дитечко! – сказал Бажуков.
Химик длинно и не совсем понятно заговорил о стремлении всякой личности к самоутверждению и о том, что если это принимает уродливые формы, то виновата не сама личность, а то, что ее формирует, и так далее, а сама по себе жажда самоутверждения естественна и неизбежна. Бажуков, по-моему, слушал его плохо, да и я, признаться, с пятого на десятое. Я перебирал в памяти разные знакомые компании, и в любой из них легко представлял себе Генку, он везде бы пришелся ко двору. Что же выходит: все слепые, один Бажуков зрячий?
– Брось ты! – сказал я Бажукову. – Парень он, конечно, хват, да такие везде есть, и, кстати, везде таких любят. Чтоб, знаешь, раз – и квас!
– То-то и худо, что везде! Один бы – так черт с ним, пусть живет, – он замолчал, закуривая новую «беломорину». – А насчет любви… Сам слыхал, как его на ферме любят. Любят?
– Ну… Там-то дело известное: мало молока – пастух виноват. Это как все равно у нас – никто не скажет: я станок поломал, а все приходят: что вы, черти, так плохо чинили?
– Нет, Коля, ты не путем злишься, – мягко сказал Химик. – Ведь ничего плохого ты о нем и не знаешь, сознайся!
– И знать не желаю! А по морде бы с удовольствием съездил!
– Это за сто верст видать, – сказал я. – А все-таки, если вот так, положа руку на сердце, ведь ты все же за Наташку на него злишься? Да ладно, не спорь. Сам ведь глаз на нее положил, а? Хоть и женатый?
Бажуков молчал.
– Да чего уж тут, – сказал я, – все мы по бабьей части не ангелы.
– Иди ты со своей частью… – длинно, витиевато и тоскливо выругался Бажуков.
5
Дня через два или три я был дежурным водяным, то есть перед завтраком должен был привезти Томке воды. Для этого дела у нас была приспособлена четырехведерная молочная фляга, укрепленная проволокой на тележке, и возить воду было совсем не трудно, а таскать ее из колодца еще и весело. Колодец был глубок, и журавль, сделанный из толстого соснового бревна, где-то на середине пути так забавно скрипел, что, если этот скрип записать на магнитофон, никто бы, пожалуй, и не отличил его от заливистого, призывного жеребячьего ржания.
Пока я наливал свою флягу, подошли знакомые женщины с фермы, поздоровались.
– Ишь ты, как он у тебя, – сказала одна, прислушиваясь к мелодичному скрипу журавля, и, помолчав, добавила: – А слыхал, нет, сёдни Белого в Зуевке утопили?
Я уже вытащил полную бадейку и подхватил другой рукой под днище. Она была тяжелой и очень холодной, но я как бы забыл вдруг, что с ней надо делать.
– Как так? – спросил я. – Белого?
– Его, его… Стреноженного пустили в воду, он и утоп.
– Генка энтот граблистый – он погубил.
– Да он-то при чем к лошадям?
– Уж не знаю при чем, а больше некому. Да ты бадью-то давай, что стал… Болты болтать некогда!
Я долил флягу и молча отдал им бадейку.
Дорогой еще пытался уверять себя, что это вранье, но где-то под спудом почти уже знал, что несчастье действительно случилось и что повинен в нем Генка. Вот только если бы спросили о доводах, я, пожалуй, не смог ничего бы сказать, кроме разве того, что уж очень красив и благороден был этот Белый, а ведь это, понятное дело, не довод.
В тот день мы с Бажуковым работали врозь, и как, что и от кого узнал он о гибели Белого – не ведаю. А впрочем: мудрено ли узнать? Я сам за день слушал эту историю раз пять, не меньше, и надо сказать, что Генкина вина не показалась мне столь уж большой. Во всяком случае, с такой… юридической, что ли, точки зрения.
Дело вышло так: старик Артемьич попал в больницу, подменить его было некому, а пёхом, да в одиночку, попробуй-ка кто – побегай за стадом в сто голов! Вот и выделили, так сказать, «транспортное средство». Выгнав стадо на берег Зуевки, Генка завалился под копешку досматривать приятные сны, а стреноженному им «транспорту» вздумалось попить или пощипать травки на том берегу.
Обычно спутанные кони входят в воду с большой осторожностью, но Белый, на свою беду, видимо, не имел подобной опаски. Ну, а нырять и резать повод, когда животное уже бьется, чуя погибель, – дело слишком рискованное. Это, впрочем, признавали и все совхозные. Напирали в основном на то, что стреноживать-де такого коня, как Белый, было ни к чему. Он никогда не убегал и голос понимал лучше любой собаки.
«Да и тово ж Генки… – добавлял одноногий слесарь Забродов. – И я скажу: ежели ты мужик, а не вихлюй, дак ты вперед напои коня, а потом уж стреноживай. А ведь что? Как он скотина и начальству жаловаться не могёт, так и мордуй его всяко? Так?»
Доводы были шаткие, но мужики все же во всем виноватили Генку, честили его наипоследними словами, и я чувствовал, что возражать им не имело смысла.
За ужином всем было немного не по себе, съели все быстро, в молчании, и в молчании потом сидели, глядя, как Томка моет на краю стола миски.
А Генка как ни в чем не бывало пришел, насвистывая. Сделал общий привет ручкой и весело спросил:
– Ну, братцы-кролики, уничтожим еще одного зеленого, подколодного, а? – и со стуком, с шиком опустил на стол бутылку – дескать, прошу! – А чего так тихо? – спросил. – Поминки, что ли?
– Вроде того! – поерзавши и оглянувшись, отозвался Саня Аяков. – По твоей коняке…
– Да ну! Тоже мне!.. Конечно, скотина глупая и подвела меня здорово. Н-но, – он поднял палец, – не такой Гена человек, чтоб ему всякая скотина навредить могла. Все, старики! Все уже тип-топ и даже лучше. Ну-к, Томчик, посунься чуток…
Он перекинул ногу через скамью, чтобы сесть между Томкой и Людой Поливодой, но Томка не подвинулась, а встала и, прихватив стопку мисок, пошла к клубу. И Люда – за ней.
– Эт вы куда? Приходите скорей! – крикнул Генка. – Я сегодня добрый, потому – гуляю!
Бажуков сидел, сжав пальцами край столешницы, и на его впалых висках твердо были обозначены желваки. Но – молчал.
– Давай-давай, Саня! Открывай! – поторопил Генка. – Я ж ее не стоять поставил.
Саня взял бутылку, повертел, задумчиво рассматривая этикетку.
– Как? – спросил меня. – Тяпнем?
Я не успел ответить. Химик протянул руку:
– Дай-ка сюда… – И бутылка, описав над столом дугу, снова стала перед Генкой.
– Ты чо это?
– Я это то, – сказал Химик, – что нам сегодня не в жилу. Лучше бери бутылку и уходи.
– Чего? – растерянно и в то же время с наглой, издевательской насмешечкой переспросил Генка. – Ишь, указчик отыскался!..
– Указчик…
– А указчику – хрен за щеку. Понял? И сиди, не вякай, тебе все равно не налью. Давай, Саня, тару!
Химик встал, растерянно моргая. Генка принялся обрывать с бутылки станиольку, а Саня вертел в руках кружку, не решаясь ее пододвинуть.
– Я ведь серьезно… – сказал Химик и снова потянулся за бутылкой.
– Да тебе что – шмазь, что ли, сделать? – Генка, кривя и выпячивая нижнюю губу, замахнулся растопыренной пятерней. – Н-ну?!
И тут, как из-под земли, вынырнула Натка и повисла на этой вскинутой руке. Она у нас всегда была на виду, а тут сидела как-то так, что я ее не видел и не слышал… И вдруг – вынырнула!
– Не надо, что вы, чокнулись, что ли, – драться? – бормотала она. – За что? Генка, прошу, слышишь?..
– А чо он лезет? – Генка так резко опустил руку, что Натка ткнулась лицом в его плечо. – Бугор из себя строит! Тоже мне… фря!
– Да никто не строит, они из-за коня расстроились, ну, не хотят и не надо, пошли отсюда, слышишь, пошли…
Он повернулся к ней.
– Вот как? – спросил. – И ты туда же? Расстроились они!.. Такие вы чистенькие, да? – с каждой фразой он как-то толчками приближал к ее лицу свое и понижал голос до свистящего, осиплого шепота. – И ты чистенькая… Жалостливая, да? А хочешь, я про твою жалость, – он поднял растопыренную пятерню и покрутил ею в воздухе, – тоже кое-что порасскажу…
Натка побледнела, губы ее гневливо дрогнули.
– Ну и мразь же ты! – негромко, раздельно сказала она и, резко повернувшись, пошла прочь, а перед Генкой оказался Бажуков. Он стоял, сунув руки в карманы и покачиваясь с носков на пятки.
– Вот как? – опять спросил Генка, обводя всех глазами, белки которых были подернуты мутной сукровицей загнанного, бессильного гнева. – Вот как? Ну ладно, сволочи, жрите! Я вам это припомню!.. – и отшвырнул ногой скамейку. – Жрите!!
Он уже был довольно далеко, когда вдруг, как бы очнувшись, вскочил, моргая, Саня Аяков.
– Да вы что – всерьез? Всерьез? – спрашивал всех. – Из-за скотины на человека, да? Сдурели? На друга?..
Подхватив бутылку, он кинулся вслед за приятелем, и мы видели, как он догнал Генку в конце прогона и они долго там спорили, толкали друг другу в руки эту злосчастную бутылку, и, наконец, пошли куда-то вместе.
Когда я вышел на берег, Бажуков был на своем месте. Я несколько раз прошел мимо, он не окликнул меня, а я что-то не решился заговорить первым.
Погода была скверной. Ветер дергал резко, с присвистом, и по Волге длинными треугольниками вспучивалась свинцовая рябь, по люпинному полю прокатывались полосы шороха и серебристой серости. Там, на самой гриве холма, стояли две белые лошади. Ветер, налетая, встрепывал им хвосты и гривы, но они словно не чувствовали этого в своей сиротской, стылой неподвижности… От Волги на деревню надвигалась подпаленная с краев огромная туча. Она давно задавила бы все своей громадой и мрачностью, погрузила во тьму, но между ней и горизонтом пылала, не сдаваясь, пронзительно-алая полоска заката.
А за холмом, невидимая отсюда, вяло шелестела в своих камышах Зуевка, и ее жадные ерши и окуньки, трусливо спеша насытиться перед грозой, выедали блестящие темно-сиреневые глаза красавца Белого.
…От клуба донеслись шум, крики. Я машинально двинулся туда. На полдороге меня обогнал стремительно шагавший Бажуков.
Шумел Генка.
Они с Саней Аяковым где-то налелькались. Саня пришел первым и долго всем доказывал, что Генку прогнали не по справедливости, потому что он не виноват, а это несчастный случай, так даже в акте написано, хотя за этот акт и пришлось выставить два литра управляющему отделением, но Генка опять-таки не виноват, он веселый парень, поет, играет и никогда на бутылку не жмется, а управляющий сволочь.
Потом появился Генка и стал требовать под окнами, чтобы вышел этот гад очкарик, он-де с ним поговорит, а не то разнесет все в щепки и клуб подожжет.
Химик вышел.
Генка стоял у крыльца с Саниной гитарой наперевес.

– Значит, ты так? – спросил он. – Значит, как Генкину водку жрать, так и инженеру можно? А как у человека несчастный случай, так вали от нас подальше?.. Чо нос морщишь, сука?
– Ты пьян, – сказал Химик. – Иди проспись.
– Пьян? А по роже хочешь?
– Нет, – сказал Химик. – Я тебя прошу: иди спать, завтра поговорим.
– Ну, завтра так завтра, в самом деле: давай завтра… – виновато вьюнил вокруг Аяков, хватая Генку за рукав.
Генка вырывался.
– Н-нет, я его сёдни хоть разок шваркну!
Он вскинул гитару, но вышагнувший вперед Бажуков на лету перехватил и сжал его запястье. Пальцы у Бажукова были толстые, с плоскими желтоватыми ногтями.
Секунду стояли неподвижно, и Бажуков смотрел прямо в выпуклые и наглые Генкины светло-голубые глаза. Потом как-то спокойно и вроде бы нечаянно дернул его руку вниз и на себя. Генка ойкнул и присел. Саня проворно подхватил вывалившуюся гитару.
– Ребята, что вы? Ребята, зачем?
– Понял? – коротко спросил Бажуков, отпуская Генкину руку. – Дуй отсюда. Ну?!
Генка попятился, повернулся и как-то по-крабьи, боком, побежал, нелепо взмахивая граблистыми руками. Только у заулка он остановился и прокричал, что все мы гады и нам еще икнется от Генки.
– Еще и вправду подожжет, – улыбаясь, сказал Химик, – ума хватит.
– Не боись, не подожжет. Это ты говоришь: самоутверждение, то-се… – брезгливо вытирая о штаны пальцы, сказал Бажуков, – философию разводишь, а он просто трус, и все от этого… Вот так!
Я очень хорошо запомнил его тогдашнюю усмешечку. Она была почти что доброй. Во всяком случае, обмякшей. Словно какой-то мускул, долго сведенный судорогой и потому наболевший, вдруг отпустил.
– М-да, пожалуй, – Химик почесал щеку, задумчиво глядя в небо. – Гроза будет, а крыша небось протекает… Ну ладно, пошли спать.
Крыша не протекала, но спалось плохо. Всю ночь было слышно, как где-то далеко погромыхивал печальный августовский гром и дождь мягко шуршал о старенькую дранку.
Примерно через неделю после возвращения в Редкино я столкнулся с Бажуковым в чайной. Он был как-то тяжело, молчаливо пьян и ничего не сказал, кроме того, что скоро уезжает. Потом уже, стороной, до меня дошло, что у него и раньше были крупные нелады с женой и что, приехав из совхоза, он тут же стал оформлять развод, а через три месяца навсегда уехал из нашего поселка куда-то в Сибирь, кажется в Сургут, а впрочем, точно не знаю и врать не хочу.
Дело не в этом.
Меня частенько мучает странное желание крутнуть время вспять, к тому, что уже было однажды. Например, снова оказаться рядом с Бажуковым на юрятинском бережку. Посидеть, потолковать о Химике, о Наташке, а еще – о нем самом, о его собственном горе, которое тогда, в совхозе, мы умудрялись не замечать точно так же, как злую Генкину горлохватность и многие другие вещи… Можно было бы хоть объяснить Бажукову, что, как это ни странно, но мы были не столь уж тупы. Просто нам застило все собственное благодушие, у которого, говорят, вместо глаз узенькие, заплывшие жиром щелочки, видящие не предметы, а только розовое сияние вокруг них.
Да что говорить! Славно было бы посидеть с Бажуковым на бережку, покурить… И чтобы вокруг сгущались теплые сумерки и по зеленому склону бродили и взлягивали от избытка сил и жизни никем еще не погубленные белые кони.
ИНЖЕНЕР ГРИШКАН
Конечно, он и понятия не имел, какую представлял для меня загадку, как много я о нем думал. Мы и знакомы-то не были; тропинки наши пересекались случайно, слегка, и лишь однажды было так, что заговори я с ним – он бы наверняка ответил, да я так и не сумел… Трудно сказать отчего.
На переходном мостике, над рольгангом, я остановился просто так, поскольку никуда не спешил. Есть, знаете, нечто завораживающее в прокатке, когда с гулом несется на тебя стальная змея – мягкая, она еще светится вся глубоким золотым жаром, еще шелушится светло-вишневыми струпьями окалины – и вот уже скользнула под тобой дальше, по ту сторону мостика, и ударная пила, как из засады выскочив из своего водопада, с коротким воем отхватывает первый кусок. Слепящий сноп искр взрывает цеховую полумглу.
В этом вот свете я и увидел его: он стоял внизу, совершенно один – нахохлившийся седой воробышек, ручки в кармашках. Я узнал его тотчас, хотя помнил совсем иным.
Никогда раньше не видел, чтоб он так стоял – совсем один! Правда, я и вообще видел его редко.
У нас в ремонтно-механическом Гришкан появлялся лишь во время больших перевалок или ремонтов, да и то поздно вечером, даже ночью. Внезапно бухала дверь – он возникал в конце пролета, маленький и стремительный. Цех вздрагивал и замирал в почтительном страхе. Сквозь тяжкий гул станков проступал летящий стук его подкованных полуботинок. Черные полы расстегнутого плаща вздувались и отставали, а за ними, шумно, загнанно дыша в гришкановскую спину, торопились двое-трое, а то и с десяток импозантных мужчин.
Уж не знаю, оповещали ль цеховое начальство об этих визитах, сердцем ли чуяло оно приближенье грозы, но Гришкан со свитой не успевал пробежать и трети пути, как мячиком выкатывался им навстречу наш Аббас Рустамович, что-то поспешно дожевывая и заранее покаянно, преданно прижимая левую руку к полувоенного покроя тужурке. Гришкан, морщась, вслушивался в его клятвы и вдруг нетерпеливо взмахивал выхваченным из кармана кулачком – свита, загнанно дыша, устремлялась в направлении этого взмаха, плутоватый Рустамыч мгновенно оказывался в самых ее тылах и тоже трусил, утирая платочком жирную шею, чрезвычайно довольный, что он уже не пред гневным лицом, а за спиною начальства, где, как известно, гораздо уютней.
Но – бог с ним, с Рустамычем, ничем он не поможет, ничего не прояснит. Тут, как говорится, совсем иной случай.
Вряд ли кто-нибудь еще испытывал подобный душевный трепет просто при виде начальства. Особенно у нас, в большом пролете. Тут были не станки – махины, и такие работали асы, что даже директор, за ручку здороваясь с каждым, изображал самую свою широчайшую, самую сладкую улыбку. Нет, цену себе этот народ знал круто!
Я догадывался: цех замирает и следит за этим шествием не потому, что там главный инженер, а потому что – Гришкан же! Должность этого человека была заметна так же мало, как платье красавицы. И так же невольно притягивал он к себе чужие взоры и ожиданья.
Но – почему, почему?
Есть люди, чья внешность внушает другим совершенно безотчетную симпатию. Ну, тут уж ладно! Это от бога. Но ведь Гришкан был почти что урод. Маленькая, суховато-костистая его головка была всегда заносчиво и брезгливо вскинута, нос трехколенный какой-то, а нижняя губа так мясиста, словно прилеплена по ошибке, наспех. От полного уродства его спасало разве что отдаленное сходство с каким-то быстроногим и благородным животным. Что-то в нем было оленье, сайгачье…
До конца он никого не выслушивал, фразы бросал отрывистые, скрипучие, нетерпеливо фыркал и даже когда молчал, то мясистая губа непроизвольно подергивалась так, будто он с трудом удерживался, чтоб не сказать что-то презрительное, уничтожающее.
И этот вот человек пользовался у всех какими-то особыми правами, потому что он, видите ли, Гришкан! Разве не обидно?








