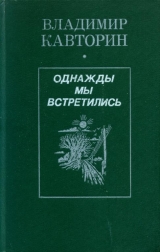
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Все это она мне досказывала уже по дороге. У развилки остановились.
– Вам туда? А мне на телятник бегчи. Прощайте, спасибо вам за беседу.
– Вам спасибо.
И опять я двинул по бригадам, где вроде бы видел все то же, что и вчера, только зерносушилка работала. День выдался жаркий, парило. Но дышалось и шагалось неожиданно легко, весело.
У Рождественно нагнал меня директор Козлов, ехавший в одноконной легкой бричке-кошевочке.
– Как ночевали? – спросил.
– Спасибо. Хозяйка у вас замечательная!
– Тося-то? Ну, еще бы! Она меня вот так выручила! – он чиркнул по шее ногтем большого пальца. – Четвертый день телят обихаживает, а вполне отказаться могла – инвалидка все ж таки. Да ей и не приказывал никто. А? Как вам это? Я говорю: наряд выпишем, заплатим, а она: «За что ж платить? Я ж оттого, как ревут жалостно…» А?
Я ни о чем не спрашивал его. Неизвестно, когда и как, но было уже решено, что фельетона не будет, как-нибудь отобьюсь. И думать мне теперь хотелось совсем, совсем о другом.
ОСТРОВ УХОДОВО
1
На этом острове я был всего один раз – неприютно-ранней весной шестьдесят какого-то года, вместе с Улановым, редактором нашей районки. Делать на острове было нам, в сущности, нечего, но на балансе редакции числилась моторная лодка, и шеф время от времени устраивал такие поездки, дабы никто не мог сказать, что она нужна лишь для его рыбалки. А поскольку из любых, даже самых неблагоприятных для себя обстоятельств он, по собственному его выражению, любил «доить двойной жир», то в последний момент с нами оказалась еще и Галя, молоденькая практикантка из университета. Меня это не удивило, но слегка, как говорится, заело.
Все это, впрочем, к делу не относится, рассказ пойдет совсем о другом.
Выехали рано. Низко над рекою ползли густые облака, похожие на изнанку старого тулупа; налетал порывами северный ветер, гнал длинные клинья ряби. Я сидел на носу вполоборота, прикрывшись от холодных брызг плащом.
Изредка облачная овчина рвалась, и тогда было интересно следить за солнечным пятном, быстро скользившим в отдалении: вот высветило оно сосны на обрыве, осеребрило серую, косо торчащую из-за них колоколенку, чуть погрело, погладило головы трем пацанам, спускавшимся с удочками по пологому взвозу. А как молодо вспыхивает в его лучах нежная, неполная еще листва рябин, как радостно светятся березовые жерди поскотины! Минута – и его уже нет, опять тянутся мимо плоские серые берега; проплывают песчаные кручи с торчащими поверху, как козырек, сосновыми корнями; склонясь к воде, стоят вдоль лугового берега зелено-серые купы ив, – и все это однообразно сыро, холодно, простудно…
Наконец, повернув ручку, Уланов сбросил газ, и лодка, нехотя опуская нос, скользнула в длинную узкую бухточку.
– Прибыли, – объявил шеф. – Остров Уходово. Прошу любить и жаловать.
Я выскочил первый, подтянул лодку, чтоб крепче сидела на отмели и, не оглядываясь, двинулся в глубь острова.
– Ну и кавалеры пошли, – осуждающе сказал довольный Уланов. – Придется уж мне. Прошу, Галочка!
Девушка засмеялась.
Остров Уходово считался в районе едва ли не красивейшим местом, но мне показался он неприютен, даже мрачен. В широких, поросших ивняком низинах, разделявших его округлые холмы, кой-где еще не сошла вода, сапоги выдирались из грязи с сочным чмоком. На холмах, раскинув во все стороны мощные сучья, стояли редкие приземистые сосны, вершины их глухо пошумливали, будто ворчали на ненужную, неуместную резвость ветра.
– Однако, работнички! А? Никого! – возмущался сзади Уланов.
– А что им тут делать?
– Ну, мало ли…
– А дойка уже кончилась? – чуть запыхавшись, догоняя нас, спросила Галя. – Представьте, я никогда не видела…
– Здрасьте! Какая еще дойка?
Она обиженно вскинула бровки-ниточки:
– Но мы ведь…
– Да тут, Галочка, не коровы, а нетели, – любезно пояснил Уланов.
– Нетели? Это как?
Шеф обрадованно расхохотался и сказал, что нетели – это коровы-девушки.
Удивительно неприятен и неуместен показался смех под этим сырым небом, среди жалких, ерошимых ветром кустов и несчастной, жмущейся в кучу скотины. Шерсть на телках висела неровно, клоками, комками; куски навозных лепешек присохли к мосластым ляжкам. В последние полгода все складывалось против них, бедных: долгая зима то с вьюгами, то с внезапными сильными оттепелями, скудный запас кормов, снег чуть не до середины апреля, потом два или три по-настоящему теплых дня, когда все начало зеленеть, и опять – дожди, холода, дожди.
– Девушки – не девушки, – раздраженно сказал я, – а зря мы сюда и ехали. Надо найти пастуха, а он небось в Нововыселках.
– Туда так туда, – согласился Уланов.
– А это что же – силос им возят? – Галя подняла с земли и протянула мне несколько травинок.
– Это рожь, – несколько смягчаясь тем, что она все же обратилась ко мне, а не к Уланову, пояснил я. – Где-то подкашивают и возят.
– Ну, хозяева! – возмутился шеф. – Дошли-доехали! Тут же лучшее пастбище во всем районе. Ей-богу, всегда так считалось!
Так мы с ним говорили, и всё будто бы о деле, хотя попросту пикировались из-за девчонки, которая к тому же ни мне, ни ему по совести была не нужна. Странно это, не правда ли?
Снова сели в лодку и, описав большую дугу, подошли к так называемому Охотничьему домику, филиалу какого-то санатория, куда, говорили, частенько жалует областное начальство – пострелять уток, зайцев… Уланов даже приосанился и посолиднел, подводя сюда лодку.
Сторожиха полоскала белье, стоя на специальном плотике у лодочного причала.
– Пастух-то? – переспросила она, разгибаясь. Волна от лодки покачивала ее плот. – Филат, что ль? Да вона евонный дом в Нововыселках, вона! На отшибе чуток. Он мужик ничего, уважительный, – добавила она.
– Народу много у вас? – спросил ее Уланов. – Юрий Тимофеевич у себя?
– Да никого. А Юрка дома, кажись. Вчера приехал.
Помолчали. Шеф что-то обдумывал.
– Так поехали? – напомнил я.
– Да придется, – Уланов замялся, – гостье нашей скучать там три часа удовольствие маленькое, да что поделаешь? – и заглянул мне в глаза каким-то скользящим, косым взглядом.
Я не удержался, хмыкнул.
– Зачем же ей-то скучать? – сказал. – Я один съезжу.
«Черт с ними, – подумал, – мне же легче».
– Ну, валяй! А мы тут… посмотрим.
Оттолкнувшись от мостков и с трудом развернув нашу широкую посудину, я оглянулся, сориентировался по кривой сосне на вершине холма и пошел себе не торопясь, на веслах.
Лодка пересекала протоку наискосок, остров сползал в сторону, открывая противоположный берег реки – ярко-зеленое, высвеченное солнцем озимое поле, рощицу и за ней серую колоколенку двориковской церкви, покосившийся ее крест. Крест этот тоже отползал, как бы погружаясь за темный ельник, совсем как зимой. Только небо тогда было другим – глубокой и яркой голубизны, да на перекрестье огненной точкой горело морозное солнце. Я видел этот крест, когда поворачивался и пытался идти против ветра спиной, задом наперед.
2
Был конец декабря, какое-то срочное газетное дело. Машиной завладели ветераны, а молодежь, то бишь я, обходилась собственными средствами передвижения, что, впрочем, было мне по душе.
Из Двориков вышел до обеда. Дорога по льду была отличная, накатанная до слепящего блеска, день солнечный. И мороз поначалу казался вполне терпимым. А под конец у меня уже и пальцы на ногах не болели, и зубы перестали стучать, а это плохой признак.
Только в Нововыселках, в чайной, в напоенном ее кислыми, сырыми запахами тепле, меня снова стало колотить, да так, что буфетчица невольно заторопилась, наливая перцовки. Я выпил и, прихватив каляными, негнущимися пальцами блюдечко с солеными грибами, пошел, натыкаясь на стулья, за печь-голландку, поближе к ее черному, потрескивающему от сухого тепла боку.
Чайная в этот средидневной час была пуста и тиха, но как раз за печкой, где я устроился, сидел старик в повытертой, серой кроличьей шапке, в обтерханном полушубке. На столе перед ним лежала очищенная луковица, большая и злая даже на вид – с синевой.
– Замерз? – спросил он, угрюмо взглянув на меня из-под сползающей на глаза шапки. – А вроде и не так чтоб холодно, а?
– От Двориков шел, – простучал я зубами. – В-ветер.
– Эт да… На ветру прозяб еще тот. Налить?
– С-спасибо, я уже.
– И то верно. Частить не надо. Самое тебе посидеть.
Он налил себе с четверть стакана и, выпив не спеша, как воду, стал жевать лук, подперев небритую щеку ладонью. Завернутые вверх, но незавязанные, уши его шапки вяло помахивали. Блаженная волна тепла катилась во мне от желудка к ногам; я закрыл глаза и отдался дреме. Когда очнулся, старик тотчас же налил калгановой и в мой стакан.
– Что вы? Зачем? – удивился я.
– Филат! – крикнула буфетчица. – Не приставай к человеку, умаялся парень.
Старик отмахнулся: «Иди ты!» – и подмигнул:
– Давай! Для почину выпьем по чину, а пойдет веселей – так без меры лей.
Я засмеялся и не стал обижать его, выпил.
– От Шестакова, значит, идешь? Он мужик головастый, вникательный. Худого не скажешь, а все ж и он как ему положено гнет, а не как надо бы.
– То есть как? – не понял я.
– А так! Положено ему держать поголовье на должном, значит, уровне – он и держит. А я коровенок ихних знаю, старья много, которое жрет только.
– А у вас?
Он не расслышал.
– Да-а, – сказал, – совхозу, положим, нету расчетов держать, а ему, выходит, есть расчет, Шестакову-то.
– Какой же? Ему по должности положено о прибыли думать.
– Должно да положено, да законы писаны, а жизнь себе, паря, криушает вольно: сюда рыскнет, туда… Ты ее вожжой потянешь, а она тебя – мордой, в грязь! С норовом! – он сбил шапку на затылок и налег грудью на стол, приблизив ко мне лицо. – Вот ты говоришь: должно! Я согласный. А тогда пускай во всем как должно, чтоб жизня вот так, как по рельсе, ходила. Бывает?
– Нет, наверное.
– В том-то и дело, что нет. Я вот на войну ушел – одного пацана оставил, а вернулся – их двое. Должно так?
– Н-нет, – невольно запинаясь и задерживая взгляд на его вдруг побуревшем злом лице, сказал я.
Теперь, кроме измятых щек и пористого носа картошечкой, был виден просторный его лоб, от половины совсем белый, без загара, с двумя запятыми крутых морщин над переносицей, и – главное – глаза: сверляще-маленькие, почти черные и так близко посаженные, что сама собой возникала мысль о нацеленной в тебя двустволке.
Мне стало неуютно, я надел шапку и приготовился смыться.
– Сиди, – сказал старик, – успеешь! Все нынче бегут, а куда бегчи? Вот так, паря! Родиться ему не положено было, а родилось. И живое. Маленькая такая, на кривых ножках по избе: туп-туп!.. Ясное дело: слабость бабья да жалость ихняя, будь она проклята! Жалостливая попадется – не женись, понял? И опять же: война, голод, а кровь своего требует. Ты погляди: после войны народ не народ был – одна изморина, а дети куда густей шли. Ну, ладно! – он неожиданно гулко, громко пришлепнул по столу громадною пятерней. – Что было, думаю, то ладно! Господь бабу из кривого ребра сшил – где ж ей прямо ходить? А сам ты, думаю, чем лучше? Тоже сердце с перцем, душа с чесноком. Синельниково взяли, так я там одну солдатку притиснул. Конечно, сама, дура, целоваться на радостях полезла, а я и попользовался. Воин-освободитель, туды твою!.. А тут одно, что не стреляли, а война та же. Но война, опять же думаю, была! А теперь мир, ты домой пришел, у тебя изба пуста, даже курицы перевелись, дети голодные, так что ты должен? А?
Старик поднял свой стакан, но не выпил, а повертел его, повертел да и поставил. И рукой на него махнул.
– Э-э, что тебе должно – это, паря, ты завсегда знаешь и другим указываешь очень даже правильно, как в газетке. А вот не могу если, не могу – хоть головой об стену! Костя Жерихов из Двориков – тот пришел, на такое ж прибавление глянул: «Так, – говорит, – мы не договаривались!» – и ходу. Больше и не видели его. А мне нищеты ихней жалко стало, пропадут, думаю, если уйтить. Так не мог, и этак – опять же не смог. Вот кручусь целый день, ходю и уговариваю себя, уговариваю: виновата она, так повинилась, больно тебе, так и ей больно – ну и вспокойся! Уговариваю, а внутри как крутит что-то, крутит, точно червь под ложечкой. Приду домой, гляну на нее: фу-ты, думаю, мать твою, как же она с ним-то?! Как заколодило меня, понимаешь? – старик махом выплеснул в рот водку и пристукнул по столу пустым стаканом. – Всё нараскосяк! Ото дня к ночи жил: днем уговорю, вспокою себя, ну, все, думаю, простил. И то ведь – на одном прощении жизня держится вся, больше ей не на чем.
– А на любви? – осторожно спросил я.
– От любви той, паря, вся и беда, – убежденно покивал старик. – Вот, к примеру, похожу я так день, иду домой. Прощать иду! А сам слова с добром-то не выговорю – как черт подсудобит – стукнет мне в голову, как она с другим-то, – так и собьет с пахвей! И – не могу! Схвачу шапку и вон! И выпью! Или сижу в избе и молчу, и молчу. До того домолчусь, что она заплачет, а я тогда чем ни попадя в нее – хлясь! А все отчего? Сердце еще к ней кипело. Понял?
Он помолчал.
– Вот, значит, почти полную зиму Настька моя все это терпела, а весной я на день в город, а она от меня в Низино, к Андрюхе-кладовщику. Оно понятно: грех грехом и вина виной, а как каждый день виноватят, эт кто ж утерпит? Андрюха ее, значит, взял.
– Это от которого…
– Не, то пролетно́й, неизвестно куда и делся. А у этого в войну померли все: сперва баба, потом девчонка. Остался один, да беспалый, да постарше меня… Конечно, после войны ожениться плевое дело было. За него и девка б любая пошла, да он, вишь, с двумя мальцами взял. Федьке восьмой год уже был, так вот… Тогда уж и я немножко в ум вошел, смолчал. Ладно, думаю! Нагрешили-накрошили, а вот как расхлебать-то? Меня в ту пору уже председателем наставили, ну, за делами оно само и пошло и покатилося. Дела лучше водки от самого себя отводят, а я тогда на работу лют был до ужаса. Чертомелили день и ночь, а мне все мало казалось, всё мне быстрей подавай. И все у меня у первого было – маяк! Конечно, когда с умом, так и соврешь, не без этого. Тогда всё на сроки жали. Такая мода была. Бывало, снег еще не сошел толком, а уже звонят: «Сев начали?» – «Начали, говорю, а как же?» – «Скольки?» – «Полга́». За эти полга́ и в «маяках» ходил, и в прехзидиумах сиживал. А мне очень тогда нравилось в прехзидиумах сидеть, оченно я себе в них гляделся!.. В общем, хреновый мужик был, это точно!
– Почему же? – оторопело уставился я на него. – Разве это вы виноваты – время такое было.
Он выпил и, не спеша жуя свою луковицу, которая даже у меня вышибала слезу, спросил:
– Какое?
– Ну, жесткое. Разруха же. Нельзя было иначе, наверное.
– По-человечеству завсегда льзя. А то одного мужика вытащили поперед всех: ты, мол, государственный интерес блюди, на прочих и не поглядывай, они так – мелочь. А грамотешки у меня шесть классов; я, конечно, и рад, что вперед всех выскочил: «Мне, мол, интересу нет, как вы живете, у меня интерес государственный! Во!» Коршуном кружил. А какой в том государственный, скажи, интерес, чтоб Федоров на райкомах меня хвалил да с собой в прехзидиумы сажал? Государству, так думаю, начхать, кто там сидит, ему самый интерес, чтоб детишки были сыты да мужик доволен. Я, к примеру, про государственный интерес речи говорю, а у самого в уме что? А то, что вы, мол, хаханьки за моею спиной хаханькаете, как баба Филата дожидалась, да дождавшись, убегла? Ну, так я вам за то покажу, какой я средь вас самый умный, я вам кажное поперечное слово припомню. Хозяина из себя строил, а сам воевал – не хозяйствовал. Колхоз был – маяк, а колхозники жили разве заречинских чуть лучше, а то… Я им раз за разом: «Мне интересу нет, как живете!» Эх! Бабы, говорят, на след мой плевались, да жаль, вот такого, чтоб в морду плюнул, не нашлось, кишка тонка оказалась. Хоть бы поклонился ему теперь. Много от меня людям обид было. Ох, много! С кладовщиков я Андрея, положим, за дело снял, недостача была, дак ведь он у меня и опосля из лесу не выползал, кажин раз я ему там государственный интерес находил. По энтому интересу его отправлю, а сам все во вторую бригаду норовлю, в Низино, мимо избы пройтись, Настюху встренуть. Нищета у них была там гольная, ребятишки сопливые вечно, она остарела совсем, хуже чем в войну, а все ж для меня будто черт в нее ложку меду поклал. Встрену и взглядом буровлю: попросись, мол, хоть мигни, дура, не могу ж я первый! А она нос воротит. Издаля увидит и – шасть к бабе какой! Ну?
Он взял со стола остаток луковицы, понюхал, потом вытер грязным пальцем серую слезу, катившуюся в седой щетине.
– Да-а, – сказал, – пьян я, паря. Всё! Пьян. Лук слезу вышибает, да-а… А ведь скажи – за меня много тогда баб сватали. Мисютина тут одна старалась по этому делу. Вечерком забежит в правление и давай то про одну, то про другую: дескать, по тебе сохнет совсем. Даже и девок сватала. Сижу, слушаю ее и думаю: права старая карга, надо бы. «Ладно, говорю, иди, поговорили!» А завтра встрену, о ком разговор был и… ну, не могу, с души воротит. Уж, думаю, не наговор ли какой Настюхин на мне? Партейный был, а думал – вот те крест! А всё ж одно… – он тяжело, со всхлипом вздохнул, помял руками лицо. – Одно на меня зря говорят: будто я Андрюху со свету сжил. Он сам вызвался горючку везти в тот раз, сам. Их, вот те крест, четверо у меня в правлении сидело. Я говорю: кто? Молчат. А вот так надо было, самого Федорова приказ: завезть горючку! Я опять: кто? Ну, он и встал: хрен, говорит, с тобой, поеду. Так с санями, с лошадью и утоп, бедолага, царствие ему небесное! Золотой мужик был, не мне чета. Настюха так даже умом тронулась. Или уже любила его? А? Как где завидит меня после этого, так вся дрожит и крестит украдкой, будто черта. Тощая стала, глаза выкатились. А какая она, паря, в девках была, эх! – он покачал головой, и глаза его затуманились. – Теперь и в городу таких нет.
– Она так одна с детьми и осталась? – спросил я.
– А я виноват? – он вздохнул. – Одна. Хошь – верь, хошь – нет, а все лето я думал, как с ней снова сойтись или хотя помочь. Через Мисютину денег давал – не взяла: «Боюсь, говорит, через евонные деньги беда горше выйдет». Да… И потом, как сюда возвернулся, опять до нее ходил. Пошел, на коленки стал, все как один старичок меня учил, – а все ж без толку. Теперя что – теперь Настюхи и нету уже. Да… Федька кобелюет где-то, и матери не писал, не то что мне. Одна Ольга недалеко, в Кириллове, нагулянная которая. Тоже вот: была в городу замужем, да вернулась: на роже синяк, на руках дите. Видать, жизнь как спервоначалу пойдет враскосяк…
Он махнул рукой, встал. Лопоухая его шапка оказалась рядом с лампочкой и на всю стену помахивала серыми крыльями тени.
– Все, – сказал он, – пойду! Извиняй за беседу, а к темноте на ферму мне надо, скотником я. Припозднишься – Аленкина ругается, не люблю бабьего визгу. Прощай!
И пошел, ничуть не качаясь, только излишне тяжело топая деревянной ногой.
– Забавный мужик, – сказал я буфетчице.
– Очеров-то, Филат? – удивленно посмотрела она на меня. – Пропойца он каторжный – какая еще в нем забава?
3
«Филат, значит, – в такт весельным взмахам думал я. – Филат, вот к кому еду. Как же он пастухом, с ногой-то?»
Нововыселки были пусты, тихи, одни гуси бродили по берегу огромной, почти во всю ширину улицы лужи, да из окон бывшего колхозного правления доносился девичий смех. Правление это располагалось когда-то над чайной, во втором этаже, и теперь там селили шефов – девчонок с Завидовской фабрики.
Очеровская изба стояла на отшибе, за ручьем, просторная и сама еще крепкая, хотя палисадничек перед ней, судя по всему, давно не знал хозяйских рук: черные стебли прошлогодней лебеды и крапивы тянулись до самых окон, таких грязных, что сквозь них ничего нельзя было разглядеть.
Старик сидел на порожке подпертого избочинами сарайчика, перебирал сетку, ковырялся в ней длинной деревянной иглой.
– Это ведь вы на острове пастухом, да?
– Я, ну.
– Вас Филатом Максимычем зовут, Очеровым? Я ведь с вами знаком, помните? Из районной газеты я.
– Очеров, точно, – оставляя работу, согласился старик, – а насчет знакомства, то вроде как… извините.
– Да вы и не можете помнить, что я из газеты. Мы с вами в чайной однажды разговорились. Зимой, не помните? Вы еще говорили, что жизнь всегда идет не так, как ей должно.
– Может, и говорил, – нахмурился старик. Подумав, вытащил из глубины сарая скамеечку. – Садитесь вот, что ж как перед начальством? После бутылки, конечно, чего не скажешь. Зимой я маленько тоскую, а со своими калякать не люблю – ну их! – вот и цепляюсь к кому чужому. А если чего не так было – извиняйте.
По спотыкливой этой вежливости, по тому запущенно-прихорошенному виду, какой бывает у пьяниц, решивших начать новую жизнь, или у обретших кой-какие надежды старых холостяков, я решил, что старик на этот раз непроходимо трезв, серьезен и скорее всего, кроме «да» и «нет», ничего из него не выжмешь. Однако на все вопросы Очеров отвечал очень обстоятельно, спокойно.
– Вода в речке высоко стоит – вот в чем беда вся, – объяснял он. – Самая трава – она завсегда в низинках, а на холмах что – сопля там, не трава, чох один. Конечно, ежели б тепло… Нашей русской травке много ль надо? Ведь это вот все, – он повел рукой по двору, – за два дня повылезло. Чуть ее пригреет, она уже и тут.
– Так, может, и не стоило еще везти телок на остров?
– А куды ж их? – удивился он. – Силос дочиста подъели. Либо на остров, либо уж на мясо прям. Да еще и возьмут ли? До того достояли, бедные, – взглянуть жалко.
– А что же вас пастухом? – спросил я. – У вас ведь нога…
– Да сам напросился. Меня раньше летом на пилораму ставили, а тут, вишь, заотказывались все, скучно им на острову, а мне все едино, мне с ними калякать не о чем. Кабы не на остров еще, а на острове нога что? Дальше воды не уйдут, а я лодкой – момент, и в любое место. Вот, кручусь. В такую, говорят, весну от одной спины мужичьей тепло. Крутись, значит, гни ее. Да что! Бровцын тоже из кармана травы не вынет. А ржицы он мне подкашивать позволение дал, это точно. Сейчас вот сетку поставлю – опять займусь косить да возить. А все ж тепло – оно должно б… А?
Попрощавшись, сбегал я еще в отделение совхоза, в Борки, завернул на ферму и только часам к одиннадцати подался обратно. Очеров как раз тоже был у мостков, снаряжался в путь. У него был хорошо просмоленный широкий дубок с легкомысленным моторчиком на корме. Под банками лежала уже коса, веревки, и хозяин укладывал в «бардачок» – сухой ящик на носу лодки – какой-то узелок и тяжелую низку вяленых лещей. Я посмотрел на них с удивлением.
– Вы косить? – спросил.
– Пойду, – буркнул старик.
Потом, вернувшись с веслами, пояснил все же:
– Вот, – сказал, – отвезу кошевину своим доходячкам да и махну в Кириллово. У меня там дочка в больнице, спроведать надо. Ну, прощайте! – и, намотав на маховичок, дернул шнурок от мотора.
Движок застучал, лодка пошла в протоку; остатки прошлогоднего камыша на мелководье тихо зашелестели, зашептались, мерно кланяясь вслед.
«Дочка в Кириллове – это он что же – о той, о нагулянной? Точно, она в Кириллове, Ольга, кажется». Я долго смотрел вслед его неторопливой лодке, непонятно о чем задумавшись.
На острове я с полчаса ждал, кричал и опять ждал своего шефа, нервничал и даже стал думать, что нехорошо поступил, оставив девчонку наедине с ним. Хотя… кто она мне? К тому же человек она взрослый и должна бы сама понимать, куда и с кем едет.
Наконец они показались на тропке. Галя шла впереди, очень спешила, Уланов с этакой успокаивающей беззаботностью помахал мне рукой из-за ее спины. По этой наигранной беззаботности я сразу понял, что ничего у него не вышло, даже близко не было, и обрадовался.
– А мы тут тебя ждали, ждали, – сказал Уланов, – да и зашли к Юрию Тимофеевичу, островному богу, технику-смотрителю Домика. Перекусили слегка. Народ тут, надо сказать, со вкусом живет, очень даже.
Девушка сразу и с подчеркнутой решительностью прошла на нос, уселась там, отвернувшись, так что Уланову и не оставалось ничего иного, как, вдруг проникнувшись интересами дела, начать расспрашивать меня обо всем с пристрастием.
– Значит, здесь одни доходячки? – переспросил он, оттягивая пальцами яркую, пухлую свою нижнюю губу. – Так… А может, поедем посмотрим и остальных?
– Не стоит, – сказал я. – Очеров не начальник, ему очки нам втирать незачем.
– Очеров? – вдруг удивился Уланов. – Филат, что ли?
– Филат.
– Надо же! Пастухом? Вот это умяла жизнь человека, ого-го!
– В смысле, что он председателем был?
– Если бы просто председателем, а то каким! Он же, знаешь, гремел, Федоров в нем души не чаял. Оба старой закваски мужики были: всех в бараний рог, а чтоб дело моментом! Да… Я тогда – это еще в пятьдесят третьем или даже в пятьдесят втором было – инструктором комсомола работал. И вот прихожу как-то в Нововыселки эти, еле добрался – весна, зажоры, тает все. Сразу к Очерову: надо, Филат Максимыч, молодежь собрать, провести работу. А он сидит… Этак рожу помял пятерней, а потом – на! – и фигу мне под нос, здоровенную. «Во, – говорит, – видал? Они у меня все сено возят с острова, пока река не тронулась, так там ты и проводи работу средь них!» И что ты думаешь? Пришлось сделать вид, вроде так и надо, шутка вроде, и пошел я себе в массы, сено возить, пример показывать. А на льду лужи уже. Везешь и не знаешь: доедешь – нет? Так я у них дней на десять застрял, как раз потеплело резко, все остатки дорог рухнули. Вот уж насмотрелся я на знаменитого председателя!
– А ведь он прав был, – подозлил я, – сено, оно…
– Ишь ты! Сено? А чего ж он его раньше не вывез? Да и знаю я, каким маяком этот Очеров на деле-то был. Зазнался, зажрался, только и делал, что водку хлестал… Как посчитали – больше полколхоза у него разворовано. Вот теперь он и есть Филатка-пастух, м-да! И чего возвращаться было после отсидки?..
И долго еще Уланов покручивал головой, все веселей улыбаясь. Видимо, та фига так крепко запомнилась моему самолюбивому шефу, что превращение грозного председателя в Филатку-пастуха очень его обрадовало.
– Ну что ж… – бодренько сказал он. – По домам, коли дело сделали?
Я не отозвался.
Странно, но меня ужасно занимало вот что: отчего же зимой, в чайной, Очеров ни словом, ни намеком не помянул тюрьмы? Если Уланов приезжал сюда после смерти Андрея-кладовщика, то как раз про тогдашний свой смертный запой Очеров и говорил. И вообще вытаскивались им на суд божий грехи не только, так сказать, удобопокаянные, нет! Вспомнил же он, например, солдатку синельниковскую, а? А тут уж такое, что тюрьма куда красивей. «Не-ет, – думалось мне, – что-то здесь не то…»
Я так глубоко задумался обо всем этом, что даже не заметил, когда сгустились и снизились тучи, разрослись почти на все небо… С каждой минутой они становились все гуще, темней, растрепанные их лохмы волоклись чуть не по верхушкам прибрежных сосен. Только на юго-западе меж осмеркшей землей и черным небом оставалась еще узкая щель пронзительной голубизны и кипящего солнца. Туда, напряженно задрав нос и подскакивая на волне, рвалась наша лодка, торопилась проскользнуть, пока не сомкнулись у горизонта темные челюсти земли и неба. И поневоле делалось страшно за тех, кто оставался у нас за плечами.
4
Месяца через полтора, в самый разгар грозового и знойного лета, шагал я из Кириллова, время от времени делая тщетные, а потому и робкие попытки остановить попутку. Тяжелые КрАЗы с ревом проносились мимо, роняя на выбоинах щебенку; их шофера сидели так высоко над землей, что вряд ли и видели меня. Постепенно я примирился с этим, решил, что пять верст до шоссе дело небольшое, а там – можно подождать автобус. А когда примирился, то, как это часто бывает, судьба и смягчилась: нагонявший меня «козлик» скрежетнул тормозами, и мой приятель Генка Зуричин закричал:
– Куда идешь, пресса? В ногу ль с народом?
– О! – обрадовался я. – Моя милиция меня бережет!
– Садись, старче, в ногах правды мало. Вперед!
– В город?
– А куда же?
– Со следствия?
– А как же?
– Интересное что? Или пока секрет?
– Да как тебе сказать? – Генка задумался. – И секрета нет, и интересного мало. Для газеты не подойдет.
– А все-таки?
– Так… Один чудак застрелился.
– В Кириллове?
– Да нет. Туда уж я последний лачок навести завернул. На острове застрелился, ночью.
– Кто? – и прежде чем Зуричин ответил, я уже знал это имя, знал все. На меня будто пахнуло холодным ночным ужасом, отчаянием.
– Кремневый был мужик, а на тебе, – помолчав, заговорил Зуричин. – Я ж сам низинский, с его Федькой до седьмого класса вместе дурака валяли. Федьку-то ты небось не знаешь?
– Нет.
– Вор в законе. Вместе росли, а вышли эвоно как, – Зуричин причмокнул. – Вот интересно: все тогда бедно жили, чего-чего только не ели… И сказать честно, так все мы тогда приворовывали, все пацаны. Обрат с фермы, горошек, морковку, колоски там. Только мы-то все не задумываясь, чтоб брюхо набить, а Федька со злостью. И вот большущая с этого разница вышла! Как-то поймали нас в морковном поле, привели к Очерову: «Что ж вы, говорит, сукины дети?..» А Федька губу скривил: «Мы не сукины, а кобельи!» Тот аж сел. Посидел, поглядел на него. «Так, – говорит, – идите пока, потом разберемся».
– А не знаешь, за что его судили?
– Федьку?
– Отца.
– Не, точно не помню. Я ж тогда фактически пацан был, хотя и думал, что взрослый. А Филат… Месяца за два, как его посадили, я к нему за справкой как раз приходил. В техникум хотел, в Калязин. Он сидит за столом: и так-то мужик быковатый, а напьется… Разлепил он один глаз с трудом, смотрел, смотрел на меня: «Нет, – говорит, – не дам. Эдак все разбегутся, останется одна неработь, вроде твоего батьки». А батька мой – он что? Нас четверо было, всякий кусать-жевать требовал, так он и наладился плести – корзины, кошелки, всякую чепуху. Инвалид войны, а до самой смерти чертомелил так – аж кости трещали. Но то не про колхоз сказано. Там он минимум выработает и – отвалите! Сердит был с колхозом. Вот Очеров нас и доезжал по всем правилам. Справка – эт еще что! Он и огород нам урезал, и стожки батькины вечно колхозу оприходует… Не у нас у одних, конечно, а всё ж чьи, если где на неудоби заметит, иной раз и отвернется, а Зуричина – хоть в лесу, хоть на болоте, хоть там полкопешки всего – отобрать немедля! Вот так. Я это все тебе к чему загибаю? Что мне его любить не из чего, Очерова-то, а все ж я не верю, что он, как говорили тогда, проворовался, пропил. Недостача – это, может, и было, и большая, поскольку счетовод у нас большой хитрован был.
– Вот, знаешь, и я почему-то не верю.
– А может, и зря не верим! – сказал вдруг Зуричин. – Дошкин-прокурор тоже честный мужик был. Старого закалу, еще Деникина бил. А ты Филата скотником застал?








