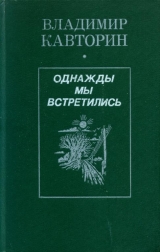
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Был легок на подъем… Это для газетчика достоинство несомненное, но в нем и это скорее раздражало, потому что каждая его поездка обставлялась точно какая-то смешная для шестидесятилетнего мужика ребячья игра в дальние странствия. В любую погоду он надевал высокие резиновые сапоги и всюду таскал с собой рыжий такой, негнущийся, даже не плащ, а… балахон, что ли? Причем это была не просто смешная одежда – это был символ. Символ его готовности «ради нескольких строчек в газете» терпеть бедствия и преодолевать трудности. Но какие, к черту, трудности? Дороги в нашем районе вполне приличные, и даже после самого сильного дождя можно обойтись без резиновых сапог, а без плаща-балахона так и подавно. Уж лучше переждать дождь где-нибудь под стожком или в сараюшке какой, чем таскать с собой этакое чудо-юдо.
Я тихо подозревал, что балахон нужен Чимбуру только для того, чтобы начинать свои репортажи так: «В Борцинское отделение совхоза я пришел в залубеневшем от долгого дождя плаще…» Это звучало как упрек. Вот, мол, я преодолел стихии, а они не преодолели. А может, и наоборот – как оправдание: не всякий, дескать, способен на такой подвиг!
Этот критический вариант обычного чимбуровского репортажа был еще наименьшим злом. Вообще-то Александр Тихонович критику баловал не очень. Он любил пафос. Большинство его заметок заканчивалось так: «Преодолевая все эти трудности своим упорным, самоотверженным трудом на благо Родины, редкинцы (завидовцы, кирилловцы, мокшинцы) на 10-е число заготовили свыше… тонн сена».
То, что это «свыше» все-таки меньше плана, его не смущало. «Ну и что? – говорил он. – В такое, понимаешь, лето? Это же не лето, а стихийное бедствие!»
И что бы я ни возражал, он только усмехался терпеливо, словно знал про себя нечто очень важное, все объясняющее, но такое, что по молодости лет собеседника говорить бесполезно. Во всяком случае, я так понимал эту усмешку.
Я уставал от его упрямства, от собственной злости, махал рукой, вычеркивал «самоотверженным» и «на благо Родины» и ставил свою подпись. Он обрадованно выскакивал в коридор, тут же возвращался.
– Слушай, – говорил он едва ли не возмущенно и уж во всяком случае обиженно, – а что ты на это слово взъелся: «самоотверженно»? И тут почему ты убрал? В этом же весь смысл!
– В чем?
– Да что народ, понимаешь, на благо Родины, а не только за всякие там поощрения матерьяльные, понимаешь!
– Александр Ти-хо-но-вич, – умоляюще растягивая слова, начинал объяснять я, – а в других совхозах не так, что ли? А мы с ва-ми?
– Правильно! – соглашался он. – Конечно! Все мы на благо Родины, везде…
– А раз везде, так что ж – об этом в каждой заметке талдычить надо? Так, что ли?
– Ну почему… не в каждой. А здесь, понимаешь, есть смысл. Здесь речь о трудностях идет. Понимаешь?
И чем, вы думаете, кончались такие разговоры? Ведь восстанавливал, восстанавливал-таки я эту вычеркнутую самоотверженность, и Чимбур уходил довольный, а я только обзывал себя тряпкой, да мне же в конце концов и попадало за отсыл в секретариат сырых заметок.
А его стиль? Боже, сколько мучений! Он умудрялся в один абзац втиснуть три предложения, начинающихся с «потом».
– Так нельзя же, – страдая, говорил я.
Он высоко вскидывал кустистые седоватые брови.
– Да? А почему? Ведь так и делают: это, потом это, потом это.
Ну, в общем-то ладно, не о том речь.
И вот в июне нашему Чимбуру исполнилось наконец шестьдесят лет. По поводу этого заветного рубежа состоялось в редакции торжество среднего масштаба с поднесением виновнику настольных часов и с пожеланиями счастливого отдыха.
Я ни минуточки не сомневался, что старик тут же и побежит на пенсию. Тем более что оклад у него был всего девяносто рублей, а пенсии он мог огребать сто двадцать.
Нет, я не придавал тогда такого уж большого значения деньгам, и насчет морального удовлетворения я в общем-то все знал, и даже статьи об этом писал, – и не хуже чем у людей статьи выходили, а… как бы вам объяснить это все?
Мне как раз казалось, что Чимбур никакого такого удовлетворения, никакого удовольствия от своей работы иметь не может. Вот я – я имею! Я молодой, перспективный, способный. Пишу легко, быстро, меня все хвалят. Но если человек, мучительно пхекая и сипя больными бронхами, после десятикратных перечеркиваний вымучивает фразу: «Вследствие дождя сушение сена шло не на должном уровне», то какое, скажите, удовлетворение может получить он? Да он при первой возможности должен драпать от такой работы, бежать и не оглядываться!
Вот я и не сомневался, что он немедленно уйдет на пенсию, ну разве что два положенных месяца отработает. А тут мой приятель как раз уволился с завода, и я с легким сердцем посоветовал ему не торопиться с новой работой. Дескать, со дня на день должно освободиться место, а кому же на это место и претендовать, как не моему другу, студенту Литинститута, человеку талантливому и все такое.
И вот время шло, приятель ждал, а Чимбур наш продолжал жаловаться на боли в груди, на одышку и продолжал работать.
– Быть может, он просто забыл, что у него есть пенсия? – спросил однажды приятель.
Я только пожал плечами.
…Я тогда снимал комнатку у одной старушки, и в этой комнатке мы, сидя у окна, сумерничали, потягивая от скуки дешевое алжирское вино. К тому же в подражание только что вышедшей и нашумевшей книге Хемингуэя о Париже мы даже вино разбавляли водой, и это странным образом поднимало нас в собственном мнении. И говорить мы пытались тоже на хемингуэевский манер – все больше намеками и умолчаниями. Не считая, конечно, тех случаев, когда нечаянно срывались в бурный, бестолковый и многословный спор о высоких материях.
– А может, ему стоит слегка напомнить, а? – снова спросил приятель.
Я пожал плечами, уже в том смысле, что я, пожалуй, с ним согласен, но…
– Как же это сделаешь? – спросил я.
– Да так! Просто взять – и сказать!
– Не знаю. Что ж… Так, что ли, подойти и бухнуть: «Иди-ка ты, братец, на пенсию!» У меня, например, так не получится.
– Ах, не получится? – с насмешливой театральностью воскликнул приятель. – Ах, какие мы все деликатные! Сказать человеку в глаза: ты плохо работаешь – это, конечно, выше наших сил. Эх ты, гнилая интеллигенция!..
Вообще-то, насколько я его знал, приятель мой был человек мягкий, уступчивый, пожалуй даже трусоватый слегка. Ну, не то чтобы трусоватый, а скажем так: легко пасующий перед чужой решимостью. Но как раз такие вот, всегда тихие и мягкие, иной раз почему-то срываются и, с особенным смаком обозвав себя гнилой интеллигенцией, начинают так распаляться и надуваться своей будущей твердостью, решительностью, что вдруг отламывают штуки, до которых и жлоб-то не всякий дойдет.
Приятель мой, отругав как следует и себя и меня за подозреваемую мягкотелость, объявил, что все, баста! Он сегодня же вечером сходит к Чимбуру и все как есть ему скажет.
– Неудобно вроде, – промямлил я и тут же вспомнил, что это ведь не кто-то другой, а я сам посоветовал ему ждать чимбуровского места и вроде как бы заманивал его этим, соблазнял, что ли, и потому тоже не так уж тут чист. – Неудобно, конечно, – поправился я, – но, с другой стороны, почему бы и не сходить? Поговорить… Ну, хотя бы просто выяснить его планы, объяснить ситуацию. Так? Ведь он не может не понимать, что, что… Да и, строго говоря, все-таки чужое место человек занимает!
– Вот именно! – подхватил друг. – Пойти и объяснить, что дело обстоит так и так. Да? И спросить…
И так вот, перебивая друг друга и прихлебывая винцо, мы в десять минут порешили, что вообще ничего нет на свете естественнее, чем пойти и спросить у человека: не собирается ли он увольняться? Дескать, место его другим нужно.
На другой день я пришел в редакцию очень рано. Чимбур уже сидел за столом, не снимая своего знаменитого балахона и болотных сапог. Искоса смотрел в окно и монотонно, как заведенный, кивал, поглаживая указательным пальцем нос. Чрезвычайно сосредоточенный получался у старика вид! Даже величественный! И все это величие рассыпалось, едва только я сказал «Здрасте».
Старик сразу весь всполоснулся, обрадованно взмахнул руками, крылья его прически тоже взмахнули, балахон зашуршал, затрещал – и в этих мелких бестолковых движениях сразу же проглянула жалкая растерянность, оглушенность какая-то.
– Что это вы так рано? – спросил я.
– Знаешь, твой приятель-то, оказывается, на мое место метит, а? – он сообщил это как-то жалобно, стараясь заглянуть мне в глаза.
– Вообще-то знаю, – сказал я и сам почувствовал, что в этой деланной невозмутимости, небрежности тона слишком уж проглядывает желание спрятать внезапный стыд. – Он как-то спрашивал, не собираетесь ли вы на пенсию? – Я несколько замялся и поспешно перешел в наступление: – А что тут удивительного? Он учится.
– Да, конечно, чего же… Место для него хорошее, кто спорит? Но ведь я-то… – Чимбур запнулся и махнул рукой. – Нет! Но понимаешь, приходит он вчера и мне прямо с порога: «Вот, Александр Тихонович, у меня двое детей и плохое материальное положение, и два месяца я уже не работаю, так, может, вы уйдете на пенсию, а я займу ваше место?» А я…
– Так прямо и сказал? – усомнился я.
– То есть это дословно, понимаешь?! – подтвердил Чимбур. – И главное, прямо с порога. Я говорю: «Проходи», а он прямо от двери давай выкладывать. Мое-то самочувствие понимаешь? Тут же жена стоит…
– Конечно, конечно… Как же он так? – согласился я и почувствовал, как мучительно, от шеи, краснею.
Почему-то вдруг подумалось, что приятель непременно рассказал старику и о моих советах, и о разговоре за винцом, и что Чимбур сейчас скажет: «А ты, мол, тоже гусь! Вчера сам подбивал, а теперь, видишь ли, он удивлен и считает, что слишком…»
Но Чимбур сказал другое.
– Вот ты за него краснеешь, – сказал, – а он и не подумал покраснеть. Я говорю: «Как же вы, Миша, ведь это все равно, что прийти к больному и спросить: не собираешься ли ты, старый, помирать?» А он: «Я, говорит, вам не помирать предлагаю, а на пенсию уйти, на заслуженный отдых. Ведь от вашей работы всем один убыток. И вам в том числе». Представляешь, так и сказал: один убыток! А? Что же выходит, что я… Понимаешь? А ведь я…
Он так и не договорил, а только, махнув рукой, сел на место. Я стоял к нему вполоборота и перекладывал на столе ненужные бумаги. Был как раз тот случай, когда все, что ни придумаешь сказать, – все худо. И, может, самым лучшим было как раз то, что нечаянно и сказалось.
– Александр Тихонович, а в сторону Девичьего вы на днях не собираетесь? – вдруг спросил я.
– А что?
– Да у них все лето надои в минусе. И вообще… Посмотреть надо. Мне в Заволжское ехать, не по пути.
– А что? Съезжу! Конечно, съезжу, у меня запросто, – зачастил он. – Сейчас вот прямо…
– Да вы хоть командировку оформите. Туда обыденкой не обернуться.
– А! Плевать на командировку. Сейчас вот только жинке позвоню и поеду! Ничего… Поеду…
Вернулся Александр Тихонович только через день, когда вся эта неприятная история уже слегка подзабылась, и так как еще недели две все оставалось на своих местах, то можно было считать, что кончилась она ничем.
Я и сам так думал почти что год. Во-первых, так было удобно, а во-вторых, ведь и потом, когда старик стал увольняться, он ни разу не вспоминал о разговоре со мной или с моим приятелем. Говорил, что на пенсию его гонят врачи, и это было давно и всем известной правдой.
К тому же приятель мой так и не стал литсотрудником. Раньше наш редактор обещал обязательно его взять, а тут вдруг усомнился: потянет ли? Может, втайне решил, что мой приятель в редакции – это лишние для него неприятности? Впрочем, и друг мой ничего, не пропал. Не таким уж безвыходным оказалось его положение. Устроился инспектором районного отдела культуры, стал писать очерки в областную газету и меньше чем через год уже наезжал в наш городок в недосягаемо высоком звании собкора. В общем, пошел человек в гору, да так круто, что скоро, как говорится, стало и рукой до него не достать.
Но это было еще впереди, а пока что дождливое лето, возведенное Чимбуром в ранг стихийного бедствия, по-доброму разгулялось. Яровое убирали и озимое сеяли при палящих душных зноях, и пышные высокие шлейфы пыли тянулись за сеялками. Потом враз защекотали землю морозы; картошку копали в звонкую сухую колоть, под белыми мухами. В общем, такая пошла круговерть, что стало ни до сотрудников, уходящих на пенсию, ни до чего…
Зимой старик Чимбур стал регулярно, этак к концу дня, заглядывать в редакцию. Теперь его рыжий плащ был напялен поверх овчинного тулупа и стеганых штанов, а на ногах были высокие черные катанки, неуловимо напоминавшие болотные сапоги. На узких полозках от детских санок он тащил за собой фанерный короб с привязанной сверху пешней и коловоротом. В редакции из короба с хвастливой неторопливостью извлекались скрюченные окуньки и подлещики, и Чимбур, подмигивая, объяснял, отчего они такие – выбросишь его на снег, хулигана этакого, он так и сяк извивается, норовит в прорубь ускакать и вдруг затихнет… В последний раз дернется, да и замрет этакой запятой – но это уже не запятая, а точка. Замерз голубчик, хана!
А потом незаметно подошла и всех втянула в свою торопливую сумятицу весна, весновспашка, посевная, опять стало ни до чего, и никто не заметил, что с приходом тепла Чимбур перестал показываться в редакции. Погоды стояли парные – с жарой и легкими дождями, – они гнали лето внахлест, не успела кончиться посевная, начался сенокос, а за сенокосом такие подоспели озимые, каких давно не видели в наших краях. Лето выдалось радостное и слегка суматошное от обилия забот.
В середине августа, не помню уж какого числа и за какими делами, вошел я в клетушку, служившую у нас кабинетом заместителя редактора. Сбоку от стола, на диванчике, сидела женщина в черной шелковой косынке.
– Здрасте, – сказал я.
Женщина мне не ответила, а наш зам, лысый и какой-то вечно обтрепанный человечек, будничным голосом сказал:
– Слушай, звякни ну-ка этому своему Быкову. Может, завтра автобусом у него разживемся?
Ни в словах, ни в тоне его не было ничего чрезвычайного, и я весело, даже как-то игриво согласился:
– Эт можно. А зачем вам целый автобус?
– Да вот, Александра Тихоновича хоронить надо, – сказал зам и, пристукнув карандашом, кивнул зачем-то на женщину.
Трубка, уже поднятая мною, с глухим стуком легла на рычаг.
– Как? – растерянно, не понимая собственного вопроса, спросил я. – Уже?
И это дурацкое «уже», бог знает почему, болезненно на всех подействовало. Даже зам как-то кисло сморщился, а рот женщины судорожно дернулся на сторону, и она, прикрыв его уголком черной косынки, поспешно пригнулась к коленкам – заплакала.
– Что делать, – услышал я как сквозь вату какую-то или стекло. – Что Делать, Анна Макаровна? Все мы так: гоним жизнь, ругаем, вот, думаем, выйдешь на пенсию, заживешь наконец, а тут… Эх, да что говорить! А ты звони, звони, ничего… – разрешил он мне. – Жалость – жалостью, а дела – делами.
Квартира Чимбура была в одном из новых домов, на первом этаже. Часов в одиннадцать, теснясь, оступаясь в слишком узких дверях, вынесли оттуда обитый кумачом гроб, установили его на табуретках, и гражданская панихида началась.
Народу было не так уж и много. Съехавшаяся родня, соседи, да наша редакция, да несколько стариков – приятелей по рыбалке. Но когда зам наш стал у изголовья гроба и, глядя куда-то поверх голов, скрипучим голосом сказал: «Товарищи!» – все вокруг затеснились, будто на плечи каждому напирала толпа.
– Сегодня мы провожаем в последний путь Александра Тихоновича Чимбура, – торжественно провозгласил он. – От нас ушел коммунист, вся жизнь которого, нелегкая порой жизнь, была посвящена делу борьбы за справедливость, за дело партии и рабочего класса…
На старческой шее зама беспокойно дергался острый кадык, увенчанный на самом кончике несколькими невыбритыми седоватыми волосками. Это я видел очень ясно, так же ясно, как слышал и отмечал про себя казенную торжественность каждой фразы. А вместе с тем мне почему-то казалось, будто я и не слышу ничего, кроме затрудненного и хриплого от горя дыхания тесно стоящих людей. И еще – будто сквознячок какой гулял между лопаток.
Сбоку от меня кто-то всхлипнул. Я быстро оглянулся, увидал толстуху, розовым скомканным платочком промокавшую глаза, и бог знает по какой логике, но вдруг подумал, что штампованность фраз меня раздражает зря, что никакая другая речь тут невозможна, не нужна и что, может быть, только это торжественное безличие слов соответствует тому самому глубокому, самому сокровенному, что знают эти люди про Чимбура и чего при жизни он так ни разу о себе и не услыхал. Да и сам не сказал.
Истончившиеся в болезни губы Чимбура застыли в неком подобии полуулыбки, и виделось, будто он, прикрыв глаза, слушал речь о себе с напускной иронией и тайным удовольствием. Крылья его беспокойной мальчишеской прически чуть шевелились, тревожимые ветром. А живые стояли вокруг него, сняв кепки и шляпы, и тот же ветер шевелил их волосы…
По новой части города гроб несли на руках.
Вышитый рушник, так старательно расправленный вначале, через несколько шагов скрутился в жгут, плечо ныло, потная рука судорожно пыталась удержать предательски скользкое полотно. Я старался на совесть, и мне было даже приятно, что гроб так тяжел, так неуклюж, а я все-таки несу и буду нести еще долго, быть может, пока не выбьюсь из сил. И в этой старательности я ловил себя на чем-то наивно-заискивающем, точно я пытался таким образом заранее загладить какие-то еще не объявленные мне грехи. Так в армии и маршируешь с особой лихостью, и вытягиваешься перед старшиной не когда-нибудь, а наутро после самоволки.
Может, я ошибался, но та же натужная старательность чудилась мне почему-то и в старике, несшем впереди нас на алой подушечке единственный орден и две медали покойного; и в той самой довольно миловидной, несмотря на свою необъятную толстоту, тетке, которая раньше все всхлипывала и промокала глаза своим розовым платочком, а теперь, шагая за мной, вела под руку Чимбуршу с таким видом, точно та без ее опеки и шагу не смогла бы пройти… Да и в других – тоже.
День меж тем незаметно осмерк, еще на кладбище потянуло прохладой, стало потихоньку крапать. А когда автобус подкатил опять к чимбуровскому подъезду, дождь лил как из ведра.
– Вот я говорю, Анна Макаровна, что значит – покойник душевным человеком был! – улыбаясь, сказал зам Чимбурше, хоть до этого никому и ничего такого не говорил. – Какие слезы небо-то льет, а?
Я болезненно поморщился, но Чимбурше фраза понравилась. Она даже улыбнулась чуть-чуть, проходя, а зам наш уже подбадривал кого-то другого.
– Ничего-ничего, – говорил он, – это дождик окатный, быстрый. Пока подзакусим, все разгуляется.
К поминальному столу все готовили и подавали племянницы, но Чимбурше, видимо, все же не сиделось на месте, она ходила вокруг, зачем-то подвигала гостям тарелки: «Кушайте, кушайте!» – и, присаживаясь то тут, то там, рассказывала. Один раз она села совсем близко от меня.
– Ну шо, Аня, как же он-то, а? – тотчас же, словно понимая, как той нужно о чем-то рассказать, спросила ее незнакомая мне старуха. – Маялся?
– Маялся, как не маяться, – вздохнула Чимбурша и стала с готовностью перечислять: – И в грудях болело, и в животе, и все пугался, бывало, по ночам – вдруг так вот вскочит и сидит, в угол смотрит. А потом ничего… Отпустит немного, он мне и говорит: «Ничего, Аня, может, до зимы и доскриплю. А зимой полегчает». – «И то, говорю! Саша, зачем же мужику в шестьдесят лет помирать? Рано!» – «Рано, говорит, верно, да уж как есть. Меня всю жизнь, говорит, не спросясь выталкивали».
– Это он верно, – сказала старуха и погладила Чимбуршу по плечу. – Я гляжу: все так и идет на этом свете. Не успела в девках нагуляться, уже детишки пошли, вырастить не успела – ан внуки подпирают, давай, мол, бабка… Вся жизнь такая – будто кто в спину толкает. Это он, Аня, верно, это он хорошо.
Вышли мы вместе с замом. Он постоял под бетонным козырьком подъезда, повздыхал, что вот утром не догадался взять плащ.
– Так дождя-то уже нет, – сказал я.
– Все равно, мало ли… А поминки они славные отгрохали. Я вот… – он провел пальцем по горлу, – сыт, пьян и нос в табаке. Ну, счастливо!
За два часа поминок что-то во мне настолько измучилось и одрябло, что даже эти слова меня не задели. Я вяло тиснул его руку и побрел восвояси.
Дождя уже, правда, не было, по краям асфальта, у поребриков, текли мутные, сероватые, как пена при стирке, ручьи. Растрепанные тучи волоклись над головой, и все вокруг, кроме свежевымытой блестящей зелени, было печального, дикого цвета. Все мне чудился кладбищенский запах влажной лежалой глины и обвядших цветов, парок от мокрых платьев и пиджаков, сдержанно разгорающийся гул поминок, бестолковое кружение Чимбурши вокруг стола и ее монотонные, будто заученные рассказы…
И один вопрос неотступно, раздражающе крутился в мозгу: кого имел в виду старик Чимбур, когда говорил, что его вытолкнули на пенсию, – врачей или все-таки меня с приятелем? Если последнее, то как это глупо! Не говоря уже о том, что я-то тут совершенно ни при чем, что, собственно, можно поставить в виду моему приятелю? Бестактность? Всего лишь? А можно ли во всем мире найти хоть одного человека, за которым не числилось бы столь малого греха? И право же, как это глупо, как обидно, что ни оправдаться, ни что-либо объяснить уже нельзя. Некому.
Вспоминались отчего-то и те скрюченные подлещики, про которых сам Чимбур еще зимой объяснял в редакции, как они дергаются в последний раз и замирают этакой запятой, но запятая эта на самом деле точка, потому что все, замерз голубчик!
Смерть – точка.
Тогда мне это казалось самым жестоким и страшным. Точка, не запятая… После запятой можно еще написать «но» или поставить это самое «или», тогда все, что было до нее, получит другой цвет и смысл. После точки ничего не поставишь и не попишешь.
То, что в смерти действительно самое страшное, я понял много позже. Лет десять, то чаще, то реже, вспоминалась мне и мучила меня вся эта история со стариком Чимбуром. И никак мне было ее не забыть. Ведь умершие вовсе не исчезают из нашего бытия – они продолжают незримо присутствовать и в думах наших, и в наших счетах с совестью. Да что там! Они даже меняются, и еще как! Из смешных становятся обаятельными, из наивных – мудрыми.
А вот нам, после поставленной ими точки, действительно ничего не добавить и не изменить. Мы с ними умираем такими, как были при них, – глупыми, злыми, виноватыми… И потом можем это понять, но никак не исправить. Это-то самое страшное и есть.
Давно уже растерял я из виду всех, кто упоминается в этом рассказе. Не знаю, где обретается теперь наш зам, жива ли старуха Чимбурша…
С одним только моим приятелем и однокашником по институту мы еще видаемся изредка. Он теперь большой человек! Когда мы встречаемся, он так ласково и дружелюбно треплет меня по плечу, что все, знаете, неудобно как-то спросить: вспоминается ли ему иногда верхневолжский наш городок и старик Чимбур?
НЕТ ЛИ СРЕДИ ВАС ДЕТДОМОВСКИХ?
Я ночевал на трассе, в бригаде трубоукладчиков.
Был сентябрь, темнело уже относительно рано, и в сумерках все вокруг оживало, как бы распрямляясь, стряхивая с плеч удушающую дневную жару.
Порядки, однако, царили на трассе строгие. Чуть, поужинав, начали расшевеливаться, расходиться, чуть затенькала где-то гитара, как тут же раза два предупреждающе мигнул свет и вдруг захлебнулся последним всхлипом, чихнул и смолк монотонно стучавший движок. По мысли начальства, гореть свету после десяти часов было незачем – пора спать. А народ на трассе такой молодой, что уснуть ему в этот час невозможно; и долго еще в наступившей тишине и темени шастали меж вагончиков какие-то тени и вспыхивала ночь испуганными вскриками, хохотом или бранью. Называлось это – гулять.
Из нашего вагончика, впрочем, гулять никто не пошел. Покурили в темноте на крылечке, глядя, как желто-голубым вспухают и тают вдали фары проходящих трубовозов, да и порешили – на боковую… Легли, поворочались – не спится. Тут и пошла потихоньку травля. Треп пошел. Особенно Коля Мирутко заливал. Маленький такой, почти бессловесный днем изолировщик. Байки он выдавал тихим ровным голосом, но, во-первых, сам никогда не смеялся, а во-вторых, паузу умел выдержать, как настоящий актер.
И – «го-го-го!» И – «га-га-га!» Стенки трясутся…
В самый разгар трепа заявляется к нам еще один гость – вошел, чуть пригнувшись, весь черный на голубовато-лунном фоне раскрытой двери. Длинный, рукастый.
– Здорово, – говорит, – мужики! Весело живете…
– Не жалуемся, а тебе кого?
– Да вот сказали, у вас переночевать можно. Место свободное. Я тут на трубовозе, поломался малость… Га?
– Поломался – так дальше на тройке дуй, – предложил Колюня.
– Чего-чего?
– На собственной тройке дуй! Две ляжки в пристяжке, а сам в корню.
«Го-го-го! Га-га-га!» – взорвался вагон. Мужик растерянно покрутил шеей, а потом вдруг и сам заколыхался, зашелся смехом.
– Язвы вы! – говорит, отдышавшись. – А где ж все-таки у вас тут приткнуться? Га?
– Да вон в углу верхняя койка.
Он по-солдатски быстро, ловко скинул, сложил на тумбочке свою рубашку, штаны, душновато отдающие соляркой, запрыгнул в койку надо мной и, еще укладываясь, выдал, напирая на мягкое украинское «г», что-то такое – не помню уж что, – чему все посмеялись. Потом, однако, он как-то затих, помалкивал и только подхихикивал чуть-чуть, как бы выдавливая из себя смешок, чтоб другие не обиделись, хотя вряд ли кто-то, кроме меня, это и замечал. Хохочущие люди к другим неприметливы.
Полежал он так, полежал, потом прокашлялся и посреди общего хохота.
– Да, – говорит, – мужики, весело у вас, хорошо, а вот… – Тут вдруг примолк, и мы тоже притихли, ожидая очередную байку, а он: – А вот нет ли среди вас детдомовских? Га, мужики?
Мы как-то растерялись немного, а Колюня говорит:
– Как не быть? Вот я, например.
Со смешком говорит, игриво. Думал, анекдот про детдомовских будет…
Он выговорить не успел толком – мелькнули надо мной босые ноги, мягко шлепнули об пол, – и уже наш гость возле него, в противоположном углу. С фонариком. Откуда он и взял-то его? И прямо Колюне в лицо светит, в глаза.
Тот растерялся, а может, и струхнул малость, отпрянул к стенке, заслонился растопыренной пятерней.
– Ты что, – спрашивает, – сдурел? Убери пушку. Шизик, понимаешь…
– Где, где детдом твой был? Где? – севшим голосом, умоляюще выдохнул гость. – И год рождения, слышь?
– Мой? В Коврово. Рождения сорок седьмого. А чё? Чё ты прицепился ко мне? Милиционер, что ли?
– Извини, извини… – говорит гость. Потушил свой фонарик. По плечу Колюню похлопал. – Ничего. Это я так… Сдуру, считай.
Натыкаясь на койки, тяжело ступая, пошел обратно.
– Извините, – пробормотал, – мужики. Перебулгачил я вас. Человека одного ищу. Только он того… с тридцать девятого. Так что…
– С тридцать девятого? – тихо говорит Колюня. – Я у нас таких взрослых и не помню.
А больше – никто ничего. Молчим. Прислушиваемся, как гость долго возится, укладываясь. Ждем: не скажет ли еще чего, что, мол, за человек, зачем так до зарезу нужен?.. Нет, не говорит, только вздыхает чуть слышно, прерывисто. И все постепенно засыпают, отчего-то не нарушая больше молчания, быть может не решаясь каким-то случайным разговором облегчить или хоть потревожить внезапно придавившую сердце тягость.
Назавтра наш ночной гость вез меня в поселок. Сорок восемь километров.
Поймать на трассе попутку – пара пустых, но уж так я подзадержался, подгадал. Посмотреть на него хотелось. Лет ему было тридцать, ну, может, с хвостиком. Руки темные, со вздутыми венами, лицо длинное, худое и тоже темное. Единственное на нем светлое пятно – усы. Пышные, пшеничные, по самым кончикам чуть опаленные табачной рыжиной. Время от времени он слегка шевелил ими, будто все пытался и никак не мог улыбнуться. Видно, переживал за вчерашнее. И оба мы долго упорно молчали, скучливо поглядывая на плоскую и однообразно бурую мангышлакскую степь, на зеркальные просверки круто просоленных такыров у горизонта.
– Вот у нас тоже степь, – сказал он наконец, – и осенью тоже голо, конечно, а все-таки глазу веселей, да…
Давно это было. Многого из его рассказа я уже и не помню. Но если так, в общих чертах, то выходило, что дело все в одной картинке. В сценке такой, вдруг являющейся ему то во сне, а то и среди дня.
Виднелась ему сначала рука. Детская, тоненькая, смутно и беспомощно белеющая в густых сумерках. В этой руке самый-то страх и был. Она такая хрупкая, что вроде вот-вот обломится, а милиционер шагает себе спокойно, крупно, подергивает ее, волоча за собой малолетнего воришку. Тот упирается, плачет. Безногий катится на своей колясочке немного впереди и сбоку от них, часто останавливается и, как юродивый на крестном ходу, кричит что-то отрывистое, непонятное, потрясая утюжком в сторону арестанта.
Они удаляются под уклон, к реке, туда, где над погруженными в туман заречными садами догорает спокойный зеленовато-желтый закат, чуть золотя над головами сухую пыль, поднятую множеством ног…
Негустая толпа медленно и шумно обтекает Кирилла. Младшего уводят, а он стоит, весь ватный от ярости и бессилия.
Такая вот картина. Нестираемая. Внезапно вспыхивающая в душе и нескончаемая, как сон наяву.
Младшего звали Валеркой. Но Кирилл почти и не вспоминает это имя. Младший так и остался в памяти – просто «младший». Его брат. Острые лопатки, рахитично оттопырившие выгоревшую, застиранную майку, которая так велика, что двумя голубыми полукружьями выглядывает внизу из-под серых трусов. Ноги у младшего в ссадинах и цыпках. Они болят, по ночам он иногда плачет, а днем часто ставит их одна на другую и так стоит – как журавль, на одной длинной тонкой ноге с раздувшейся коленкой. Стоит, словно прислушивается к чему-то очень далекому, укоризненно наклоня голову.
Когда он застывал в этой дурацкой позе, Кирилл сжимал кулаки. Что-то горячее – жалость какая-то, обида, а вместе с тем и злость – распухало в его груди, и требовалось немедленно убежать или, может, треснуть младшего по этой согнутой шее, врезать по впалой брехушке, заросшей косицами светлых волос. И плачем его, болью унять на секунду свою муку, а потом плакать тайком, что причинил эту боль.
Теперь-то ему, взрослому человеку, совсем не хочется помнить об этих странных вспышках мстительной злобы. Но – помнится. Все помнится очень ясно, потому что никакие сны, никакие видения здесь ни при чем. Все это было. Было.
– Ну, пошли!
– Счас, – торопливо бормочет младший. – Счас.








