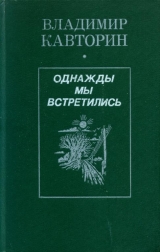
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Наверху прогрохотали сапожищами, крикнули, и черные, подгнившие бревна причала, с занудливой равномерностью поднимавшиеся и опадавшие в метре от моего окошка, вдруг сдвинулись, пошли назад и вбок, по стеклу густо потек туман и скрыл все, даже воду. Мы сразу запутались в его серовато-сизой вате, зависли, и было непонятно, зачем дрожит под ногами палуба и потукивает дизель… Сонно протащилась серая полоса камыша, показался рыжий откос, и снова – туман, туман.
К шести утра стало вокруг робко светлеть, приобретать молочный оттенок, но берегов все еще не было. Лишь иногда среди кудлатых теней, скользивших за нашим туманным мешком, можно было различить то стожок, то одинокую сосну и догадаться, что берега совсем недалеко. Слышно было, как шуршит вода, трется о скуластые борта. И – туман, туман…
Я добирался в «Заречье» впервые, и этот пустой, ощупью идущий катер, эта угрюмость спящей реки мутили душу мою раздражением и дурными предчувствиями. Впрочем, для предчувствий были и другие основания.
В то лето в нашем районе вместо двух десятков мелких и бедных колхозов решено было организовать несколько крупных совхозов, и я, без году неделя газетчик, мотался по этим свежеиспеченным хозяйствам в поисках отрадных перемен и передового опыта. В общем-то находилось и то и другое, меня похваливали, все шло нормально, пока не пришлось мне поехать в это самое «Заречье».
Совхоз этот нашим районным начальством поминался не иначе как с тяжким вздохом. Вошедшие сюда колхозы были самые что ни на есть нищие, завальные, поля болотистые, и народ там, говорили, знать ничего не желал, кроме своей клюквы. А тут еще Щелудков, главный инженер головного молокозавода, посланный по весне директорствовать в «Заречье», недели через три запил и пил до упора, пока не сняли. Бросил на радостях, очутившись снова в городе, хоть и простым механиком. Месяц искали замену, наконец, к удивлению всех, напросился туда Козлов, начальник нашей передвижной механизированной колонны, мужик молодой, холостой, бойкий…
И вот, продираясь сквозь туман, я думал обо всем том, что мне предстоит увидеть, и, разумеется, о Козлове, которого во всех случаях придется ругать, и раз от разу чувствовал к нему все большую неприязнь, что, впрочем, совсем не трудно по отношению к молодому начальству.
С утра я никого не застал в конторе и весь день самостоятельно бегал по бригадам, из деревни в деревню, тихо стервенея от виденного. Обратно в Рождественно притащился часам уже к шести. Козлов, которого по всей округе искало и костерило немало разного люду, к моему удивлению, спокойно сидел у себя в кабинете, сложив на столе большие белые руки, а на них – голову. Вскинув брови, он пристально рассматривал блестящую железку, стоявшую перед ним.
Я представился.
– Та-ак! – он уперся руками в край столешницы и, медленно распрямив их, качнулся на задних ножках стула. – Та-ак! Редакции, видимо, фельетончик нужен? Надеюсь, материала достаточно?
– Да уж… – буркнул я.
– О чем же тогда говорить со мной, дураком этаким? А?
Начавшийся так разговор вышел, разумеется, нервным и бестолковым. Заведясь с пол-оборота, Козлов вскочил и, отшвырнув ногой стул, заорал: «Да? А вы понимаете, что это такое, когда нет людей? Нет их, нет!» – и, уже не слушая меня, не давая рта раскрыть, понес о непоеных телятах, о разгильдяях, сидящих в Сельхозтехнике, и о пальце, из-за которого стоит зерносушилка и который он якобы выточил сам, пошел на завод и сам выточил, вот он, полюбуйтесь!
О зерносушилке я уже знал. И сказал, что не директорское это дело – точить пальцы, лучше бы он… Но он не слышал, он кричал уже о другом, кричал, что вся эта земля вообще пойдет в тартарары, если не закрывать на лето завод и…
Почти все жители Рождественно, кстати, работали не в совхозе, а на стекольном заводе. Был он стар, еще дореволюционной постройки, но давал план и закрывать его, разумеется, никто не собирался.
Козлов тряс передо мной листком, где в правом верхнем углу стояло: «В ЦК КПСС от…» О закрытии завода он, видите ли, собирался писать в Москву! Мне все стало ясно, и я больше не пытался его перебить.
Он наконец выкричался и сел за стол.
Говорить, собственно, было с ним не о чем, но злость колотила меня изнутри, точно озноб, и хотелось что-нибудь такое врезать: не знаю, мол, поможет ли это нелепое прожектерство спасти его личную шкуру, да и наплевать мне на нее, когда на токах преет зерно, а в поле пропадает лен…
– Знаете что? – сказал я, вставая.
– Что? – быстро вскинул он голову.
В его светло-серых глазах мелькнуло какое-то детское ожидание. Наверное, в первую секунду он в самом деле верил, что я могу сказать нечто очень ему нужное, спасительное. Но это только мелькнуло, погасло, и осталось одно отчаяние – белое, ровное, пустое. То самое, которое, быть может, и кричало о заводе.
Он все смотрел на меня этими белыми глазами и, кажется, уже не видел, а я никак не мог начать приготовленной фразы. Мне делалось стыдно.
– Давайте отложим это все и… – выговорил я наконец. – Переночевать устроите?
– Что? – удивился он. – Переночевать? – и вдруг обрадовался, засуетился. – Да, конечно. Только это в Окуловке, вас устроит? В том конце, у старой плотины, спросите Тосю-пришлую.
Выше заводского пруда Созь была речушкой совсем небольшой, вертлявой. Тропа в общем-то держалась берега, но то спрямляла путь, то выписывала лишние петли.
Повороты эти были так внезапны, что я подумал, а не прокладывал ли ее кто-нибудь вроде меня, такой же в себе неуверенный? В самом деле: зачем это я вдруг остался, почему?
Возле Окуловки по-над Созью росли корявые ивы: некоторые давно подгнили и завалились, полоща ветви в воде, шумевшей глухо, будто у моста. Пройдя еще чуть выше, я увидел несколько бревнышек, черных, криво торчащих из воды, точно огарыши зубов во рту столетней старухи, и понял, что тут-то и была когда-то плотина. Темная, припахивающая близким болотом вода с неспешным ворчаньем цедилась сквозь ее останки.
Избу Тоси-пришлой мне показали сразу. Это было совсем рядом. Калитка стояла распахнутой, а в щелястую дверь стоило чуть постучаться, и она сама собой со скрипом отвалилась на сторону, заманивая в душноватую темноту сеней. В избе никого не было. Я выставил на стол все, что удалось прихватить в рождественском сельпо – пряники, кусок сыру, бутылку дрянного яблочного вина – и сел ждать.
Стены были тесанные, темные. Линяло-фиолетовая ситцевая занавеска прикрывала бабий кут. Стол, самодельные стулья, плетенные из тряпочек половики. Широкая, врезанная в стенку лавка под окнами толсто застлана такими же половиками. Все как положено, чистенько, аккуратно, и все же чем-то нежилым, сиротским веяло тут, будто болотный дух запустенья залетал от реки, и никакие привычно избяные стоялые запахи не отшибали его. Только сухие травы, пучками заткнутые за матицу, подмешивали свой тонкий и тоже нежилой аромат.
За окнами было сумеречно, из-за леса наползала хмарь. Я перешел на лавку, присел, потом скинул сапоги, лег на спину и закрыл глаза.
В давно не топленной избе было прохладно, сыро, и мне снилась осень.
Снилась разгвазданная, хватающая за ноги дорога и серый, смазанный туманом простор. Это была та глубокая голая осень, когда даль уже ничем не зовет, не манит, когда вряд ли выйдешь за околицу, если не погонит нужда. Она гнала меня, сапоги всхлипывали, выдираясь из грязи, морось холодом кропила лицо, и я шагал и шагал, а когда открыл глаза, вокруг был все тот же сумеречно-серый, непогодный свет и бормотал дождь.
Я осторожно повернул голову, увидел освещенное пламенем чело печи и темную женщину с розовыми волосами. Сидя на низенькой скамеечке, она выбирала поленья, как бы взвешивая каждое на руке, и бросала в огонь. Седые волосы ее были ровно, аккуратно подстрижены и собраны назад, под мягкую полукруглую гребенку. Я еще не видел в деревнях стриженых старушек, разве учительниц. И мне захотелось разглядеть ее получше, но она, видимо, почувствовала взгляд и легко, совсем не по-старушечьи поднялась:
– Проснулись?
– Да вот, – смущенно бормотнул я, садясь на лавке, – нечаянно заснул, вы уж извините.
– Что ж извинять-то, небось устал? Да и дождь морит. Он, гли, как занялся – со мглой, по-осеннему вовсе. Эвона, в пятьдесят пятом – или каком? Не помню уж – как об эту пору задождило, так до снега и не просохло. То бусит, то из ведра, а полного останову ему ни на день не было. Не приведи господь, какая напасть! И хлеб, как сейгод, в поле весь.
– Дела у вас нерадостные, – проговорил я, натягивая сапоги.
– У нас завсегда так, – согласилась она, задумчиво выглядывая в окно, – хребтину гнешь, а что получишь – один бог знает! – Тотчас и спохватилась, однако, отошла к печи, сказала оттуда с улыбкой: – А так-то и ниче! С совхозом-то, говорю, ничего, жить можно. Эвона, сорок два рубля отвалили мне за июль-от, да десятку за постояльцев. Не, жить можно! Не знаем, кому и свечку ставить, кто додумался? Раньше у нас, считай, с одной клюквы жили. Зимой в Москву пару коробов свезешь, продашь. Москвичи клюкву хорошо берут, за витамины… А ты к нам надолго ли?
– На одну ночь.
– Ночуй. Я хоть на лавке, хоть на кровати постелю, у меня хорошо. Подтапливаю вот, чтоб сыри не было. И картошка сейчас будет, – она кивнула на печь. – Эвона, кипеть занимается.
Сумерки за окном густели; в глубине избы, у печки, было почти темно, только розовые блики пламени скользили по хозяйкиному платку, по летучей ее седине. Двигалась она по избе не торопясь, плавно. Каждое движение без остановки переходило в следующее, и домашние дела, похоже, не стоили ей никаких усилий. Она не думала об этой работе и не замечала ее, как здоровый человек не замечает своего дыхания и не думает о нем. В словах ее, неспешных, округлых, было что-то умиротворяющее. Они завораживали, как в летние сумерки завораживает, бывает, далекая, еле различимая песня. Так бы вот все и сидел, чувствуя лопатками трещину посреди бревна, вдыхая сухое тепло и сытный картофельный пар.
– Я тут… Не знаю, не обидитесь ли? – поднявшись все же, я переставил бутылку на середину стола, как бы предлагая ее всеобщему вниманию. – Сыр тут, пряники еще…
– А что ж обижаться? И выпей! – она неторопливо повернулась, вынула из посудной горки блеснувшую в пламени стопку. – Выпей, я и огурчика тебе принесу.
– Да что ж вы одну только? Разве не выпьете со мной за знакомство?
– Можно и выпить, – спокойно согласилась она. – До винца и коза охотница. Грешным делом и я люблю, и белое, и такое.
– Белой-то у вас нет.
– Точно, нет. Директор через сельсовет запретил до конца уборки. Наши молчат, а заводские и мимо без матюка не ходят. А ему хоть ты что!
– И помогает?
– Кому? – недоуменно приостановилась она, словно споткнулась в своем безостановочном плавном кружении. На столе были уже огурцы, зеленый лук, хлеб, картошки в чугунке. Остановившись, она с удовольствием окинула все это одним быстрым взглядом и только потом повернулась ко мне. – От чего помогать-то?
– Да чтоб не пили.
– Ой, – отмахнулась она рукой и то ли чуть хохотнула, то ли просто хмыкнула. – Ой, тошнехонько!
Выпили по стопочке отдающего яблочной гнилью винца. Она хукнула в кулачок.
– Ниче, – сказала, – сладенько! – и принялась чистить картошку, перекидывая ее из ладони в ладонь.
– Сыру берите!
– Возьму, возьму.
– А вы не местная, верно?
– Ай видать?
– Да не то чтобы… А словечки мелькают. «Тошнехонько», вот.
– А ты думал, меня зазря пришлой зовут? Так и есть. В девках я, парень, на Оби жила и взамуж тамотка выскочила. А на старости вишь где очутилась?
– Дома не понравилось?
– Господь с тобой, кому дома не запонравится? Да не путя выходит, не ссудьбилось. Жизню мою порассказать – дня не хватит, – она подперла темным кулачком голову, вздохнула. – Такая жизня выпала – где тольки не бывала, чего не видала, мамочки мои!
– Значит, из родных краев давно уехали?
– Ой давно… – махнула она рукой. – С войны! Войной сорвало, – чуть помолчала. – А по правде тебе сказать, так может и оттого, что взамуж поздно пошла. И чего тянула? Добро б, знаешь, заморышка, недомерок какой, а я баская девка была, могутная, разве глупая только. Игрища любила, хаханьки, припевки… В колхозе у нас справно жили, сытно, веселья много было. А хотелось, вишь, девке, чтоб кто ее за сердце взял, присуха чтоб, уж как хотелось! Да не фарт. И мать меня ругмя уже ругала: доневестишься, что и свататься перестанут, в христовенькие пойдешь! Она жалючая была, мать моя, ох жалючая! И в самой страх занимался: что ж, думаю, что не люблю? Может, и люблю, да не знаю? Может, другие тоже брешут всё, как они по своим-то млеют и сохнут? Ну я и пошла за Васю Казакова. На Николу-летнего мы в сельсовете записывались как раз. А через шесть недель война, а еще через две его и забрали, – она смахнула со стола какие-то невидимые крошки, вздохнула. – Он-то меня любил оченно, провожала – при всем селе плакал. А я как бесчувственная была, все хихикала: «Скорей, мол, воюй, а то придешь, и ничего тебе не обломится – на сносях баба». Я, вишь, знала уже, что тяжелая, а только все это было как-то еще в смех да в новинку, почти как не верилось. И скажи вот, накаркала себе: в августе возили снопы, телега в ручье застряла, так запонадобилось мне, вишь, вытаскивать-подсоблять! Ну и скинула. Отлежалась, Васе написала, на работу снова вышла, ничего вроде, а потом проснулась под утро, вот так же дождик зудит… И будто душа во мне проклюнулась! Такая вдруг пустота, тоска. «Как же, думаю, жить теперя, до чего себя притулять?» По Васе своему заплакала, затосковала всякой жилкою. «Вот, думаю, дура! Не любила, покуда в руках был, у груди». Представила, как он там идет по дороге, под дождичком, грязища… «Господи, – молю, – не убивай. Верни! Хоть на денечек! Хоть на ушко шепнуть, как теперь вот мил стал!» Ну и опять же, наревела себе, намолила – ни писем больше, ни весточки. Как отрезало! На всю зиму. А весной приходит письмо, не его рукой, но он так и пишет, что, мол, диктует, раненный в руки, в грудь, а лежит недалеко, в Омске. «Приезжай, – пишет, – одна ты у меня жизня, проститься хочу». Мне бы, дуре, сразу к нему лётом, а я кинулась свинью резать, сальцем думала его побаловать, на ноги поднять. Целых три дня задержалась! Ну, поехала, прихожу в госпиталь – на неделю, говорят, опоздала, девка, помер. Даже рубашечки никакой от ево не дали. Охо-хо! «Кто же, говорят, знал, что приедешь?» Ну, заплакала я да и пошла в военкомат, там уж за день на всю жизнь выревелась, все углы слезьми обмочила, а куды там – и слухать не хотят. Только они свое, а я свое. Назавтра приходят, а я на крыльце сидю. Сидю и сидю. И на третий день – всё там же. Ну, начальник ихний и понял: ее, мол, не сбудешь. «Отправьте ее, – говорит, – надоела». Сальце я еще допрежь евонным помощникам раздарила, так они мне все бумаги враз сделали. Я ж у них все на фронт просилась, за Васю. Такая во мне тогда злость была, если б вправду на фронт – я б им глотки зубами перекусывала, фашистам этим. Жизни в себе все равно не чуяла – одну пустоту и злость. Да они меня за мое же сало и обманули, военкоматские, – она махнула рукой и чуть улыбнулась чему-то, то ли прощая давний этот обман, то ли предвкушая уже следующую фразу, ее эффект. – Послали меня, парень, в горем.
– Куда-куда? Гарем? – недоуменно переспросил я.
– Да в железнодорожники. Каждый поезд у нас своим ремеслом занимался. Связьрем – те связь, а мы и путя и такое всякое. Одним словом – головной ремонт, горем то есть. Я в этом не очень-то смыслила, так что сперва при швальне помогала, а потом проводницей в штабной вагон взяли. От бабьей доли и фронт не увел – топить, подметать, варить, стирать – все на мне. Наши какую станцию займут – и сразу туда мы: всё на ноги становить, в ход пущать. Полковник наш, что у меня в вагоне жил, над тремя эталонами командовал. Вечно такой смурной, крикливый, черный, что жук. Разозлится – кричит: «Бургане бурга, никакая гайка!» – и хлясть кулаком по столу. Непонятно, а пужливо. Я-то его как хотела, так и дурила. Все зенитчиков со штабного подкармливала, такая уж наша бабья душа жалючая! Три года с гагом все ездила, ездила…
– А зенитчики что – рядом стояли?
– Да не… У нас. Вот такочки наш вагон, а рядом они на платформе, и такая у них не то пушечка, не то пулемет с двумя дульцами. Война-то у нас, у ремонтников, вся в одну сторону: нас и бомбят и по-всякому, а по них одни зенитчики стреляли, и то для шуму. За всю войну никого не подбили. Да и такие зенитчики – куда им! – все опосля госпиталя, задоенные, занюханные, худющие, в чем и душа-то есть. Не пожалеть нельзя, а конец у бабьей жали известный. Как первый раз случилось такое – сама себя убить хотела. «Ах ты, думаю, сучка. Такая твоя, значит, за Васю месть? Я ж тебя, думаю, порешу!» Да страх взял: ну как покалечусь только, и меня за самострел судить будут? Нет, думаю, пусть уж лучше так убьют! Нас тогда еще сильно бомбили. А потом это все отмякло, махнула я на себя рукой, и думка моя другая пошла: надо ж для чего-то и на свете жить – вот, думаю, затяжелею пускай, спишусь и поеду домой ребятенка ро́стить. Не так душе пусто будет. Разве ж бабе одной злостью прожить, если ее сам бог для жалю придумал, дуру этакую? И, думаю, если с ребятенком, так мать не прогонит, будем с ней, две старушки, ро́стить его. Да… А может, и то, что на всякий грех себя уговоришь, коли хочется.
Она опять замолчала, не гася своей робкой улыбки, но мне почему-то казалось, что она может вдруг расплакаться – и что я тогда буду делать? От этого я и спросить ничего не мог: каждое слово казалось опасным, взрывчатым. Заговорила она сама, так же просто и ровно, как прежде.
– Вот так. А Павел мой – тот до меня притулился уже в сорок пятом, на чужой земле. Да так, что трактором не оттянешь. Он контуженый был и раненый и заикался сильно, совсем, бывало, слова не выговорит. А вот полюбимся, он лежит рядышком и говорит хорошо так, складно. Встанет – и пошел заикаться. Расформировали нас уже под конец сорок шестого, зимой. «Ну, – говорю, – Пашенька, давай прощаться!» А он: «Цыть отседа!» – слышать не хочет. «Да ты сам, говорю, раскинь башкой: я и старше тебя на пять лет, шутка ли? И не тяжелею совсем. А ты мужик молодой. Что нашей сестры незамужней, что девок – нынче как собак нестреляных: придешь – любая твоя. Жизнь-то свою не коробь, зачем?» Говорю, а самой реветь охота. Это уж всегда так: ум правду видит, а душе на тую правду – тьфу! – ей счастьица дай тепленького, понежиться ей. А тут еще Пашка мой уперся, что бык. Так-то он нешумливый был, ласковый, но упрется на чем – танком буровит! До своего, значит. «Хошь, говорит, к тебе едем, хошь ко мне, но – вместях». А я по правде и сама-то радешенька. «Ну, говорю, раз такое дело, домой не поеду. Там я с Васей жила. И так перед ним грешная: полюбить как след не успела, опосля верной не вытерпела, кругом вина! Нет, тудой не поеду, а к себе хочешь – вези». – «Ничего, – говорит, – меня полюбить успеешь. Я человек характеру легкого, жить мне долго». Смеется. Так вот и оказалась я в пришлых.
Она взяла из чугунка новую картофелину, обчистила ее и принялась кусать, макая в соль – крупно, но без спеху и жадности.
Дождь уже не гудел за окном, но осмеркло еще глуше и сиротливей. Осокори у соседней избы сливались ветвями с черным небом. Заслонка в печи была сдвинута, и красные отблески жара ходили по потолку.
Я разлил остатки вина по стопкам.
– Ну, – сказал, – давайте за вашу здешнюю жизнь!
– А что ж? Я и на эту жизнь, милок, не жалуюсь, давай! Всяко жилось, да настоящего горя я за Пашей не знала все ж. Чутливый он был у меня. Что на песню, что на иную душевную справу, а страсть чутливый. Тоже вот, с винцом этим. Другие мужики, сам знаешь, как пьют. А Паша, тот – нет, тот гольную выпивку не любил. Возьмет белоголовую – и домой. Я картох сварю, капустки выну, мы с ним вместях выпьем и ну петь! Все песни перепоем. На душе-то поширеет, будто светом опахнет всю. Так-то не очень было нам чему радоваться, не выпадало. Еще как приехали мы, до того мне тут не глянулось, прям сердце оборвалось: избы – одни малухи, коровы тощие. А у нас так и вовсе: мать его померла, окна выбиты, дверь сорвана. Ходили с Пашей по селу, свою же лапотину всякую собирали. Но худого не скажу: первый обзавод нам вернули. Паша работать пошел в МТС, в Рождественно, козу купили. Супряжно жить стали, в лад. Летом я всякой лесовины напасала. Зима сорок седьмого – она, сам знаешь, брюхо народишку подвела, а мы ничего, справней других вышли. Козу, конечно, пришлось за мясопоставки отдать, да ведь я и покупала ее зачем? Думала, может, какой ни есть ребятенок все ж заведется. А самим-то и без молочка ниче, прожить можно. Через год козу новую купили, избу перебрали… Так оно, может, и жили б людьми, да Пашу мово председателем поставили. Это, не соврать, как раз под пятидесятый год новый, да. Как проголосовали в клубе, он встал: «Ну, – говорит, – так: у меня чтоб от работы никто не отлынивал, ни под каким видом! А детишки сыты будут – это обещаю». Так и сказал, да. До сей поры тебе каждая баба скажет: только при Косошеине и вздохнули. Первое он что сделал? – на лето Дашу-одноглазую выделил, ребятню ей собрал, трудодни велел писать, будто сторожихе, и заладилась она с имя каждый день божий в лес. И мужикам на день подводу давал – ивняк резать, а зимой бабам – всё это в город, на базар. Тутошний народ – он же спокон не столь полем жил, сколь этой лесовиной всякой, клюквой особо, да этими ж корзинами, завсегда их мужики плели. Но, правду тебе сказать, и народ тогда старался, не то как счас. Первый год все нас газета похваливала: тут подтянули, тама. А урожай подвел. В пятьдесят втором зато как с поставками мы рассчитались, семена засыпали – пришел мой Пашенька домой с белоголовой. Выпили мы, рыжиков я нажарила, а опосля до ночи на крыльце то пели, то хаханькались. Он все шутил: «Меж лопатками мне почеши – видать, крылья растут!» И то – по шестьсот граммов на трудодень оставалось, да овса еще, да картошки. Тогда это неслыханное дело было – по шестьсот граммов на трудодень! Да… Хорошо мы с ним в последний раз попели, душевно.
 – Почему же… в последний? – растерянно и с робостью спросил я.
– Почему же… в последний? – растерянно и с робостью спросил я.
Она не заплакала и вообще никак не выразила своего горя, только вздохнула очень глубоко, продолжительно, будто нырнула куда-то за пределы собственной боли. Вздохнула, вынула гребенку, провела ею по волосам.
– Так ссудьбилось, что в последний, – сказала спокойно. – Молодой был мужик, молодше меня, а вишь… Назавтра до нас уполномоченный из району приехал, Жохов Фаддей Иванович. Походил он туда-сюда, опосля с Пашею заперся, и ну они друг на дружку орать и кулаками по столу грохать! Я было домой из правленья ушла: «Ну вас, думаю, ошалели совсем!» Я тогда учетчицей работала. А ночью уже… я и легла было… Паша приходит: «Лампу не затепляй, говорит, каганец вздуй за занавеской, чтоб на улицу не видать». Вроде тверезый, а шалый весь. Там вот и сел, – она махнула рукой в бабий кут, – сел, пишет. Я говорю: что пишешь? А он: «Поди, говорит, глянь: у Даши-одноглазой темно? Этот, что, спит?» Я сбегала. «Спит!» – говорю. «Ну, – говорит, – Тосенька, слушай так: завтра меня с председателей, значит, сымают. Жохов требует, чтоб мы всё сверх плану сдали, а то район не выполнит, а я против». – «Как же сверх плану? – я так и села. – Всё?» – «Всё хочет. Всякие слова говорит. А я, Тосенька, може, и дурак, и в политике не тумкаю, но уж как седни ешшо председатель, то по совести и сделаю, как обещал, а завтра ты меня сымай! Поняла? Ну, поняла, так беги буди Фросю-кладовщицу и всех по очереди, а я туточки всё расписал: кому сколько по трудодням вышло. Да накажи, без шуму мне чтоб, свету не запалять и коней не брать, слышь?» Я перепугалась, вся в слезы: «Пашенька, – говорю, – да что ж тебе за это будет?» – «Что будет – то будет. Я, Тося, людям обещал, они жилы рвали, а поперек совести я не ходок». Ну вот, народ сразу почуял, чем пахнет, торопился дак. С мешками бегом бегали. А все ж кто-то и проверяющему стукнул, забоялся. А может, он и сам почуял – тоже дошлый был мужик, настырный. Половины даже не роздали, он заявился, да с милиционером сразу, когда только в Рождественно сгонял? Паша кричит: «Я ешшо председатель!» А Федька кобуру расстегивает: «Нет, – говорит, – ты заарестованный!» – и бумажку ему сует. Покричали друг на дружку, но делать нечего. Амбар опечатали, сторожа приставили, а Пашеньку в контору повели как арестанта, Федька даже наган вытащил, сукин сын! Ну, и меня точно кто на веревочке тянет. Паша шумит: «иди домой». А я следом, следом, села в сенях – там тихо, только разговор: шу-шу-шу. Да вдруг Паша мой как заорет – у меня аж внутри ёкнуло. «Ты, – кричит, – тыловая крыса, меня спасать? Ты – меня? Убью!» Дверь – тресь! Жохов выскакивает, руками голову прикрыл, Федька за ним, кобуру расстегивает… И Паша – следом, табуретку в руке вертит: «Убью, гады!» Оно, может, и вправду убил бы, да господь не допустил, значит, рученьки его замарать. Он замахнулся, а табуретка и выпади из руки, и сам он на порожек осел. Ну, думаю, пронесло! А смотрю – он дальше валится, на бок, лицо белое совсем, без кровиночки, и глазоньки у христовенького позакатились, – она промокнула слезу уголком платка, замолчала и снова мучительно глубоко, со сдержанным всхлипом вздохнула. Но голос не оборвался, не дрогнул… – Фершал из Рождественна прибег: уже, говорит, с час как мертвый. Он же у меня сюды вот раненый был, да. Через всю грудь шрамы, все рваное, а один осколок еще с сорок четвертого, с весны, так невынутый близ сердца и сидел. Фершал сказывал, будто он от злости и ворохнулся, зарезал Пашу.
Мы помолчали с минуту.
– А потом что же?
– Да что потом? Всяко. Всяко, милок, было. Хотела я спервоначалу уехать. Справку давали, еще и понужали: уедешь, мол, разговору меньше будет. Да вот не уехала, не осилила я. Зиму кой-как пережила, бабы подкармливали. Я ведь и травы всякие знаю, и наговоры, зубы заговариваю, кровь. Чему мама выучила, чему фронт. И ребятенка принять могу, зря что сама не рожала, и, грешным делом, ослобонить. Так бабы, спасибо им, и подкармливали навроде как знахарку. И в пятьдесят шестом опять зима тяжелющая выдалась, злая, дак тут уж нас Кузькин выручил. Я ему рукавицы шила, а он хлебом платил, мукой.
– Кузькин? – удивленно переспросил я. – Тот самый, что ли?
– Тот-тот, – спокойно покивала она. – Жулик агромадный. И денег он с нашего горя много позаимел. Меня на суд свидетелкой вызывали, так я ему тама и говорю… Он уж обритый сидел за заборкой. «Вот, говорю, как ты, Тимофей Нилыч, спас меня, то я тебе поклонюсь, а что ты ворюга, так оно правда». Он ничего, покивал только. И бригадиркой я тоже была, раз даже в район на совещание маяков ездила, колбасы в буфете целый круг купила. А сейчас и вовсе что не жить – с совхозом-то?
– Да как же с Кузькиным? Ведь он…
Но – не договорил. В сенях послышался какой-то бряк и испуганный девчоночий голос:
– Баб Тось, ты дома?
– Дома, дома, – хозяйка плавно потянулась, для свету пошире отодвигая на печи заслонку.
– Ой, а я захожу – темно, дак я… – затараторила, появляясь на пороге, девчушка в мокром мешке, углом накинутом на голову. – Ой, здравствуйте! Баб Тось, мамка наказала бегом бегчи: Витьку живот прихватил, на крик кричит совсем.
– Да что ж с ним, ай съел чего? – накидывая на голову платок и ступая в стоявшие у порога огромные мужские сапоги, спросила моя хозяйка.
– Не сказывал. Кричмя кричит!
– Ну, побегли, что ж! Вы уж извиняйте нас, отдыхайте ложитесь, – повернулась она ко мне.
Я тоже вышел на крыльцо. Со всех сторон сонно лопотал дождь. Мокрая тьма, то сгущаясь, то редея, неровными полосами проходила перед лицом. Где-то в ней сразу же растаяли две торопливо согнутые фигурки. Красновато светились избяные окна: дальние помаргивали, точно из последних сил не желали гаснуть, а еще дальше, в рождественской стороне, небо светлело, белесо вспучиваясь, как бы приподымаясь у горизонта. Там был завод, горели стеклоплавильные печи, у проходной и возле клуба светили фонари.
Вернувшись, я долго лежал на лавке без сна, но так и не дождался хозяйки.
Проснулся я на рассвете. Вышел во двор – небо еще не совсем прояснилось, но было видно, что дождю уже не собраться. В стайке вздыхала корова, певуче цвиркало молоко.
Когда я вернулся в избу, на прибранном столе стояли две кринки, прикрытые ломточками хлеба.
– Доброго утречка, – нараспев сказала хозяйка. – Почивали как?
– Спасибо, спасибо…
– Вот садитесь, подкрепимся на дорожку.
Теперь, при свете, она почему-то обращалась ко мне на «вы».
– Спасибо.
– Я вас вчера совсем заговорила, отдохнуть не дала небось.
– Ну что вы, отлично выспался! Как мальчик-то, кстати?
– Да что ему исделается? Поблевал, да и прошло. Ребятня! Сколь их ни корми, а всякую дрянь в рот тянут.
Помолчали.
– Анастасия Дмитриевна, я вас, знаете, о чем хочу спросить, если можно, конечно?
– Да спросите, отчего ж нельзя.
– А почему вы не уехали тогда? Ну, когда все это с мужем случилось?
– Да уж не уехала, – она вздохнула. – Я, вишь, сперва избу хотела продать, чтоб хоть до места родного доехать. У нас-то кто купит? Дак я все в Рождественно бегала: може, заводские? И в район ездила. И вот, скажи ты, как не пойду – мне Анька Вдовина навстречу, с дочкою. А дочка ённая от Пашки моего, и до чего похожая! Ну, Пашка маленький и Пашка. И, скажи, пожалуйста, пока он был живой, дак я ж той Аньке окна бить бегала, срамила принародно, видеть рожу ённую не могла. А тут как посмотрю на Верку, так потом всю ночку реву. Даже ни на Аньку зла нет, ни на него. Ну, думаю, пожалел он ее, так ведь она ж такая, как и я, от всякой сласти бабьей отодвинутая. Сама-то ты, думаю, мало ль кого жалела? И куда, опять же, тебе ехать, чего по свету мыкать? Тут как-никак кровиночка родная – вот она, Верка. Может, на что-нито, а пригодишься. Отца нет, пусть хоть при двух мамках растет. Ну и вырешила: притулюсь тут.
– Так и остались?
– Оно, может, и не осталась бы. Я ж думать-то думала, а сама все избу продавать бегала. Думать-то что, думать легко, а как ты к им подойдешь, что скажешь? Да ту, вишь, Анька сама до меня прибегла: фершал, кричит, пьяный, а Верка помирает, синяя вся. Та и впрямь помирала: и простыла, горло в ей нарывало, душило. Я ее выходила, травками отпоила, а уж от ручек детских горяченьких куда ж бабе деваться, к чему бегчи? Осталась. Анька – та меня не любит, да и не за что ей, а Верка и посейчас письма шлет, на каникулы приезжает. Она у нас девка баская, грамотная, в самой Москве учится. Тую зиму я ей каждый раз, как приеду клюкву продавать – так десятку-две подброшу, да… А теперь-то при совхозе – че? Теперь и больше можно. В Москве – там денежка пташкой летит.








