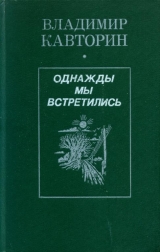
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Чего? – тянул он в ответ на мои наставления. – Не учи дядю жить, салага! Чего они тут без меня видят? Одна киношка, да и в той непродых. А смех – он легкие прочищает, ясно?
Ну? Что с ним было говорить после этого?
3
Мы ждали лета, как манны небесной. Но оказалось, что зима на нашем полуострове еще и ничего, а вот лето… Степь отцвела и выгорела за несколько недель, с середины июня начало задувать.
Горизонт с утра задергивало желтоватою мутью. Воздух становился так сух, что колом входил в горло. К концу работы он был полон мельчайшей, крепко просоленной глинистой пыли, мгновенно схватывавшейся на губах черною коркой. Солнце почти исчезало, делались сумерки, и казалось, что не ветер, а вся земля гудит, вздрагивает и воет от тоски и непомерного напряжения. Пучки сухой травы и шары перекати-поля с жалобным визгом неслись над землею. Сухой горчащий запах древних могильников проникал во все щели.
Как-то я работал во вторую, один. Вслушиваясь в застенный вой, думал, что придется ночевать тут же, на верстаке. Жутко, правда, как заживо похороненному, но… Не идти же?
Вдруг хлопает дверь и через порог вваливается сварочная брезентуха с тряпочным кляпом вместо головы на плечах.
– Вольно! – хрипит. – Отставить туш и всякое низкопоклонство.
– Маэстро!
Закрыл я за ним дверь, рубашку помог размотать с головы…
– Ты чего это?
– Да вот, – говорит, – пиво в ларьке кончилось, скукота. Форсункой решил заняться.
Форсунку изолировщики принесли еще вчера утром. Сулили ящик коньяка, златые горы и бронзовый бюст в назиданье потомкам.
– Бюст – это вещь! – соглашался Маэстро. – Но чем я тебе расточу такой профиль, чем?
И начальство, специально прибывшее из поселка, только кивало печально: да, нечем.
А сегодня вот… Рожа у него и под рубашкой оказалась вся в черных полосах, в пятнах. Мы на нее чуть не половину питьевого бачка вылили. Потом заварили солоноватого, поскрипывающего на зубах чайку – горлянки прополоскать.
– Пешки, – ворчал Маэстро, прихлебывая этот чаек, – что они понимать могут? А я все ж таки уральской выучки змей, не абы как!
Напившись, разжег он паяльную лампу, зажал форсунку в тиски. Через пару минут средняя шейка ее посинела, стала краснеть…
– Хватай пассатижами, змей, рви! – завопил он.
Я машинально дернул и чуть не сел на пол – так легко разошлась форсунка на две половинки.
– Что ж ты не предупредил, что здесь просто на горячо посажено? Все клоунничаешь? – обиделся я.
– И сам не знал! Ей-богу! Дома вдруг подумалось: не может быть, чтоб где-то больше моего умели. Небось схимичили.
Мы выточили каждый по половинке форсунки, посадили одну на другую, Маэстро тщательно зачистил, пошлифовал наждачком соединительную шейку. Так, чтоб и комар носа не подточил, не то что дубари-изолировщики. Делать это было совсем не обязательно, но он нетерпеливо приплясывал и что-то там напевал у станка – должно, репетировал завтрашний розыгрыш.
Часам к трем ночи, когда мы, профильтровав остатки воды, опять уселись чаевничать, Маэстро был спокоен и грустен, как всякий артист, хорошо подготовивший завтрашний номер.
– Не, – говорил, прислушиваясь к стихающему шуму ветра, – не-е, разве тут жизнь? При такой-то пылище? Не-е, это не по мне. Мне чтоб речка была, туман по утрам. А самое лучшее – знаешь? – это когда осенью ботву жгут на огородах, и тоже туман идет, желтоватый такой…
Мы улеглись; на старых ватниках было уютно и мягко, но не спалось. Мало-помалу стал он рассказывать про себя, что вот не знает точно ни имени своего, ни национальности, ни где и когда родился. В детдом попал пяти лет из госпиталя. Это по документам. А что было раньше, до детдома – ничего не запомнилось, ни вот столечко. И от этого все в его жизни выходит как-то ненадежно.
И странно! Я все это слышал сто раз и только смеялся до колик. А тут вдруг понял: все правда. То есть вокруг-то сплошное вранье, но тут вот, в самой середочке, в этой его тоске – она, кровная. Чтоб утешить его, стал даже говорить, будто все это не имеет значения. Ну, знаю я вот: на Украине родился. А что это мне дает?
– Ну, не скажи! – не согласился он. – Все ж таки душа – она до всего свой интерес имеет, прикидываешь с ней то так, то эдак. Вдруг я, к примеру, грузин?
– Да ты ж рыжий!
– Ну и что? Есть и грузины рыжие, и армяне, не исключено. И вообще все у меня как-то… Душа на месте только и была, что в армии. Иногда думаю: может, в сверхсрочники попроситься?
Служил он в Армении, танкистом. Кормежка, одежка – во всем порядок, никаких забот. Скажут: беги – бежишь; скажут: отбой – спишь. Ничего не скажут – опять спишь. Чем не жизнь? Умотаешься за день, потом сидишь вечером на казарменном крылечке, и такая кругом красота, что так бы вот и растекся по ней душою.
Только перекуры не очень, чтоб нравились… Нет, не потому что махра. Махру он и сейчас смолил бы за милую душу. А потому, что набьются в беседку или в умывальник перед отбоем и давай друг другу душу травить: «А вот у нас…», «А у нас вот…». Послушаешь, так только и хорошо, выходит, что далеко где-то. А горы им, видишь ли, на душу давят и свет застят. Или опять же – про дембель разговоры. Еще на втором году обсуждать начали: кто куда подастся. Одним – чтоб только домой, другим – чтоб от дому подальше, жизнь им повидать. А он этой жизни свыше ноздрей хлебал, и дом ему везде одинаковый – ему-то куда примкнуть, бедному? Да тут еще неудачно влюбился!
Нормальные люди нормальненько и влюбляются! Потанцевал там, притиснул – и все. Хоть в загс беги. А его заочно-журнально угораздило. «На первой странице обложки передовая доярка колхоза «Родина» Верхнеиссетского района». Губы пухлые, красные, вот тут чуть-чуть веснушек и щеки с такой ямочкой, что хоть бери и кусай. И главное – ничего больше на этой фотке нет, один ее цветастый платок во всю обложку, а глядишь и думается почему-то: славно, мол, у них там, в Верхнеиссетском этом районе, была бы там родина… И речка тебе уже видится, туман в кустах, голубой лес на той стороне. Отлепишься утром от этакой крали, на крыльцо выйдешь – не мир вокруг, а благодать божья!
Само собой, написал, переслали, она ответила. Фотку прислала уже не цветную, но и тут хороша. Ну и – понеслась душа его в рай! Через год переписки бумага аж дымилась – до того жарко на ней обнимались и целовались.
Дембель вышел ему поздновато – перед ноябрьскими. И, само собой, он в колхоз «Родина» мотанул. А время какое-то неопределенное: и снег, и грязь. Опять же и край неопределенный, вроде Первоуральска; где он в ремеслухе учился: горы не горы, но и ровной земли нет. Лес вдоль дороги и тот – через две ямины сосенка.
– Ну наконец приехал. «Сама она, говорят, на дойке вечерней, посиди!..» Дома одни браты. То-се, познакомились, я им поллитру на стол. Они своего чего-то там выставили, мутного. Но много. Сидим, толкуем. «Это, говорят, хорошо, что ты на Дашке женишься, девка в самом соку». А сами, черти, пухлогубые, сидят – не шелохнутся, важные, будто министры, всё всерьез. Ну, я тоже всерьез так осведомляюсь: «В каком же она соку?» Молчат. Друг на дружку зырь-зырь, луп-луп рыжими… «В томатном, говорю, аль в собственном? Нам частика в томатном давали, скумбрию в собственном, так в томатном я больше уважаю». Опять они луп-луп друг на друга, наливают по стакану мутного. Оно сладенькое, без градусов почти, а в ноги шибает. «Давай, говорят, выпьем!» – «Это я завсегда и с дорогим удовольствием, говорю, поскольку служба моя окончена». Выпили. «А Дашка, говорят, в хорошем соку, кормленая, будешь доволен». Ну, слово тут за слово, стали мне вкручивать, какие они хорошие: мы, мол, построиться вам поможем, от колхоза телку дадут. Председатель обещал, мол, хорошую. И двух поросят, поскольку ты до техники специалист. «Откуда ж он, змей, это знать может?» – «Дашка все сказывала и даже фотку носила: вот, мол, колхозник новый». И тут как-то, знаешь, обидно мне стало: до чего люди хозяйственные – я еще не доехал, а они и в работу уже запрягли, и на двух поросят разменяли. Я-то, может, и одного не стою, а все одно! «Ладно, говорю, товарищи браты, поросят мы еще под водяру зажарим, а вот строиться мне на кой ляд? Что я – человек не советский? Куркуль я, что ли, чтоб собственность заводить?» Опять они друг на дружку: луп-луп… А братья-близнятки, мужички-боровички такие, совсем без росту, зато в плечах – во! «Дык, говорят, как же не строиться вам? Жить с Дашкой где будете?» – «А где койка у ней?» – «В той избе», – кивают. «Ну, там и будем. Солдат человек походный: нынче здесь, завтра там, зачем ему барахло? Родина позвала – он вскочил, отряхнулся…» У меня, сам знаешь, слова не на привязи. А они, гляжу, всем мордоворотом багровеют, и один меня уже через стол за грудки норовит. Ну, я по рукам: не трожь, мол, танковые войска, они не таких бивали!.. Короче: невеста на порог, а у нас самый уже мордобой. Они меня в угол теснят, я еле бляхой открещиваюсь. Кинулась она братьев урезонивать, я шинель в одну руку, сидор в другую и… С такою, думаю, любовью да без головы останешься. И ходу! Через загородку козлом стреканул. К утру дошагал в район, покемарил чуток на вокзале и – к уполномоченному по оргнабору: так, мол, и так, выручай, потому что от всего сияющего одни фонари на морде остались. Пиши на Север, полярную ночь освещать стану. Мужик понимающий попался, офицер бывший. «На Север, говорит, набору нынче нет, а на юг могу». Так вот я здесь и оказался, всяких, вроде тебя олухов, жить учу. Хоть и не мороз, но тоже не сахар.
4
Недели две-три после этого прожили мы с ним очень дружно, хотя при народе мне по-прежнему было за него и обидно и стыдно, и злость брала и смех разбирал. Зато почти каждый день мы оставались «химичить». В тишине и безлюдье с ним рядом было как-то очень спокойно, уютно. Чем бы ни занимались – любое ремесло в его руках казалось таким простым и удобопонятным, как будто приросло к ним с рожденья.
Вообще его приспособленность к жизни была, по-моему, почти абсолютной. Сейчас, правда, под этим понимается больше умение всюду пролезть, достать, найти и вход и выход… Но ведь это приспособленность не к жизни, а к ее недостаткам, которые преходящи. Неизменна лишь самая суть. Маэстро был приспособлен именно к сути: он все умел, никакая житейская надоба не становилась для него камнем преткновения, не вырастала в проблему.
Проголодались – он тут же, в горне, не отвлекаясь от дела, кипятил чайник и на прутке зажаривал шашлык из колбасы. Горячая, чуть пахнущая угольным дымом, она бывала необыкновенно вкусна. Прихлебывая чаек, Маэстро принимался рассказывать – еда занятие приятное, за ней люди должны веселиться.
Было у него несколько любимых историй, смешных и нелепых, вроде журнального сватовства. Например, как его из ремеслухи чуть в московский хор не забрали. Дело, мол, только потому и не выгорело, что на самом решающем смотре, забывшись, запел на детдомовский лад: «Легко на сердце от каши перловой…» Вранье, конечно, чистейшее! Но пел он действительно здорово.
Впрочем, в эти последние недели был он грустней обычного, стал даже заговаривать о бессмысленности жизни: вот, мол, вкалываем, как папы Карлы, а для чего? К середине июля тоска окончательно его одолела, он вытребовал отпуск, накупил кучу рубашек, галстук с золотой ниткой, светло-серые английские туфли и укатил на Большую землю.
Без бдительного его присмотра жизнь моя, поскользнувшись на любви к российской словесности, сделала крутой зигзаг. Я стал бойцом культурного фронта, который у нас, как и положено каждой приличной стройке, был страшно запущен.
Маэстро вернулся несколько даже досрочно, без шикарного костюма и золотых часов, но необыкновенно воинственным.
– Ты что ж это, змей, – даже не сказав «здрасте», взял он меня за грудки, – дезертировал? Покинул передовой участок?
Треск рубахи ясно говорил, что вопрос поставлен ребром.
– Погоди, – смиренно попросил я, – послушай.
Слушал он не очень, книжные передвижки явно не казались ему стоющим делом, но вдруг, уловив в лепете моем знакомое слово, Маэстро разлепил волосатые кулачищи и задумчиво почесал нос.
– Журнал – это, конечно, вещь! – он хмыкнул и покрутил головой, как бы вспоминая, как далеко может увести эта вещь человека. – Ну, черт с тобою, журнал! А я погудел славно. Представляешь, лечу в Свердловск, там гроза…
И пошла очередная его история – смешная, нелепая, без всяких границ меж правдой и ложью. Получалось, что он все летал и летал, везде были хорошие ребята, но долететь до места никак не удавалось.
Ну, а весной, как уже сказано, подобрали мы с Русачковым у аэродромной развилки одного человека, и тут-то выяснилось, что до колхоза «Родина» Маэстро все-таки долетел.
В мае была свадьба, а с нею вкупе крестины Маэстрова первенца.
Стол устроили прямо поперек улицы – четыре доски-сороковки перекинули от крыльца до крыльца, от одного вагончика до другого. И было за этим столом так тесно и шумно, что сперва каждому казалось: он в минуту оглохнет или же вылетит отсюда, как пробка. Но проходило пять минут, десять, все утрясалось и притиралось, становилось свободно и весело, и уже думалось, что будь здесь чуточку попросторней, такого б веселья не получилось.
Маэстро сидел королем – отмытый почти дочиста, в свежайшей сорочке, он поднимал стопку, усиленно оттопыривая мизинец с золотым кольцом. Охотно пояснял: «А это я так и женат, правда, Даш, вот настолечко!» – и, показывая полмизинца, заливался хохотом.
Хохоту вообще было много. Какое-то было у всех настроение – все только смешило, даже то, что Маэстро прошляпил неслыханное в наших краях счастье – двухкомнатную квартиру.
А вполне мог бы и оторвать! Комсомольские свадьбы были еще горячей новинкой. О них писали, за них хвалили. И наши комитетчики, не желая ударить лицом в грязь, решили лучшего своего бригадира оженить по самой передовой методе – с речами и поднесеньем ключей от капитального гнездышка.
Но еще раньше другое начальство, в области, наметило слет коммунистических бригад. Маэстро направили туда, снабдив прекраснейшей, тщательно отпечатанной на машинке речью. В общем, все шло как надо, но как-то ему показалось странно, что такие славные ребята – так хорошо вчера с некоторыми посидели! – а сегодня сидят, как сонные мухи, клюют носами под мерный бубнеж. Несправедливо это ему показалось, обидно!
Выйдя на трибуну, он начал с того, что, мол, собрав столько представителей светлого завтра, незачем сажать у газет старушку. Можно и жестяночку под мелочь поставить. Не зажилит светлое завтра свои две копейки, отдаст. В зале зашевелились, в президиуме самокритично захлопали, сдержанно улыбаясь. Маэстро чуть поклонился публике, ощутил прилив вдохновенья и… – понеслась душа его в рай! Говорят, было все: и клятвенное биение в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» – и скупая мужская слеза по безвинно загубленной жизни юного ленточного экскаватора, и много чего еще. Зал хватался за животы и сыпался под стулья целыми рядами.
В перерыве Маэстро ходил гоголем, окруженный поклонниками, даже из президиума один товарищ подходил, сказав, что по сути все правильно, только уж слишком… И неопределенно покрутил растопыренной пятерней.
Но… «Была, – сказали у нас в комитете, – не спорим, была такая идея насчет комсомольской свадьбы, обсуждалась, да ведь не все, что обсуждается…» Полвагончика и те Маэстро пришлось выбивать, пошумев в парткоме.
– Зато посмеялись! – горделиво подбоченясь, говорил он. – И вот, ёшки, смех смехом, а слесаря на ленточном уже возятся, бумага Сидорчуку пришла – враз зачесался. Поняли? Чуете, чем пахнет?
– Ох, Дашка! – кричала завитая, железнозубая жена прораба Прохарченки. – Наплачешься ты с ним, на тракторе спать будешь.
– Наплачусь, Катя, как пить дать наплачусь! – соглашалась помолодевшая после родов Дашка. – Ой, пропаду с иродом! – и висла на иродовом плече, так вся и светясь, так и тая.
В ту весну она, похоже, всем была счастлива – и полувагончиком, и мужем, а больше всего, быть может, твердостью нашей милиции, отказавшейся менять ему паспорт. На радостях выбрала сыну самое что ни на есть русское имя – Иван.
5
Господи, как давно это было! И какими мы были зелеными! Такими зелеными, что за неделю без бритвы становились не ржаво-колючими, а лишь пушистенькими, как персики.
И вот прошло столько лет, что и памяти нет; и давно уже во сне не бегу я, задыхаясь, степью к чему-то нестерпимо прекрасному, и забылись многие имена, лица, стерлись события. Все давно уже неинтересно…
Но вдруг выяснилось: можно поехать. В тот самый город! Запросто! Ничего не стоит, только скажи: туда.
И я сказал. Сперва сказал, а уж потом подумал: зачем? Ведь писано дураку: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Но пока голова трезво об этом думала, сердце стучало все яростней и нетерпеливей.
Зеленого вагончика с антенной на месте, само собой, не оказалось. Аэропорт был, как и везде: солидный, бетонный, серый. Снаружи стояли светлые «Волги» с шашечками, совсем как в столицах.
– Вас в гостиницу? – спросил шофер без всякого юмора.
Потом я долго, до телеграфного гула в ногах бродил по улицам, по неведомой набережной… Город был – чужей не придумать! В сумерки, наконец, набрел. Сидел во дворе, у круглой чаши пересохшего фонтанчика, и подозрительно разглядывал обшарпанную четырехэтажку: неужели та самая? Вот это полубарачного вида зданьице без всякой архитектуры – это и есть первый наш капитальный? Наш сияющий, греющий душу, наш, видимый черт-те откуда, точно маяк?!
Нет, видимо, старенье есть то, что происходит не только с нами, но и с нашим прошлым. В нас оно живет так, вовне по-другому, с годами пропасть растет, контуры берегов перестают совмещаться. Вот почему «по несчастью или к счастью…». Скорее все ж по несчастью, ибо никуда не денешься: очень это обидно.
Ну, а к прежним людям и вовсе заказан путь. Дома разрушаются, люди растут. Назавтра вот принимал меня главный инженер стройтреста. Рассказывал про темпы, масштабы. Солидный басок, седоватый ежик над высоким загорелым лбом, вальяжные ухваточки. Будто он так и родился – в шикарнейшем, бесшумно вертящемся кожаном кресле. Извинился, повернулся, открыл в стене полированную дверку – там у него холодильник, оказывается. Запотевший нарзан, стаканчики, любезнейший жест: прошу!
Да, говорю ему, а когда-то здесь только подсоленный кипяток с утра пили. Помните, Жакен вас учил, сварщик, чтобы потом не потеть и не слабнуть на лютой жаре…
– Что-то, – говорит, – вроде припоминаю.
Неуверенно так.
А весну шестьдесят второго, трассу – в вагончиках дым, анекдоты, иногда теплая водка, грязь ползет по степи пластами?..
Он помаргивает; я смотрю – реснички у него выгорели, и такая под ними смущенно-незамутненная голубизна, что за версту видать: ничего не помнит! Меня даже в пот слегка кинуло. Не может, думаю, быть такого! Даже ведь на двери написано: Русачков Александр Авдеевич.
– А Маэстро Шахбазова, – говорю, – помните? Мастера механической мастерской, Кольку?
Ага, дрогнуло что-то, глазки зеленцой вспыхнули.
– Ну, которому невесту вы привезли, помните?
– А! – говорит. – Как же! Он от нее еще сбежать хотел, наплел ей, будто большой тут начальник…
«Ладно, думаю, пусть будет хоть так».
– Так где он теперь, Шахбазов?
– Ну, что вы! – смеется. – У нас теперь такой городище, что и добрых-то знакомых не встречаешь годами. А его… Нет, даже не помню, когда и видел. Уехал, должно.
Повспоминали еще минут десять довольно вяло: я не помню одних, он – других.
Вышел от него – белесое небо пуще прежнего давит в затылок, рубашка липнет к спине, душно.
Долго, бесконечно долго шагал какой-то дорогой – по бокам решетчатый бетон заборов, густо и однообразно пропыленный, автобусные остановки у проходных, чахлые деревца… И только, откуда ни оглянись, округлые башни опреснителя так и царят надо всем, так и слепят, струятся в небе, ломкие от жары. А тогда над ними еще и кран стоял – рыжий аист.
Наконец выбрался к морю, бродил, искал заветную бухточку. Дно там когда-то почти сплошь было устлано плоскими камнями, поросшими зеленоватою слизью. Отвалишь такой – черный рачище сидит – не шелохнется, ошеломленный внезапным светом. А ты его – цоп! Нахватаешь с десяток и варишь прямо в морской воде – удивительная вкуснятина!
Камней и теперь хватало, но раков не было нигде. Я окончательно устал, искупался и долго лежал на песке, думая, что чужей когда-то построенного тобой города может быть только женщина, любившая тебя давно и вполне мимолетно. И потому – пора, мол, бросить сентиментальные бредни, заниматься делами.
И когда совсем уж не ждешь и не надеешься, вдруг происходит.
Тебя ведут по длиннющему заводскому пролету, воодушевленно внушая, как славно принимают тут пэтэушников, закрепляют молодые кадры… И вдруг ты останавливаешься, сам ничего еще не понимая, просто хочется тебе посмотреть, как он руками размахивает – этот высокий лысый мужик, толкующий о чем-то юнцам, которых так и корчит от смеха. К тебе он спиной, только лысину ты и видишь, но на душе у тебя как-то непонятно ширеет, светлеет, точно это не лысина, а разгорающаяся лампочка, солнышко восходящее…
Невольный шаг:
– Маэстро!
Он оборачивается.
– А, журнал, – говорит как ни в чем не бывало. – Здорово, змей!
И вы, как в старые добрые времена, слегка тузите друг друга.
– Ух, растолстел, ёшки!
– А ты? Патлы-то рыжие куда делись?
– Да вот, гладит каждая: хороший ты мой, хороший…
– Ух ты, Шахбазянище! Как первенец? – спрашиваешь. – Дарья как?
И осекаешься. Поскольку – мало ли что за двадцать-то лет…
– Да ничего, – говорит Маэстро, – живут, чего им станется? Ванька, змей, в люди метит, в столице учится, а Дашка – та еще выше взяла, – важно поднимает он палец. – Администраторша, во! – и хохочет.
…А потом, на закате, сидишь ты у него на кухне, перед распахнутым балконом – он сам по простоте южных нравов вышел туда в одних трусах и, взмахивая рукой, объясняет тебе, что раки в бухточке еще водятся, ты просто не туда вышел, надо было от опреснителя вон туда взять, левее, за орсовский склад.
– Что за склад еще, где?
– Ну, за те бараки, в которых раньше больница была.
– Какая больница?
Тебе немножко стыдно, что ты все позабыл уже, и не знаешь, как увернуться от этого разговора, но тут приходит Даша. Она теперь такая же яркая, холеная блондинка, как почему-то все – по всему Союзу! – гостиничные администраторши. И немудрено, что там, в гостинице, вы не признали друг друга. А здесь – муж еще и рта не разинул – она странным образом сразу же тебя узнает.
– Ой! – говорит. – Ёшки! Да то ж вы! Как же эт я вас не признала, когда прописывала? – и, опустив на пол сумку, всплескивает руками.
– Точно! – смеешься. – Вы меня поселяли… Ну, ничего! Это, говорят, к богатству. А вы тут как, как живете, не ругаете, что я вас тогда к этому вот Шахбазяшке привез?
– Он у меня теперь все в Рустави переехать грозит. Уже и усы было завел, да я один ночью оттяпала!
Потом-то, за столом, после нескольких рюмок она мужа, конечно, ругать принимается: жить, мол, не умеет, попросить нигде ничего не может, всем со своим языком сала за шкуру залил.
– У, змей! – грозит ему кулачком. – Вот вы не поверите, а мы десять лет так в вагончике и жили, пока аж мне от горкоммунхоза не дали, потому и детей не завели больше… Да и сейчас! – машет она рукой. – У всех трехкомнатные давно, а у нас что? Мебели приличной негде поставить.
– Так вот на нее посмотришь, – склоняя голову набок, говорит Маэстро, – посмотришь: вроде вполне городская, советская баба. А замашки все одно из деревни, кулацкие. Всего-то ей мало, все мало…
– Уж лучше кулацкие, чем дурацкие!
Но через минуту она мирно его обнимает, наваливается на плечо пышной грудью, и все вы дружно поете…
– Раки еще есть, – успокаивает тебя Маэстро. – Это ты не нашел, а вот пойдешь со мной послезавтра…
И так тебе хорошо с ними, так отчего-то блаженно, как дома после баньки и то не всегда бывает. И не хочется ни думать, ни говорить о том, что послезавтра ничего уже не будет, потому что счастливая твоя командировка кончается завтра.
– А раки есть, – бубнит подвыпивший Маэстро. – Все, змей, меняться не может! Надо чему-то и оставаться, стержень везде нужен, крепеж. Вот мы с тобой пойдем…
ПОСЛЕДНИЙ МЕЧТАТЕЛЬ
Взгляд у него странный – настырный и в то же время соскальзывающий, убегающий. Спросив, он не от тебя ждет ответа, а высматривает его где-то там, за твоею спиной. Это мешает, и я, уже приготовившись что-то вякнуть, лишь неопределенно подергиваю плечом.
– Вот то-то и оно! – удовлетворенно говорит он. – Даже если взять тебя, хоть ты у нас и молодцом, но… сценарии-то пишешь?
– Какие?
– Киношные. Нет? А что ж так жидко?
– Почему жидко?
– Ну!.. Новый год помнишь? Последний наш.
– Вроде бы помню… – медленно говорю я.
Он и в самом деле откуда-то уже выплывает – тот Новый год у Зои Цаплиной, последний наш школьный, неповторимый. Мятным холодком скользит между лопаток… Холодком, в котором все: и мокрая, глубоко, вольно дышащая за окном ночь, как-то ясно, отрадно все время мной ощущаемая сквозь духоту и гам; и высокие комнаты, и белесая пыль, выбитая танцами из скрипучих полов старого дома; и липкое предательство ладоней, которые, стоит тебе подойти к девчонке, потеют и зудят, украдкой вытираемые о штаны… Все-все есть в этом знобящем холодке: и радость, что все же удалась наконец идеальная складка на моих черных дудочках, и таинственность появления первых девчонок – какие они, оказывается, под своими плащами нарядные, надушенные, завитые! – и страх за пластинки – брат голову обещал свернуть, если их разобьют… И первый тост, и смех, и ор, и гам – все-все, вплоть до физического ощущения Нового года, той совсем новой, счастливой жизни, которая входит в тебя с первым же глотком промытого за ночь воздуха, когда после всего этого гама ты оказываешься наконец на крыльце, и уже утро, и небо над морем редеет, и девушка вдруг доверчиво берет тебя под руку, чего никогда с ней еще не бывало!..
Вот только – при чем тут сценарии? Хотя что-то там, кажется, было… Была тесная комнатка, в ней тахта – этакий пружинный матрасище на козликах, – были свечи на пианино, так и не зажженные, ибо не велено. И вместо них – голубоватый свет ночника, и белые Вилькины пальцы, хищно присогнутые над клавишами, как бы нацеленные вырвать за раз целую горсть звуков.
– Вон ты о чем! – говорю я.
Да-да, это уже под конец, уже часа в три, когда веселье угасает, танцы поднадоели, а в открытую форточку выманывающе долетает то чей-то смешок с улицы, то нестройная песня, и все решают пройтись, девчонки уже разбирают плащики… Само собой, хохот, тысяча недоразумений. И тут вот в дверях вырастает Вилька, звучным, полным своим голосом перекрывает галдеж: «Внимание, господа! Для оставшихся будет играть Виль Зуев, Советский Союз!»
Он был девчачий кумир и красавчик, наш Виля. И Зойка тут же, конечно, осталась. И Милка осталась, и я покорно потащился за нею, плюхнулся на тахту… И Шафига, и Зорик, и все в конце концов набились в Зойкину комнатку, как сельди в бочку. Вилька, погасив свет, чтоб все было как на концерте, сыграл нам сперва нечто короткое и бравурное, а потом долгое и печальное.
И опять все болтали, острили, хохотали. Зойка притащила бумагу, все стали сочинять афишу нашего фильма, понаписали много глупостей. Постановщиком там значился, естественно, Вилька, автором сценария я, в главной роли – наша красотка Шафига Шарипова, заслуженная актриса Татарской и прочих республик. И Петька тоже чего-то там рисовал, вякал не очень для нас лестное, за что Шафига лупила его по шее, а он блаженно улыбался…
– Конечно, – радостно говорю я, – конечно, помню! И афишу, и…
И осекаюсь, сообразив, что у нас же с ним спор, он доказывает, будто ничего так и не вышло из наших тогдашних мечтаний, и эта афиша, следовательно, еще очко в его пользу, так как я не пишу сценариев, Виль наш спивается где-то в провинции актеришкой без речей, а Шафига и вовсе, кажется, погибла.
– Да, было времечко! – вздыхаю примирительно. – Ну, дурачки, ну, мечтали, хвастали… Так разве в семнадцать не положено быть хвастунами?
– В семнадцать-то…
– Брось, Петька! – говорю я. – Лучше давай выпьем. За всех, кто там был! За нас!
– За всех? – он как-то сомнительно хмыкает, но пьет, и мы с минуту молча оглядываем стол, соображая, чем бы притушить хмельное тепло, растекающееся в подвздошье.
– Эх, хорошо!
Сидим мы с ним в старой гостинице на ресторанной веранде. Ветерок шевелит над нами полосатый парусиновый тент. Веранда эта – шестой этаж громадного дома, и, как ни разросся в мое отсутствие наш городок, отсюда он по-прежнему виден, будто весь на ладони. И еще видно солнце, стекающее багровою каплей в фиолетовые холмы у горизонта, и светлое еще море, и сумерки, густеющие, точно кисель, под кронами молодых софор приморского парка. Все явственней слышен йодистый запашок выброшенных штормом и подгнивающих на берегу водорослей.
Мне хочется расспросить его об этом шторме и еще каких-нибудь пустяках. Ну, скажем, до сих ли пор ловятся бычки на камнях и на что ловятся? Ведь это – черт подери! – та самая веранда, и город тот самый, и море…
Я жил здесь всего два года, потом не был почти четверть века, да и приехал лишь на неделю. Но те два года значили для меня столько, что было бы обидно не ощутить, не увезти опять чего-то тогдашнего. А ощутить все не удавалось.
Не слишком обремененный делами, с которыми приехал, я шлялся по улицам, приглядывался к домам, прислушивался к горластым дворам, увешанным постирушками, усыпанным чумазой ребятней; на закате брел далеко в степь, давно уже выгоревшую, мутную у горизонта. И все мне было что-то не то. Я задыхался, солоноватая белесая пыль щекотала горло, воздух был сух и горяч даже ночью. А ведь нигде в мире не дышалось мне так легко, нигде влажный ветер не наполнял грудь такою сладкой тревогой, как здесь когда-то. И говори не говори, что ты, мол, здесь ни при чем, это просто море мелеет и отступает, и с каждым годом дыхание его в городе чувствуется все глуше; говори не говори – а все-таки как-то обидно.
Бэллу Рудольфовну, старую нашу литераторшу, встретил я случайно, у рынка. Она всплакнула, когда я назвался, сказала, что не только, мол, помнит, а следит и даже слышала о моих успехах… Я не стал уточнять о каких. Приятно хоть так узнать, что есть и у тебя успехи. И пока нес я сумку ее с баклажанами и алычой, она рассказывала, кто нынче где и кем из нашего выпуска. Странно, но я многих не помнил. В том числе и Петю Симакова. То есть что-то такое мерцало, какие-то стихи, споры, бесцветные усики…








