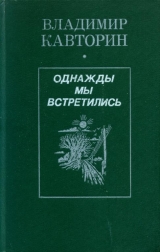
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
А какие это были места!
Мы приезжали из общаги на «тройке» и, если не очень опаздывали, да к тому ж при хлопке по карману там что-то звенело, бежали вокруг площади в «Молочную», занимавшую почти всю лицевую сторону квартала между Большой Бронной и Тверским бульваром.
Возможно, для москвичей «Молочная» эта была вполне зауряд-кормушкой, но мы ее любили. Она казалась нам весьма столичной и почти фешенебельной. Тут продавали взбитые сливки с тертым шоколадом, многослойное желе и другие вещи, неведомые в наших родных углах; мы иногда даже лакомились ими, хоть и тайком друг от друга, чтоб не ронять своей взрослости. Но главное – какая была тут публика!
Особенно нас занимал один старик – высокий, тощий, с царственною, седой бородой, в длинном пиджаке с заплатками из мешковины на локтях. Неторопливый и аккуратный, он появлялся всегда в половине девятого, брал школьную булочку, стакан молочного киселя и надолго усаживался за дальний столик читать английские и немецкие газеты.
Была здесь еще постоянная стайка девиц в одинаковых халатиках морковного цвета. Халатики как будто выдавали в них продавщиц соседнего магазина, но это, думалось иногда, была маскировка, ибо при первом же взгляде на них не оставалось сомнений, что это очень интеллигентные девушки, коренные москвички, так увлеченные собой и своею беседой, что где уж им нас увидеть! Даже перехватив на себе взгляд из-под моднейших ресниц, ты сомневался невольно: не по ошибке ли это она, не в рассеянности?
Они приходили в обед, но дед и в обед по-прежнему сидел здесь со своею булочкой. И всякий раз какая-нибудь из них брала лишние взбитые сливки или пару бутербродов и относила на его столик. Дед величественно кивал из-за своих газет: «Мерси!» Под его ласково поощряющим взглядом девушка смущалась и невольно изображала подобие книксена…
Нас все это восхищало. Меня больше девушки, его – старик.
– Осколок! – говорил он, значительно поднимая палец. – Небось зимой хоть и булочки не берет, а гардеробщику на чай, получая свою рванину, кидает гривенник. Пари?
Жаль, что я не принял это пари, что так ни разу и не повидал старика зимой, не узнал, кто он и за что так любят его продавщицы. Теперь и не узнаю, а в свое время, пожалуй, мог бы.
Мог бы, но мы были еще в том возрасте, когда все так легко откладывается на потом, до какой-то другой, правильной и праведной жизни, а она все не наступает, и по утрам в голове у нас частенько звенело куда громче, чем в кармане. Тогда направлялись мы не в «Молочную», а в маленький полуподвальный буфет на Бронной. Все было здесь ускоренно-упрощенно, навстояк, но кефир лечил наши головы, а свежие пирожки с капустой утоляли голод за минимальную цену. И здесь почему-то проще было заговорить с девушками. Многие из них были в таких же морковных халатиках, но задорней и откровенней поглядывали по сторонам и не пытались делать книксен. Мы, правда, и тут лишь зубоскалили с ними слегка, за недосугом откладывая более решительные меры на потом, до другой жизни.
А после лекций – верандочка у кинотеатра «Россия», легкое вино, градусов которого мы совершенно не ощущали. Прилежный читатель толстовских трактатов, он, следом за классиком, делил свой день на пять «трудовых упряжек», и последнюю, заключающую в себе «труд человеческого общения», ценил так высоко, что с ним нигде нельзя было говорить, не напрягая извилин, а это напряжение прекрасно гасит алкоголь.
Славные были места!
Ни одного из них уже нет и в помине. Весь этот квартал кривостенных двух– и трехэтажек пожертвован Моссоветом под сквер. Сквер как сквер: кусты, деревья. Когда-нибудь они разрастутся, дымка чужой юности и непонятной мне грусти овеет коротенькие эти аллеи… Да и вообще это, наверное, мудрое было решенье – должна же какая-то зелень поглощать рев и вонь взрывоподобно размножившегося автостада! Но каждый раз в этом сквере мне делалось так пустынно и зябко, так отовсюду продуваемо и одиноко, что, бывая в Москве, я стал обходить его стороной.
Но я все тороплюсь, забегаю вперед… В тот вечер все эти наши места и разговоры, вся дружба и временами вражда (ибо не бывает постоянной дружбы без временной вражды) – все было еще впереди. Под тем золотым закатом все только начиналось, проклевывалось. Это там, на веранде, было, возможно, сказано то самое важное, что сразу позволило нам отличить друг друга и подружиться на два долгих десятилетия. Наверное, было, но я не помню. Так странно.
– Чудак! – сказал бы он. – Да что ж тут странного? Ведь мы…
И началась бы одна из его лекций – они так и сыпались из него, будто горох из мешка! – о том, что в моменты всех наиболее важных решений и действий природа, как правило, отключает наш разум, вверяя нас более древним силам, которые мы лишь по неведению называем судьбой. Вот мы ничего потом и не помним.
– Вот так! – сказал бы он. – А то: странно. Возлюбили словечко… А что значит «странно»? Это, старички, не объяснение, а бессмыслица, пустота.
Он был строг и справедлив, не любя это пустое слово, которое я так и не сумел разлюбить, что тоже, конечно, странно.
А в тот вечер…
Помню, закатное солнце било ему прямо в лицо, отчего морщины на лбу казались особенно глубокими, резкими. В темных стеклах очков покачивались у него изогнутые дома и пробегали, криво вытягиваясь, автомобили. Сидел он в любимой позе – поставив локоть на стол и поглаживая указательным пальцем вытянутую, слегка пористую картофелину носа, говорил похмыкивая.
Помню фиолетового оттенка тень, все удлинявшуюся, как бы всплывавшую с жарких мостовых, карабкавшуюся с этажа на этаж, стирая с них самоварную позолоту заката. Самоварную не в смысле фальши, а очень такую теплую, домашнюю, без чрезмерности парадного блеска. Помню, как тень эта, восходя и густея, не скрадывала, а обнажала невидимые раньше пятна и трещины поношенных фасадов.
Вообще все, что было вокруг нас, помню настолько ярко, что мне иногда кажется, будто я и сам был где-то в стороне от нашего столика. Прекрасно вижу его немного сверху и сбоку: три молодые шевелюры, его наморщенный и ярко высвеченный закатом лоб, блеск оранжевого луча в зеленоватом стекле…
Так, похоже, со стороны я и смотрел тогда, не слыша ни слова, и счастлив был как бы со стороны, подобно бабушке, до слез умиленной одним лишь видом внучка, сидящего рядом с большими. Да они и были большими – наши несомненные институтские таланты, само общество которых как-то выделяло и меня из обширной толпы прочих. Это, поди, душу мою и грело, это ее и успокаивало.
Но ясно ведь вместе с тем помню: о чем-то мы спорили, довольно яростно. Вот только: о чем был спор?.. А потом он что-то рассказывал, я даже отдельные фразы повторял про себя, пытаясь запомнить. Но – что за фразы, о чем?.. И почему тот я, который наблюдал за всем со стороны, помнит так много, а споривший за столом – все начисто позабыл?
Да и мог ли я уже тогда, ощущать в свой самый счастливый вечер, подобное раздвоение, то есть нечто довольно болезненное? Нет, пожалуй, вряд ли… Это опять-таки не моя, а его была любимая тема – о неистребимой нашей двойственности, о том, что мы никогда не можем избавиться от веры в то, во что совершенно не верим, и всегда сохраняем готовность поклониться тому, что яростно отвергаем. Мне это долго казалось чудовищным вздором, я спорил до хрипоты, и даже ссылки на Монтеня не усмиряли меня. Так что раздвоение это произошло вероятней уже потом, в памяти. Вот только – как это проверить? Ведь прошлое еще и потому невосстановимо для нас, что из того сложного сплава разных идей и людей, которым становимся мы к сорока, невозможно уже выделить химически чистую первооснову нашего двадцатилетнего «я».
И все-таки – о чем мы тогда говорили? Не о Монтене ли, кстати, его любимом? Монтеня мы и сами, разумеется, должны были знать, но где ты возьмешь его в наших медвежьих краях, да и кто же читает положенное по программе? Я прочел «Опыты» лет на пять позже, испытав при этом почти что разочарование. Не могу объяснить почему, но когда он, прерывая наши споры, возглашал: «Стой, старички! Не надо вставать на ходули – и на ходулях ножками двигать придется, ножками!» – это казалось мне мудрей и парадоксальней, чем подобная же фраза, мелькнувшая потом у великого философа.
Чуть не целое десятилетие я открывал умные книги в основном вслед за ним, после его рассказов. И мысли знаменитых авторов не то что мельчали при этом, нет, но как-то чужели, как чужеет вдруг вещь, от долгого хранения не пахнущая уже родным человеком. Мы и не думаем о ее запахе, просто разворачиваем однажды, – а это уже и то, да не то.
А может, он рассказывал тогда о подруге? Он был самым старшим из нас, уже за тридцать, и у него, естественно, была жена, дети… Но кроме них была и подруга. Подвыпив, он начинал: «А вот, старички, моя подруга…» И еще – о великих писателях, у которых тоже были не жены, а подруги жизни. Он знал о них подозрительно много, и теперь, задним числом, я понимаю, что это совесть его была неспокойна, постоянно ища оправданий в чужой жизни.
Но это опять-таки сейчас, а тогда рассказы о подруге были для меня вестью из еще не освоенной и потому особо прекрасной области жизни, вроде того, как самыми умными всегда кажутся еще не прочитанные книги.
Помню, как-то весной, сидючи под конец сессии без копья…
Мы жили в институте небольшой коммункой – только это и позволяло ему благополучно дотягивать до отъезда, ибо по примеру любимого философа он охотно предоставлял другим заботиться о своем благополучии и хозяйничать в кошельке. Увы, без родового замка и штатного управляющего теория срабатывала как-то не так. Настолько не так, что даже умение проживать в день всего полтинник не всегда выручало, так как полтинника иной раз и не было.
Вообще-то вне института он был слесарем-инструментальщиком и совсем неплохо зарабатывал, но были дети, родичи, вечные долги, внезапные поездки, теория…
Все мы, впрочем, великими финансистами не были, общий кошелек тоже пустел досрочно, и в критическое такое вот утро, спустившись на вахту, я обнаружил внезапный перевод от его подруги. Как я обрадовался! Нет, не деньгам. Мы б выкрутились, я должен был кое-что получить, под это можно было занять… Но какая интуиция! Он ничего ей не писал, не ждал, они даже в ссоре, кажется, были, а она сама за тысячу верст почувствовала беду, и как, главное, вовремя! Нет, но бывает же такая любовь и настоящие ангелы-хранительницы ненадежного нашего брата!
Потом были совсем другие годы, когда я думал, что подруга-то и губит его талант, постоянно с ним ссорясь, сходясь, расходясь, требуя денег и всячески не давая работать. И были еще иные, когда я наконец понял, что ничем не может быть виноват перед тобой человек, которого ты любишь, ровно как ничто не может помешать сделать работу, если тебе суждено ее сделать.
Но все это было потом, а в тот вечер с его золотым закатом мы почти еще не знали друг друга, только приглядывались, принюхивались, и вряд ли он мог так уж сразу заговорить о подруге. Нет, нет, скорее всего, шел толк о делах. Ведь у них – у него и тогдашнего его приятеля, – в отличие от меня, были уже какие-то дела в московских редакциях, в театрах, что-то там намечалось, чтобы потом сорваться, опять наметиться и сорваться опять… Мне же казалось тогда, я был почти уверен, что в этих-то делах и таится самая соль и прелесть жизни, высшее ее блаженство. И понятно, как слушал я эти рассказы.
Говорят, все пишущие завистливы и хвастливы. Спорить не буду и головы на отсеченье не дам, что они не привирали маленько, но… Я слушал их с чистым восторгом, без капли зависти. Честно! Я ведь был самым младшим и еще без горечи в душе откладывал свои победы на будущее, а их успехам радовался, само собой, как их успехам, и еще больше – потому, что они как бы предвещали и мои, будущие, указывали их срок и почти что гарантировали.
Впрочем, бог с ним, с тогдашним разговором! Кто его знает – вдруг там и в самом деле ничего важного не было?
Но бесконечно для меня важно, что тихо догорал вечер, поднимались сумерки, стирая со стен закатный румянец, и только над дальними крышами горело еще золотое свеченье, обещая прекрасный безоблачный день. Легкий ветерок шелестел вдоль бульваров, поглаживая, щекоча прохладными пальцами нажаренную за день кожу, троллейбусы урчали моторами неспешно и ласково, будто старые коты на лежанке. Совсем рядом с нами, на углу, провода их скрещивались, из-под пощелкивающих штанг вылетали длинные голубые искры, и чистый запах озона перебивал на миг духоту раскаленного асфальта.
Никогда уже во всю жизнь не чувствовал я такой защищенности и покоя! Такой всеобщей ласковости окружающего мира, такой надежности его и правильности.
И вот этот закат догорал, зеленца проступала в темнеющем небе – глубокая, чуть мерцающая зеленца с проколами первых звезд.
Он снял темные очки, спрятал в карман линялой ковбойки (единственный из нас, он уже тогда появлялся в столице вполне затрапезно) и вскинул голову к небу.
– Да-а, – сказал, потягиваясь и разминая плечи, – да, старички, грустное дело закат!
Я дернулся спорить: о чем, мол, грустить? Я всегда дергался с ним спорить и чаще, боюсь, просто из желания хоть как-то обозначить свою самостоятельность, ибо всегда при нем ощущал катастрофическое ее таяние.
Но, дернувшись, я тоже поднял глаза и почти в зените увидел одинокое, тонкое, как вуалька, облачко, почти уже исчезающее и все же хранящее в себе последний розовый отблеск. В нем была не грусть, нет, но что-то более краткое и сильное, как мгновенное предощущение какой-то пропажи, гибели и вины.
– Это облако, оно как-то… – сказал я и смолк.
– Да, старики, – торжественно произнес он, – вот так и писать надо, чтоб, как в облаке этом, вроде ничего и нет, а душа болит!
Конец золотого вечера был непременно таков, это уж точно! Ибо о чем бы, где бы и когда бы ни говорили, он все сводил на то, как надо писать. И только при этом глаза его загорались по-настоящему.
Той слякотной рижской осенью, когда его хоронили, все собравшиеся за поминальным столом сокрушались горестно и недоуменно: как же, мол, так? Почему, так здорово все понимая, он сам ничего, почти ничего… Почему?
Каждый говорил: нет, не верю, не нахожу объясненья – и тут же принимался объяснять. О женах его говорили за тем столом, о водке, о самолюбии столь непомерном, что оно не позволяло ему удовлетворяться обычным, то есть половинчатым успехом, о самомнении, из-за которого он брался за такие темы, что лишь великим и по зубам… И опять – о его водке, о бабах.
Мы искренне сокрушались и горевали, почти не чувствуя той гордости, что заползала уже потихонечку в наши сердца и речи. Смерть – она как гонг. И мы спешили подсчитать очки, чтоб убедиться в своем перевесе. Нет, я не сужу, дело не в этом, а просто: все эти объяснения всуе.
На тех поминках я отмолчался, но как отмолчаться перед собой, перед этим закатом, узким и кровоточащим вдали, как рана? Как все это совместить: и золотой московский вечер, и рижские похороны, и семнадцать лет между ними? Семнадцать лет! Утек океан воды, выросли дети, полысели друзья, кое-кто из них вышел в люди, приобрел начальственный басок и горделивую осанку – а он все рассуждал, все устраивал свою «последнюю упряжечку», все учил нас, как надо писать, все собирался что-то начать…
После института мы виделись с ним не часто, писем почти не писали, но иногда, раз в год или еще реже, чувствовали, что как-то не так нам живется – преснее, что ли, скучней… И понимали: пора встретиться.
Если хотите, это были почти деловые поездки. Я привозил к нему вычитанное, понятое и придуманное так же, как заводы везут в столицу образцы для присвоения Знака качества. Он собирал морщины на лбу, потирал нос указательным пальцем, и мы говорили, говорили, спорили, ругались, и я уезжал, чувствуя себя поумневшим.
Так как же понять то, что у всех нас, нищенски подбиравших крохи с его стола, у всех – хоть что-нибудь да получилось, хоть на копейку, да вышло, и только у него – самого умного и талантливого – ничего, нуль абсолютный, дубль пусто-пусто. Ни семьи, ни любви, ни дела. Ум, талант, работоспособность – а я знаю его работоспособность: мы с ним однажды в тайге кедровую шишку били, это вам не перышком водить! Всё сгорело бездымно и беззольно. Бесследно. Как же это понять? Нет, не хочу, не могу, душа моя кровоточит, не в силах примириться с тем, с чем хочешь не хочешь, а примириться надо, ибо произошло. Похожая боль знакома бывшим фронтовикам: «Я знаю, никакой моей вины…»
Но в нашей-то судьбе ни пуль шальных не было, ни случайных осколков, ни бед, кроме нами же выдуманных и сотворенных. Так, может быть, все-таки была вина?
Вот мы, допустим, встречались, говорили, спорили, и эти оры-разговоры служили мне такой подпиткой мозгов, что… А чем они служили ему, что давали? Проще всего сказать: что-нибудь да давали, раз звал он, раз приезжал. Проще всего, но… стоит ли говорить то, что проще всего сказать?
А если взять посложней и сказать, что мы, ближние, окружавшие, растащили его по копейке и рублику, промотали, того не заметив, как содержимое его кошелька проматывали когда-то, благо этот человек совсем не умел запираться и отгораживать свое? А? Вдруг оно так и есть?
– Пойдем с нами! – сказал он тогда, на Пушкинской.
Я повернулся, пошел… И долгие годы мне шагалось беспечно, как всякому, идущему во второй шеренге, – знай себе попадай в ногу.
Улица взбегает на холм и там, вдали, впадает в закат. Иду по ней один-одинешенек.
Уже и сентябрь на излете, все больше в небе холодной густой синевы и тревожного багрянца, все меньше лимонного, золотого. Все холодней и гуще вечерние туманы, все дальше и слаже – сладко до слез! – слышен дымок сжигаемой ботвы, все больше под ногами листьев. Сухо, как мышки, скребут они асфальт, перегоняемые ветром, куда-то все торопятся на крохотных загнутых лапках, бегут, скребут, точат…
Я давно понял: никогда он больше не загорится для меня – тот московский закат. Не поможет ни август, ни поездка в Москву. Мы меняемся, и в сорок наши глаза уже не увидят того, что видели в двадцать.
Но ведь был же он, был! И может быть, стоит лишь оглянуться…
Иду не оглядываясь.
Я просто несу его за плечами. Вернее – он несет себя сам, как хлеб.
БЕЛЫЕ КОНИ
1
Командировка начиналась весело.
У каждого, наверное, оставались в поселке и неприятные заботы, и всякие там нерешенные дела, но в то утро все жили уже не этим, а предвкушением вольного будущего – веселой работы на токах, вечернего пляжа, рыбалки, – и потому все были немного взвинчены, старались блеснуть пред девицами, а тут еще утро после перепавшего ночью дождя выдалось прекрасным, солнечным, почти что смеющимся…
Один Николай Бажуков как вошел первым в автобус, как сел у окна, так и сидел. Он был, правда, самым старшим. Мыто все – холостежь, вольные пташки, а ему за тридцать, жена, ребенок, даже, кажется, двое… Семейные у нас в совхоз вообще-то не ездили, и потому думалось, что Бажуков, мол, тем и расстроен, что не сумел отбояриться.
Автобус катил, подрагивая от взрывов хохота. Мы обнаружили, что не всех еще знаем по именам, каждый стал представляться, а остальные комментировали.
Очкастый толстоватый парень, сидевший впереди Николая, представился так:
– Сергей, химик.
– С нарядами химичишь? – мгновенно уточнил Саня Аяков.
Все так и грохнули.
И сквозь смех этот мы услышали единственную за всю дорогу негромкую реплику Николая:
– Куда как умно!
– А ты что-нибудь умней скажи, ну?! – крутнулся к нему Саня.
Но Бажуков небрежно махнул на него рукой и отвернулся к окошку, за которым летел горячий воздух, плавившийся, дрожавший у горизонта над бурым льном, золотистыми копнами ржаной соломы и яркой зеленью клеверных отав.
Автобус шел до района, а там у почты ждал нас совхозный грузовик, и он-то за полчаса колдобистой лесной дороги к парому успел отбить нам мягкие места, намять бока и притупить охоту к песням и шуткам.
После парома, на том берегу Волги, дорога снова стала ровной и мягкой, грузовичок ходко принял наизволок, как будто хотел удрать от мельчайшего белесого песка, вырывавшегося из-под колес пушистым хвостом.
Тут все хохмачи окончательно приумолкли, а Химик попытался заговорить с Бажуковым, сидевшим теперь напротив.
– Однако зе́мли тут, а? – он поднес ко рту сложенные щепотью пальцы и пыхнул на них. – Дым! Какой тут можно убирать урожай?..
Бажуков ответить не успел – выскочил опять Саня Аяков и, вьюня руками, подмигивая, стал частить, что заволжские совхозы всегда были голодным краем, какой тут может быть урожай, но нам-то что за грусть? Что мы – ломаться сюда едем? Лично его так больше волнует загар, Волга и молоко, правда, Натка? Натка, нарядчица из нашего цеха, молча усмехнулась и небрежно, как докучливую муху, стряхнула его руку с ноги. То, что всяк пытался схватить ее за коленку, было ей в привычку, да и коленки, надо сказать, того стоили.
Мимо тянулись чахлые поля, мелькали тонкостволые березовые околки, осинники, а впереди, у самого горизонта, в обескрашенное жарой небо проткнулась из-за леса серая колоколенка и пошла, заманивая путников, выныривать то справа, то слева от дороги… И когда все уже забыли мимолетный разговор о здешней земле, озиравшийся кругом Бажуков вдруг сказал, ни к кому, собственно, не обращаясь:
– Да, места тут, должно быть, тощие.
В Юрье-Девичьем остановились на минутку у магазина. Минутка растянулась на полчаса. Только-только подвезли хлеб из пекарни, была очередь. Оказывается, свежий хлеб сюда возили не каждый день.
Впрочем, тут же явилось и развлечение.
Из бокового прогона подкатила телега, запряженная мохнастенькой игреневой кобылкой, а за телегой бежал, прядая ушами, спичконогий рыжий сосунок. Старуха-возница, замотав о передок вожжи, ушла себе с мешком в магазин. Но чуть только скрылась, из-за угла церковной ограды с переливчатым, зазывным ржанием выскочил верховой жеребец, весь белый, в одном только черном носочке на левой передней. Красив он был до чертиков, подскочил этаким фертом, распуша хвост, выгнув шею, и побежка у него была такой легкой, танцующей, что игреневая тотчас же тоненько отозвалась, дернулась, а белый уже нежно покусывал ее за ляжку, и она жалась к нему, шарахаясь, сбивая набок хвост. Телега от этих ласк скрипуче дергалась, оглобли жалобно потрескивали…
– Ишь ты! Ишь как она, – заливался Санька, приседая от восторга, – эдак: я, дескать, и не против, но в служебное время, при исполнении…
Даже Николай и Сергей-химик, глядя на него, рассмеялись: похоже было!
Сухонькая старушка-возница, выскочив на шум из магазина, погрозила жеребцу кулаком: «Ишь, кавалер! Я тебя…» – и тот, как ни странно, отошел, не стал связываться со сварливой бабой.
Когда ехали дальше в Юрятино, только и разговоров было, что об этой лошадиной любви.
– Что странно, – говорил Химик, – так это – какое у нее вымечко такое… Никогда у лошадей не видел.
– Как же! Необходимая же все-таки вещь… А? – подмигивал Саня девчатам.
– Все равно, – Химик смущенно улыбнулся, – не идет как-то: телега и вымечко. Не гармонирует.
– Ну даешь, – засмеялся Саня. – Может, у лошадей и декретный отпуск ввести?
А Бажуков молчал, слушал их, улыбался. От улыбки резкие складки, всю дорогу лежавшие у его губ, раздвигались, как бы подрисовывая снизу острые высоконькие скулы, и тогда думалось, что человек он, в сущности, очень добрый, даже, пожалуй, робкий от своей доброты. А без улыбки эти складки у губ казались горестно-злыми, жесткими.
2
Под постой нам отвели полузаброшенный клуб. Всего нас было четырнадцать человек, но мужиков только пятеро, и девчата, захватив себе зал, вытеснили нас в бывшую аппаратную или черт ее знает какую, но тесную комнатенку с единственным окном, наполовину забитым фанерой. Втиснуть сюда пять коек было бы мудрено, мы решили просто натаскать сена, и, когда все устроили, руки и шеи наши зудели от сенной трухи и требовали немедленного купания.
Барахтались долго, и, когда выскочили на берег, девчата уже хлопотали вокруг казенного байкового одеяла, на котором стояли консервы и прочая благодать. От вида тщательно промытых и очищенных белых луковок с ярким зеленым пером такой взыграл аппетит – аж скулы у меня заломило!
Закатное солнце почти уже не грело, на ветерке было зябко, и от выпитого винца в груди сразу захорошело, в глаза плеснуло туманной благостной поволокой, сквозь которую вся деревня на юру, и все эти крыши, четко очерченные закатным солнцем, и высокие рябины у клуба, и даже сбегавшие к Волге полузаброшенные развалюшки амбары, сараи – все это показалось не то чтобы уж очень красивым, но теплым каким-то, спокойным.
– А хорошо тут, черт возьми! – сказал Бажуков. – Точно тут и родился, а, старички?
Он полулежал, опершись на локти, а Натка рядом сидела, и он все время поглядывал на сильное, гладкое ее бедро с еле заметными золотистыми волосками, и на открытую чуть сбившимся вишневым купальником тонкую полоску другой кожи – запретно белой…
– Хорошо! – снова сказал Бажуков. – И почему это мы, братцы, не живем в деревне! Пляж, воздух… Плесни-ка еще, Санька! – и, приподнимаясь, протягивая кружку, как бы нечаянно положил руку на круглое Наташкино колено.
Она посмотрела на него с эдаким ленивым интересом.
– Бажуко-ов! – сказала нараспев. – Ты что это? Ты ж женатый.
– Где? – Николай с деланным испугом оглянулся. – Когда? Я ж только приехал…
Все засмеялись, даже Наташка ленивенько так хохотнула. Нельзя сказать, чтоб наша нарядчица была уж очень красивой, но в каждом ее движении сквозила та замедленная, ленивая женская грация, которая невольно подразумевает некую тайную бурность и потому неотразимо действует на нашего брата. Тут-то понять Бажукова было несложно.
…А потом пришли кони.
Двое чисто белых и один уже знакомый нам жеребец в коротком черном носочке на левой передней. Он бежал впереди, грациозно вскидывая тонкие бабки, а двое других были спутаны, но тоже торопились за ним, неуклюже взбрыкивая и мотая короткими гривами.
– Мамочки! – испуганно сказала Наташка. – Они сюда?
– Не боись, – Бажуков успокоительно погладил ее коленку. – Они не пьют портвейна и не едят килек в томате…
И в самом деле, кони добежали только до пыльной полянки у полуразвалившегося амбара. Белый кавалер понюхал теплую пыль, осторожно лег и вдруг, мощно взбрыкнув всеми ногами, перевалился через спину, и еще раз. И тоненько заржал. В переливах его голоса угадывался тот безотчетно-радостный хохоток, который иногда после трудной смены вызывают у нас теплые душевые струи. Ей-богу, в этом ржании было что-то человеческое, как будто он тоже понимал, что славно поработал и вот теперь – свободен.
– Ах, зараза, – восхищенно сказал Бажуков и даже кулаком по одеялу пристукнул. – Что делает чертяка? А?
– Не говори. Милое дело – почесать спинку… – подхватил Саня Аяков.
Пока кони были далеко, все дурачились по-прежнему. Один только Бажуков словно забыл про соседку и, положив подбородок на сложенные перед собой руки, неотрывно следил, как мощно и свободно перекатывались бугры мышц под белыми лошадиными шкурами.
Между песчаным берегом и амбарами тянулась узкая потовина. Кони потихоньку спускались в нее, хрумая сочную траву, и только тот, первый, в черном носочке, все стоял неподвижно, и его влажные темно-сиреневые глаза были устремлены куда-то за Волгу. Постоял так, посмотрел и двинулся в нашу сторону.
– Мамочки, он сюда! – Наташка вскочила на коленки и ухватилась за плечо Бажукова.
– Чо испугалась? Сядь! – досадливо поморщился он.
Белый шагах в десяти от нас снова повалился на спину и стал кувыркаться, пытаясь потереть о землю какие-то дальние и, видимо, самые чувствительные участки шеи. Девчонки с визгом сбились в стайку у самой воды, мужики тоже встали. Один Бажуков все лежал и все приговаривал:
– Ишь, разыгрался! Ишь, мальчонка!
– Да… Огреет копытом, так порадуешься, – посулила ему Томка.
– Да прогоните же его, мальчики!
Саня сделал шага три и взмахнул курткой.
– Ну, ты! Давай отсюда!
Белый скосил на него глаз и, презрительно фыркнув, перевалился на другой бок.
– Да прогоните же! – снова капризно потребовала Наташка. – Вы ж мужчины!
– А что я ему сделаю? – обиженно спросил Саня.
Все мы были люди к коням непривычные, и, видимо, не побаивался их один Бажуков, но он-то прогонять Белого никак не собирался.
А девчонки все взвизгивали, и белобрысый парень, раздевавшийся шагах в десяти от нас, подхватил длинную хворостину и быстро, молча подойдя, хлестнул Белого по морде. Тот вскочил, недоуменно оглядываясь, и парень, сделав еще шаг, снова жогнул его. Белый, не удостоив его больше ни единым взглядом, высокомерной танцующей походкой двинулся прочь.
– И всего-то делов, – сообщил парень, отшвыривая хворостину. – Вы его не бойтесь. Белый у нас скотина смирная, потому не спутавши и пускают. А вы шефы? Из району?
Девчонки снова заусаживались вокруг одеяла.
– Из Редкина, – сказал Химик, – на три недели. Присаживайтесь. Не хотите за знакомство по маленькой?
– Это можно, – легко согласился белобрысый. – Меня Геннадием зовут. Сам я из району, а сюда на лето пастухом нанялся, – он чему-то засмеялся и покрутил головой. – Курорт! Да еще и два куска в месяц отламываю. А?
Смех у него был пхекающий – точно его за горло держали.
– Тут дачников много, из Москвы даже есть, а все равно скукота, – торопливо сообщал он, – танцы только в Юрье-Девичьем, кино там же. А до вас из району были шефы, так мы с ними время проводили – тик-так!
Общий разговор метнулся в эту сторону – заговорили о деревенских и городских развлечениях, и наш избавитель от конской напасти усиленно выказывал себя человеком везде бывавшим и все повидавшим, а если кто-либо возражал ему или сомневался, он резко поворачивался, вздергивая свою короткую верхнюю губу точно так же, как и тогда, когда шел с прутом жигануть Белого.
Бажуков вдруг поднялся и, отряхнув песок, стал натягивать брюки.
– Ты куда? – спросила Натка.
– Ноги затекли, пройтись надо…
Небо наливалось густой вечерней голубизной, и солнце тонуло за крышами деревни. Внизу, у воды, было уже сумеречно, кони бродили теперь далеко, по самой гриве поросшего люпином холма, и силуэты их виделись четко и плоско, точно вырезанные из серовато-голубой бумаги и наклеенные на золотисто-лимонный фон заката.
Я следил, как Бажуков не спеша поднялся на холм и похлопал Белого по шее, словно говорил: «Что, брат, обиделся, что прогнали? Ну, ничего, не обижайся! Они дурачки…»
Конь, словно соглашаясь, с ним, встряхивал головой, и они долго стояли рядом неподвижно, глядя, как медленно оседает и наливается краснотой закат.








