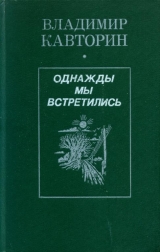
Текст книги "Однажды мы встретились (сборник)"
Автор книги: Владимир Кавторин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Но остальные были где-то далеко, он – здесь, старушка говорила о нем с гордостью, и я, поколебавшись, отправился с утра к нему на завод. Вопреки ожиданиям, он не только вспомнил меня, но и сразу узнал, обрадовался, попросил лишь чуть подождать, пока закруглит самые срочные из дел, после чего я около часу разглядывал весьма солидный его кабинет с четырьмя телефонами, электронным табло и прочими штуками.

И вот мы здесь, на веранде, чему я рад, и спорим, чему не очень.
Уже и сумерки выползают из парка, вдоль набережной повисает низка молочно-розовых бусин, пахнет полынью и морем, и вечер без нашего спора мог так быть хорош – прямо до дрожи. Но…
– Уж очень высоко мы замахивались! – обмакивая в соус лаваш, яростно провозглашает мой одноклассник. – Слишком! Помнишь, читали: «Кто мы – фишки или великие? Гениальность в крови планеты!» С упоением, а? Вот это-то упоение нам потом и отрыгнулось. Так или нет?
Что ему сказать? Так? Или нет?
Сколько себя ни помню, наше поколенье всё судят, всё его ругают! Сперва жучили учителя, родители – за слишком раннюю взрослость, цинизм, иронию, самонадеянность и непочтение к авторитетам; потом писатели, журналисты – за инфантильность, чересчур долгое детство, нехватку задора и конформизм; а теперь уже и детки пошли потихоньку – за неумение жить, излишний романтизм, почтенье к авторитетам, раннее старчество…
За долгие годы на этом деле обкаталось столько фраз, в которых вроде бы и ум, и наблюдательность, и если не правда, то все-таки что-то где-то… И такой в этих фразах соблазн для всех доморощенных философов, и столько раз я уже все это слышал, что послать бы его подальше, и…
Можно бы и послать, да я уже к нему пригляделся, уже передо мной не неведомый чего-то там начальник, а все тот же наш Петя Симаков, и любовь к спорам у него все та же, и так же пощипывает он усики, только стали они жестче и гуще, с сединкой, да на месте задиристого хохолка – просторная лысина, да голубоватое бельмо появилось на левом глазу. Из-за бельма-то он и глядит все время чуть в сторону, а это и придает его лицу чужое выражение недовольства, даже брюзгливости.
– Петь, – говорю я, – а что у тебя с глазом?
Отмахивается:
– Чепуха! Стружка попала.
– Когда?
– Давно. Работал на фрезерном.
– Как? Ты ж сразу в институт, с первого захода, я ж помню. И не куда-нибудь! Из нашего класса вообще куда-нибудь не поступали, а ты…
– Все мы с первого захода чего-то да оторвали! – не дослушав, отсекает он восторженные мои воспоминания. – Ну и что? Ничего ведь так и не получилось? В итоге-то?
– Да брось! – смиренно предлагаю я. – Что – так уж ничего и ни у кого?
– А у кого, у кого, ну?
– Да мало ли? Ну, я не помню, кто у нас там… Зорик, например.
– Казарьянц? С месяц, как виделись. В бакинском «Интуристе» на саксофоне дудит.
– Шутишь? Он же в консерваторию поступал.
– Ми-илай! – торжествующе тянет он. – Об чем и речь: все мы поступали куда-то. И не просто куда-то, а ого-го! Море было по колено. Ну и что?
Эх, надо было сразу отшутиться. Что ж, мол, что не великие? Зато и не фишки, никто нас не двигает, вот в кабак сами пришли… А теперь уже и обидно: на весь наш класс да не сыскать ни одной воплощенной мечты? На наш, самый талантливый и хулиганистый?
– А Фикрет? – вспомнив еще одно имя, говорю я. – Он здесь?
– В Баку. Ну, его бы ты не узнал. Стал такой белый, полный, как будто завмаг, да? На тар совсем не играем, немножко математику преподаем, совсем чуть-чуть…
Я смеюсь. Так похоже вышло, даже нос у Петьки будто вытянулся и обиженно загнулся.
– В институте?
– Преподает? Нет, милай, в школе. Всего лишь. В науку пойти дерзости не хватило.
– Дерзости?
Вот уж действительно!.. Да за что ж дважды исключали из школы нашего стеснительного и деликатнейшего Асланова, как не за дерзость? Они с математиком вечно цирк устраивали. Вызывая к доске Асланова, тот выискивал примеры немыслимой заковыристости. Фикрет чуток задумывался и писал ответ. Сразу и начисто. «Тэ-эк, – удивленно сверяясь с бумажкой, тянул математик. – Но как же ты это получил? Нет, ты объясни!» – «Ай балам! – взмахивая руками, взрывался Фикрет. – Самому соображать надо! Чуть-чуть, да?» Ни дисциплина, ни застенчивость не могли пересилить в нем презренье к бездарности.
– А это, милай, не я так говорю, – заверяет меня Петька. – Это он так сказал, да!
За соседним столиком появляется знакомая Петьке компания, он трясет над головой сжатыми руками, приветствуя их. Этого мало. Подходят, жмут руку, улыбаются, восхищаются и, наконец, уволакивают его к себе.
– Извини, – говорит Петька. – Сам видишь…
Признаться, я рад возможности побыть одному. Спор наш чем дальше, тем тягостнее ложился на душу.
А веранда почти уже полна. На дощатой эстрадке устраивается местный джаз – четыре пижона с грузовиком аппаратуры. Публика самая разношерстная. Но Петькины знакомые явно завсегдатаи-солидняки. Официант склонялся над ними с преувеличенным почтеньем и жадностью. Что не мешает им, впрочем, с еще большим почтеньем юлить перед Петькой.
Странно, что Фикрет стал учителем. Впрочем, тут, быть может, и нет ничего вынужденного, житейски случайного. Профессию, как и все в жизни, можно выбрать и от противного, вопреки чему-то. Но это, конечно, для Петьки не довод. Он вещает свое с таким напором, что тут пахнет уже не доморощенной философией, а страстью, личным интересом…
Грохнул джаз. Петька очутился в кругу, бабенка лет тридцати в малиновом бархате притопывала и трясла перед ним рукавами. Грудь ее так и искрила, густо вышитая чем-то блестящим. При Петькиной корпуленции пляска их выглядела смешно, даже жалко.
Впрочем, жалко мне его не было. Просто я думал, что солидное положение всегда навязывает человеку некоторое притворство, игру. Вот: Петьке, может, и хочется послать их всех подальше, а надо по-своему ублажать, хотя это не он, а они перед ним заискивают. Не потому ли люди с положением, хоть и гордятся собой, но втайне жизнью чаще всего недовольны и даже уверены, будто хотели и добивались чего-то совсем другого, неполучившегося?
Он отвел даму к соседнему столику, и там его опять умоляюще хватали за руки:
– Мэнэлим, Петр Саныч, мэнэлим…
Джаз грохотал.
– Уф! – сказал Петька, валясь в кресло. – Еле отмотался. Ты извини.
Он стал что-то рассказывать о своем младшем. Я плохо понимал из-за музыки. Да и что мне за дело до какого-то акселерата в сторублевых штанах! Я думал о нем самом, о Петьке. Чем ему так уж это улыбается – принадлежать к поколению неудачников? Возвыситься за чужой счет? Владельцы просторных кабинетов редко сомневаются в том, что являют собою пример положительный. Но, вероятно, быть положительным исключением еще слаще? Не одним из многих, а единственным – а? Подыграть ему, что ли, выманить на откровенное хвастовство и тогда…
– Что-что? – переспрашиваю я.
А! Петькино чадушко собирается в военные, а не в гражданские летчики только потому, что у военных пенсия больше. Действительно, неплох закидон для семнадцати лет.
– Ладно! – говорю, почти что ложась грудью на стол, чтоб он хоть чуть-чуть меня слышал. – Дай бог вашему теляти… Но можно отлично устроиться и все же остаться в дурнях!
– Вариант не исключен, – не обижаясь, соглашается Петька.
– А я тут знаешь что вспоминал, сидючи? Сочинение, которое в девятом писали.
– Что-что?
– Сочинение! – ору я. – Помнишь, Бэлла Рудольфовна придумала нам свободную тему? О будущем.
– А! Ну как же! Один товарищ еще накатал: будет, мол, пурга на сибирской стройке, а он будет идти… идти… Забыл, куда он там будет идти? Но Бэлла читала с таким восторгом.
«Что? Получил по морде?» – спрашивает его улыбочка. Я креплюсь:
– С этим, – говорю, – товарищем суду все ясно. Был ему такой урок на тему: как не надо писать именно то, чего от тебя ждут. Потом пригодился.
– И больше он так не писал? – улыбочка еще ехидней. – Или бывало?
– Изредка. Но я, Петя, о другом. Я насчет маленького узла для гигантского самолета.
Еще не договорив, чувствую, что несу что-то не то. Хотел ведь ему подыграть… Уж очень он злить умеет, черт бельмастый!
– Не довелось, увы! – как-то даже радостно разводит он над столом пухлыми ручками.
– А почему? Выпускники МАИ…
– Поступал в МАИ, а выпускник я, милай…
– Что ж так?
– Жизнь складывается непредсказуемо – как сами вы изволили выразиться.
– И куда распределился?
– Как всякий заочник… Но! Если желаешь, то и спорить не буду: в конструкторы я мог. Была такая возможность, но! Не переходить же со ста шестидесяти на голенькие сто десять? Семья – она презренную капусту лю́бить!..
– Ну хорошо, – соглашаюсь, – не будем понимать наши мечты так буквально. Ты инженер, руководитель производства…
– Хи-хи! – он даже в кресле подпрыгивает. – Милай, не щекоти пятки! Снабжение и сбыт – это не производство. Это у нас цирк! Прохиндейство и черт вообще знает что! Я тебе про любимую службу могу не на фельетон, а на дю-дэ-ктив порассказать. Роман века напишешь! Желаете?
– Ах, вам не нравится? – подхватываю я, опять мимовольно соскальзывая в издевку. – Тем более – зря в конструкторы не пошел. Легче кошелек – легче и совести!
– И представь: отлично я это знаю. И тогда еще знал! Да, милай ты мой, ну кто ж этого не знает? Но! Ученый, сверстник Галилея, был, как ты помнишь, Галилея не глупее. И не знал, что вертится земля, но у него – увы! – была семья. Вот так приблизительно. Кто заводит жен и детей, тот оставляет судьбе заложников.
– А это еще что за вирши?
– Не вирши, а философия. Бэкон.
– Не знаю, не читал. Но фамилия свинская.
– Ты, милай, всегда был дико необразован…
Где-то тут его опять утащила к себе компания с малиновой красоткой. И хорошо сделала – иначе б мы вдрызг разругались.
Хотя бы потому разругались, что с некоторых пор известного рода шуточки действуют на меня, как на быка красная тряпка. Секрет этого юмора, получившего у нас широкую популярность в узких кругах, довольно прост. Берешь грешок, гаденький какой-нибудь, и ни в коем разе его не прячешь – наоборот, вертишь в разговоре у всех им под носом, как дорогой цацкой: вот, мол, да, некоторым образом приобрел-с, ну и что? И глядишь, ты уже не носитель грешка – ты уже выше этого, как человек широких взглядов. Ну, циник немножко, так в этом самая-то и соль. Стоит это недорого, в обращении удобно, эффект гарантирован!
Петькины шуточки о капусте и любимой службе были как раз в этом роде, и я уже набирался злости сказать об этом, но тут его увели, минут через пять он возник средь танцующих, и красотка в малиновом бархате опять вся искрилась, вскидывая и роняя пред ним долу роскошные свои руки. Он подпрыгивал, животик его тоже подпрыгивал, грозя вывалиться из фирменных вельветовых штанов. Австрийский батничек потемнел под мышками. Странно, но я за весь день как-то и не заметил, что Петька такой пижон – «весь в фирме».
Неожиданность этого открытия меня, наверное, и подкузьмила. Глядя на них, я стал думать, что человек, может, так и не привыкает к своему телу. Излишняя полнота, физические недостатки и болезни – это не мы, это на нас, как плохо сшитый костюм. А человек, каким он сам себе кажется, все-таки виден сквозь все, проступает. Так же, как может в нем самом проступать какая-то давняя боль – сквозь смех, ерничанье, танец… Не знаю, какое все это имело отношение к танцующей передо мной паре. Просто так: думалось – вот я и думал.
Петька пришел, плюхнулся в кресло и сказал, будто мы и не прерывали спора:
– Самым умным из нас был не я, а Октай.
– Гусейнов?
– Он, милай, он! В том сочинении один он написал правду: хочу, мол, дом – чашу полную. Без романтических затей.
– Ну у тебя и память!
– Провинция – она, брат, все помнить! К тому же разве мы не все того же хотели, только постеснялись написать? А? Скиснительные были – страсть.
Ну, ладно. Не стоит вспоминать всего, что было сказано. Думаю, приятного он почерпнул мало. Уж тут я и насчет шуточек его выложил, и что не все так уж любят капусту, ровно как и не все, знающие, что Земля вертится, искажают в отчетности этот смущающий начальство факт. Да и такими стеснительными, как он думает, тоже были не все. Даже красотка наша Шафига и та не постеснялась написать, что родит четверых детей, хоть все и ржали, как недорезанные, а Зоя – что у нее будет красивый и знаменитый муж… Не постеснялись? Так что ж помешало ему?
Все это я говорил, глядя в стол, чтобы не дать себя перебить. Но когда кончил, над нами повисло молчание, такое долгое, что мне стало даже неловко. Пригласил одноклассника поболтать, молодость вспомнить, а сам взял и к стенке его поставил – хорош гусь, а?
– Ладно, – забормотал я миролюбиво, – бросим эту тему и поговорим лучше о бабах. Где, кстати, наша Милка, где Зоя – ничего не слышал о них?
Он опять промолчал. Лицо его было бледно, лысина покрылась потом.
– Тебе плохо? – приглядевшись, с тревогою спросил я.
– Нет-нет. Это так… чисто алкогольное.
Достал платок, вытер лысину.
– Шафига… Шафига, если хочешь знать, была не красотка, а красавица – большая разница, милай! И уж она-то могла себе устроить любую судьбу, как теперь говорят. Стоило только пальчиком поманить… Да вот – не захотела.
– Да, я слышал… Она погибла, кажется?
– Погибла. Милка тоже недолго по тебе горевала, вышла замуж за одного тут… Потом в Невинномысск уехали. Ну а Зоя – Зоя моя жена.
– Вот как? – от удивления я чуть было не ляпнул про Вильку, да спохватился: мало ли кого кто любил четверть века назад? И только повторил: – Вот как?
И опять молчание повисло над нашим столом. Мне было как-то не по себе, будто я таки бог знает что ляпнул и теперь не знал, как выкрутиться. С радостью ухватился за первое подвернувшееся:
– Послушай, – сказал, – Октай – он ведь что? Здесь где-то?
– В Поселке.
– Ну?! Так давай возьмем коньячку, тачку… Нагрянем, а?
– Я адреса не знаю.
– Ерунда! В Поселке – да не найти? Давай! А то мы тут спорим…
– Визит к последнему, так сказать, мечтателю: осуществилось ли хоть у него? Пожалуй… – вяло полусогласился он. – Я только должен тут пару слов с ребятами… Ты посиди.
Сидеть уже я не мог. Мне загорелось немедленно смыться отсюда, увидеть новые лица… Чтобы ускорить это, я кинулся на поиски нашего официанта. Он стоял у железной, увешанной вазонами с зеленью решетки, прикрывающей вход в кухню, и глубокомысленно выстукивал что-то на кассовом аппарате.
Насчет коньячку мы с ним мигом договорились, но чуть я вытащил кошелек, он замахал руками и попятился от меня, как от черта, жалобно бормоча, что очень Петра Саныча уважает, что гость у них святой человек и вообще «не могу, никак не могу, дорогой!». Я попробовал сунуть бумажки ему в карман, но он так дернулся, что чуть не уронил один из вазонов. На нас смотрели посмеиваясь. Я почувствовал, что выглядим мы со стороны довольно нелепо, и обида, как хмель, густо ударила мне в голову.
Когда вернулся, и коньяк и Петька были уже на месте. Что, мол, за дела, строго, не садясь, спрашивал я, почему меня выставили идиотом? Он тянул меня за руку и уверял, будто Идрис ошибся, поскольку я приезжий; у них старый уговор, но на меня он не распространяется.
– Темные делишки тут обделываешь?
Да, согласился он, темные, но на пользу производству и только ему одному. Все равно, гордо заявил я, за счет всяких там производств пить не буду – и выложил деньги. Мы их перепихивали друг другу, разбили фужер, официант тут же его убрал, а Петька сдался и спрятал мои десятки в карман, но как-то так, что мне опять стало стыдно.
Мы еще долго и темпераментно объяснялись, наконец дружно решили выпить за темные его делишки – чтоб они провалились!
– Вот именно – чтоб им провалиться! А пока есть, так кто-то их должен делать, да? – Петька сорвал станиольку и лил коньяк, щедро расплескивая на скатерть. – Выпьем за всех, кто их делает честно! По силе возможности, да?
Я придержал его руку.
– Постой. Что ж ты открыл? Мы что – не поедем?
– Куда? – удивился он.
Я и сам подумал: куда? Было уже совсем темно, фонари ярко подсвечивали снизу листву тополей, что когда-то прутиками свистели на ветру, а теперь глухо шумели чуть ниже веранды, на уровне четвертых этажей. Петька был пьян… Куда было ехать?
На улице, впрочем, я быстро пришел в себя, во всяком случае настолько, что поволок Петьку пешком, дабы не вышло с ним каких недоразумений в транспорте.
Дорогой он стал рассказывать мне, как погибла Шафига. Язык его заплетался, я понимал рассказ с пятого на десятое. Сразу после школы она провалилась в ГИТИС, вернулась домой и пошла работать аппаратчицей на комбинат. Петька тоже хотел вернуться, но мечта, проклятое зазнайство… И сама она не хотела. Кто сама – мечта? Ах, Шафига… Писала, что работа хорошая, всё, мол, в порядке. А в декабре случилась эта авария, утечка хлора или еще какой гадости. И, сам понимаешь, она кинулась спасать, ну и… Без противогаза кинулась; напарницу, которую она спасала, потом как раз и спасли, а ее… Вот так все наши мечты! Четверых ребят хотела родить. Все мы смеялись, как дегенераты, а она очень детей любила, говорила, в садик пойдет, няней, раз с институтом не вышло, но братья отсоветовали: на комбинате, мол, деньги большие, так соберешь на будущий год для Москвы…
– В этом я их не виню! Кабы знать, где упасть, да? – кричал он пьяно рыдающим голосом. – Но что никто мне даже телеграммы не дал, не написали ничего… Представляешь? Я пишу ей, пишу, думаю, что случилось… Знаешь, я и сейчас иной раз ей пишу, сяду вот и пишу, пишу…
И все время он пытался «упасть на холм и зарыдать в траву», очень ему этого почему-то хотелось, я еле довел его до старого рынка. Здесь, на углу, поджидал его сын, совсем даже не акселерат, щупленький такой… Отца из моих рук он перехватил довольно привычно, видимо, не в первый раз встречал такого папашку.
– Пошли, пошли, чуда! – говорил, закидывая отцову руку себе на шею. – Вот будет тебе завтра от мамки!
– Что ты понимаешь! Я однокашника встретил, друга, понял? – лепетал Петька. – Вот встретишь лет через двадцать, тогда и…
Они прошли несколько шагов. На всякий случай я плелся сзади. Петька вдруг повернулся, чуть не повалив пацана на землю, и поманил меня пальцем.
– Чего тебе?
– Думаешь, я такой пьяный? – спросил он, пытаясь выпрямиться. – Нализался, думаешь, и не поехал к товарищу, да?
– Трезвый ты, трезвый, успокойся!
– А почему я к нему не поехал?
– Ну, почему?
– Боюсь, – сказал он без всякого куража, как-то вдруг тихо обмякнув. – Боюсь. Приедем – а там и вправду окажется, что все мы были дураки, а он один умный. И все у него, как хотел, да? Не-ет, пусть уж этот твой последний мечтатель так и сидит. В полненькой своей чашке, накрывшись тарелочкой, пусть! Понял?
– Пусть! – согласился я.
– Шафига не зря его терпеть не могла, она людей знала. Она… она удивительная была… А ты: «красотка»! Эх ты!
Иду наугад. Во дворах темь, запахи пищи и мусора, неожиданные кусты; на улицах яркий мертвенный свет, кривые сучья и мелкая резная зелень ленкоранской акации. Пряный гвоздичный запах невидимых ее цветов. Окрепший ветер гонит вдоль поребриков песок, выдувает остатки хмеля. Еще один двор. Какая-то собака с лаем бросается под ноги. Здесь гаражи, прохода нет, сворачиваю влево и выхожу к старой автостанции, в которой теперь цветочный магазин. Где-то тут мы и гуляли в тот Новый год. Вон, кажется, те стрельчатые окна… В одном горит свет, виден фикус, красные обои. Или левее? Не помню.
Стою, разглядываю в чужом окне фикус. И тут что-то происходит с моей головой. Как будто чуть тлевшая во тьме спиралька вспыхивает и заливает ярким светом своим всю округу.
Господи, какой я дуб! Так бы и хватил себя кулаком по лбу! Ну как же это я все, совершенно все позабыл! Ведь Петька же, господи!.. Да он же одной Шафигой и дышал, мы ж их врозь даже не видели. Ну да, ну да! И когда Бэлла, разбирая ее сочинение, стала что-то там говорить про четверых детей и карьеру актрисы, как он вдруг заерзал, наш Петька, как яростно выкрикнул: «Ну почему? А вдруг у нее муж будет хороший?» – и так покраснел, что даже из класса выскочил. Все заржали… Может, потому и заржали, что были уверены: Петька у нее и будет. Нам ведь тогда многое в жизни казалось решенным уже окончательно. Они и в Москву поехали вместе. На месяц раньше меня. Петька как-то, видать, уговорил своих, что ему надо, наплел небось что-то про курсы…
А в Москве… В Москве-то, наверное, и случилось что-то такое, о чем он говорит: ей, мол, стоило судьбу пальчиком поманить. Не поманив, она вернулась сюда, чтоб вскоре хлебнуть хлору, а он ничего не знал, учился себе конструировать самолеты, осуществлял мечту. И то, что он всё пишет ей письма, сидит вот иногда и пишет, это, может быть, вовсе не пьяный бред и не обмолвка…
Постоял еще минуту и пошел к морю. Ветер дул мне прямо в лицо. Я захлебывался, хватал его полным ртом, жадно и торопливо, чтоб как-то перебить то, что саднило душу. И он, совсем как когда-то, отдавал солью, водорослями и рыбой. Он туго наполнял душу прекрасной жаждой чего-то, чего не бывает на свете… Мне было горько и стыдно, а вместе с тем так отчего-то отрадно, как давно уже не бывало.
На следующий день я зашел проститься с Бэллой Рудольфовной.
Нет, сказала она, что ты! Зоя давно уже Симакова, дело у них, пожалуй, к серебряной свадьбе. Той осенью, после десятого, она родила. Сын был вылитый Вилька, но с Вилькою было плохо. Родители его уехали, сам он поступил на актерский, где-то, по слухам, даже снимался или собирался, что-то там такое, а Зое не писал ни строчки. Бэлла всегда Вильке мирволила, и даже тут ей казалось, что это какое-то все же недоразумение, молодые пустяки. Она ходила к Цаплиным – поговорить, быть может, помочь, но ее попросту выставили. Вообще у Цаплиных было очень плохо. Зоечка металась, хотела отказаться в роддоме от ребенка, потом топилась, потом еще что-то… Словом, с ней было просто ужасно, а тут эта авария, похороны Шафиги, – с нею погибло еще двое, хоронили всем городом, – а через месяц, досрочно сдав сессию, примчался взмыленный Симаков. Родители его, конечно, все знали, а писали только: не встречаем, мол, не видим, просто чтоб парня не срывать с занятий. Потому что первый курс – это же так важно, и родители есть родители. В институт он не вернулся, дома жить не хотел, с ним тоже все было плохо, вот Бэлла и попросила его «поддержать Зою морально». Так это вышло.
Что же касается Октая, то он уже года два, как переведен на Украину. Служба его идет что-то не очень. Все еще майор, а детей много, кажется, пятеро. Так что, если дом его и полная чаша, то разве что в тех очень относительных масштабах этого понятия, которые были в ходу четверть века назад.
– Вообще-то действительно, – говорила она, – я не помню класса талантливей вашего, и столько у меня было надежд!.. Но какие-то вы оказались нежизнестойкие.
Я не возражал. Она старалась выглядеть бодро, хотя мешочки щек вздрагивали при каждом движений, сквозь седину проглядывала серая лысинка, а тесная и всегда нарядная квартирка старой девы уже производила впечатление некоторой запущенности. Силы были, видать, не те…
И молча на все это глядя, я думал о том, до чего ж неожиданно, путано и страшно складывается порой даже самая мирная и благополучная жизнь. Хоть у того же Петьки, к примеру. И как уж тут судить о жизнестойкости, и что это вообще за зверь – жизнестойкость?
Быть может, сведи меня вчера судьба-дорожка с тем, кто, несмотря ни на что, осуществил свою молодую мечту, было бы мне сейчас куда горше. Ведь…
«Осуществил, несмотря ни на что»… Да на что – не смотря? На смерть Шафиги? На Зойкино горе? Что ж… Были и среди нас умельцы шагать по несчастьям и трупам, но, слава богу, не так уж их было и густо. А в нашем классе, может, ни одного и не было.
А Петька – Петька и теперь еще в чем-то мечтатель, последний мечтатель из нашего класса.
ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ
1
В последний раз, если не считать коротеньких полуразговоров где-нибудь в коридоре управления, виделись они в конце июля, когда Игорь, наконец, выбрался на дачу к Нечесовым.
Еще зимой, едва вернувшись с Севера, он случайно столкнулся с Вадиком в управлении, и, потискав на радостях друг друга, они с удивлением выяснили, что опять, как когда-то, пашут в одной конторе. Правда, «контора» была теперь громадная, целое объединение, а Вадька оказался довольно высоким, хоть и косвенным Игоревым начальством, что, конечно, будь это не Вадька, а кто-нибудь другой, неприятно напомнило бы об упущенных годах и многих житейских ошибках, но – Вадька, Вадька, надо же!.. Игорь только головой крутил от радости. Тут же договорились, что в ближайший выходной нагрянет он к Нечесовым с новою своею половиной, и тогда уж они….
Но потом прошла зима, Нечесовы переехали на дачу, промелькнула весна, а он все что-то тянул и сам не понимал, отчего тянет.
И вот они идут с Людой от станции, разморенные и слегка помятые в переполненной электричке, жмутся к заборчикам, невольно замедляя шаги на клочках блекло-серой, ни от чего не спасающей тени. На улицах душно, пусто и тихо. У перекрестка Игорь растерянно приостанавливается, и Люда промокает платочком пот на висках, вздыхает.
– Дорогу забыл? – спрашивает.
– Да нет, но как-то, знаешь, дико. Я ведь здесь – дай бог памяти – лет пятнадцать уже не был, если не больше. И как-то мне…
– А ты не нервничай, – говорит Люда. – Все будет хорошо, вот увидишь. Я им понравлюсь, они мне тоже.
– С чего мне нервничать?
Он хмыкнул и искоса, с интересом взглянул на жену.
Нет, он не то чтобы нервничал, с чего бы? Но какое-то внутреннее напряжение не отпускало его, потикивало, подрагивало в нем. Правда, Люда здесь ни при чем. Уж она-то понравится, еще бы! Но как-то неудобно: так давно их звали, они все не ехали – и вдруг… «Ерунда, впрочем! – думал Игорь. – Какая, к черту, неловкость! Вот, скажу, ребятки, не было б несчастий, так и старые б друзья не встречались. Вера, конечно, испугается: что такое? А, скажу, подбросил мне твой благоверный этакое несчастьице по фамилии Привалов…»
Привалов был новым начальником того цеха, где Игорь работал старшим инженером-технологом. Вчера после обеда на третий участок пришли рабочие и, с разрешения нового начальства, стали ломиками долбить пол. Игорь даже глазам своим не сразу поверил.
– Вы! – задыхаясь, кричал он. – Вы понимаете, что такое вакуумная технология? Да вы знаете, что грамм пыли сделает с любой нашей установкой?
Привалов, топыря губу, не торопясь осмотрел его с головы до ног, спокойно сказал:
– Знаю. Испортит. – И ушел.
Через полчаса рабочих, однако, сняли.
Вечером, рассказывая это Люде, Игорь вдруг сказал, что о таком конечно же надо бы срочно переговорить с Вадькой. «Так поехали, – сказала она. – Нас давно звали». И теперь он был, пожалуй, даже рад, что так вышло, ибо побывать у Нечесовых и особо на даче ему хотелось. В том-то все и дело, что очень хотелось.
Вадька Нечесов, в пижамных штанах и сетчатой майке, полулежал в гамаке, натянутом меж старыми соснами, в их жидкой тени. Увидя гостей, попытался бурно обрадоваться, вскинул руку:
– О! Кого вижу!! – но, с трудом вывалив из гамака свое неповоротливое, жирное тело, вздохнул почти страдальчески: – О господи! Я, ребята, по такой жаре уже не человек. Растекаюсь…
Сосны, гамак – все было на своих местах. И просторный, в полтора этажа старый нечесовский дом был все тот же, вот только веранда… Игорь приостановился, оглядываясь.
– Да, – вздохнул за его плечом Вадька. – Вымер, друже, отцов виноград, вымерз. Еще при старике. Теперь такого не достать. Батя его с Дальнего Востока привез, уссурийский… Вот веранда и лысая. По такой-то жаре!
Поднялись на крыльцо. Вера всплеснула перепачканными красной смородиной руками (на столе у нее была привинчена соковыжималка), подбежала, подставила Игорю щеку: «О боже, ты все такой же!» – поцеловала Люду.
– Вот не ожидала! Какие вы молодцы! Как вы только добрались в такую жару? Людочка, я вижу, совсем еле живая…
– Ничего, сейчас оживим, – подмигнув, Вадька исчез в полутьме дома.
– Садитесь, садитесь, – усиленно суетилась Вера. – Вас, Людочка, я немного уже знаю, Вадик от вас просто в восторге.
– А ты совсем не изменилась, старуха! – сказал Игорь. – Немножко только…
Он чуть не брякнул о чем-то жалостном, растерянном, что появилось в ее привычно-суетливой худенькой фигурке, но она, слава богу, не слушала, говорила что-то улыбавшейся Люде.
Веранда была прокалена насквозь, пахло здесь перегретой, подтекающей краской, горячей пылью улицы и привядшими флоксами. Но все-таки, стоя у открытого окна, Игорь с мгновенной и тоскливой ясностью вспомнил, почти увидел за ним грозди мелких темно-фиолетовых ягод с налетом сизой металлической мути, нестерпимо кислых, и еще, тут же – шершавые лозы, остатки крупной ржавой листвы, октябрьский ветер, свистевший и тенькавший стеклами.
Еще не ходила сюда электричка, не было дачников, и Кузино, где он жил, было еще отдельной деревней за небольшим леском; они учились то ли в четвертом, то ли в пятом, школа была в бревенчатом бараке. Сюда он забегал рано утром, топтался на широкой влажной тряпке, чтобы не наследить, отогревал уши и ждал Вадьку. Дом этот тоже не был еще дачей, здесь жили круглый год.
– О чем задумался, Игорек? – позвала Вера.
– О винограде.
– Да, отцы ели виноград, а у детей оскомина, – провозгласил Вадька, неся к столу стаканы и запотелый кувшинчик морсу. – Прошу, господа. Уфф!..
Когда-то любил он вот так же, ни к селу ни к городу выпалить какую-нибудь «вумность» и так радостно, вкусно захохотать, что через полминуты вся компания лежала впокатушку. Теперь только вздохнул.
– А мы вот говорим здесь, какой Игореха молодец, – сказала Вера. – Возраст его даже красит, а?
– Еще бы! – отозвался Вадик. – Я его едва узнал, когда встретил, – идет красавчик, сияет. Думаю: Игорь – не Игорь? Да, Людочка, – вздохнул он, – в жизни нашего брата от вашей сестры многое зависит. Я вам скажу…
Игорь мимовольно напрягся, опять чувствуя в висках молоточки неясной тревоги. «Господи, да зачем же он? – подумал, быстро и незаметно взглядывая на жену. Она все улыбалась, но уже, показалось ему, как-то замороженно, отрешенно. – Ей же неприятно, ясное дело. И вообще, ничего не надо сравнивать с тем, что было. Неужели он не понимает?»
– Я смотрю, у вас тут перемены везде, – сказал он поспешно. – Обои вот понаклеили. А голое-то дерево красивей, а?
– Возни меньше, – пояснила Вера. – Дачу вообще гораздо лучше снимать, чем иметь.
– Браво! – деланно хохотнул он и даже прихлопнул себя по коленке. – Ты прямо фразами Полины Карповны заговорила.
– Разве?
– Н-ну?!
– Точно! – заулыбался Вадик. – Мама всегда стонала, дескать, дом – это такая обуза!








