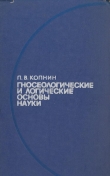Текст книги "Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия"
Автор книги: Владимир Шохин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Философский анализ проблемы «персоны», индивида восходит к той эпохе, когда в буддизме определилось направление, представители которого выразили неудовлетворенность ставшим к тому времени общепризнанным ответом Будды на вопрос о существовании индивида как, в конечном счете, его несуществовании. Согласно традиции эта проблема была поднята уже на третьем буддийском соборе в Паталипутре, под эгидой Ашоки (по современной датировке 240-е годы до н. э.), когда выявились позиции группы самматиев или, по-другому, ватсипутриев-пудгалавадинов, как раз настаивавших на необходимости признать наряду со скандхами или другими способами классификации дхарм[207]207
Таблицы дхарм, разрабатывавшиеся в школах классического буддизма, классифицируются и анализируются самим Щербатским в приложении к его известнейшей работе «Центральная концепция буддизма и значение термина „дхарма“» (1923). За основу классификации принято традиционное деление на пять групп-скандх, восходящее, без сомнения, к самому Будде, но систематизированное позднее протоабхидхармистами. Рупа-скандха включает 11 дхарм, в их числе тонкие материальные элементы и объекты восприятия, ведана-скандха и самджня-скандха – по одной дхарме, соответствующих функциям ощущения и представления, санскара-скандха – 58 дхарм в виде ментальных состояний, связанных с усилием, волением и энергией, наконец, виджняна-скандха – одну дхарму, соответствующую сознанию как таковому. Получаемые в результате 72 дхармы характеризуются как «обусловленные»; им противопоставляются 3 дхармы «необусловленные», в которые включаются пространство и два вида подавления активности «обычных» дхарм, ведущего к нирване. В результате получается классическое число 75, канонизированное в учении сарвастивадинов. Смысл этих калькуляций состоял в первую очередь в том, чтобы показать как в «выверенном» количестве «реальных элементов» бытия для «я» не находится свободной ячейки. См.: Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. С. 187–198.
[Закрыть] также персону-пудгалу, который не был бы ни отличен от дхарм, ни идентичен им. От пудгалавадинов не осталось текстов[208]208
Была выдвинута идея относительно возможности приписать самматиям составление «программного» текста «Самматияникаяшастра», сохранившегося только в китайском переводе, но она была оспорена в статье: Thich Thien Chau. The literature of pudgalavādins // Journal of the International Association of Buddhist Studies, 1984. Vol. 7. P. 8.
[Закрыть], но можно без труда представить себе, от каких неудобств, связанных с радикальным отрицанием персоны или начала «индивидуальности», они хотели себя избавить. Квазидуховное начало нужно было для оправдания воздаяния за дела (т. е. самого закона кармы), учения об «освобождении», для обоснования альтруистической этики и для возможности нормального, в конце концов, почитания самого Будды и других совершенных-архатов, которые превращались в буддизме «ортодоксальном», как и все прочее, лишь в агрегаты непонятно как связанных и совершенно «анонимных» элементов бытия. Говоря же более образно, эти «буддийские еретики» считали более логичным и во всех отношениях удобным допустить, что бусины скандх должны быть нанизаны на какую-то нить, без которой они не могут держаться.
В большом тексте тхеравадинской Абхидхармапитаки «Катхаваттху» («Предметы дискуссий») учение пудгалавадинов рассматривается первым из тех, которые корректируются «ортодоксальным» буддизмом. Судя по преданию, ядро текста восходит уже к собору в Паталипутре, т. е. к III в. до н. э., но его окончательная редакция, вероятно, относится к первым векам новой эры. Контровертивный дискурс тхаравадинов схематизируется в четырех позициях: 1) X принимает положение А; 2) X не принимает положение В; 3) ему доказывают, что, приняв А, он должен принять В; 4) тхеравадин показывает, почему допущение А влечет за собой принятие В. Дискуссия с пудгалавадином начинается с выявления его непоследовательности в принятии положения: «Пудгала существует в реальном смысле» и нежелании принять другое: «Пудгала существует в том же смысле, что и скандхи» (I.1.1). Далее «еретика» ловят на том, что, признавая группы скандх в качестве реальных, он признает и их отличность друг от друга, но не может признать такую же «сепаратность» и пудгалы. Из этого следует, что он должен признать, что пудгала идентичен скандхам, но он также этого не делает. «Ортодокс», далее, спрашивает оппонента, является ли персона-пудгала обусловленной или необусловленной, вечной или временной, наделенной какими-либо внешними признаками или нет – отказ дать однозначные ответы позволяет тхеравадину считать позицию пудгалавадина несостоятельной. На положение «еретика», что пудгала трансмигрирует, ему предлагается принять одно из четырех логически возможных решений: что персона в прежнем воплощении идентична персоне в новом, что они различны, что они и то и другое и не то и не другое, и пудгалавадин также не может принять ни одно из них (I.1.2). Утверждая, что пудгала как бы присутствует в каждый момент сознания, «еретик» не может допустить, что она меняется, умирает и возрождается в каждый момент, и тхеравадин также видит в этом непоследовательность (I.1.4). По вопросу о карме тхеравадин настаивает на том, что, признавая благую и неблагую кармы, мы не обязаны предполагать и наличие соответствующей персоны и снова предлагает оппоненту тетралемму – на сей раз в связи с идентичностью или неидентичностью того, кто трудится, с тем, кто пожинает плоды этих трудов (I.1.6). Следующие «разрушительные» для оппонента аргументы тхеравадин видит в необходимости для него признать гибель индивида после достижения нирваны (что противоречило бы поучениям Будды из текстов Сутта-питаки). По оппоненту, однако, сам факт самосознания (говоря современным языком, авторефлексии), требует признания некоего реального «я». На это тхеравадин отвечает цитатой из почтенной Сутта-нипаты, где вера в «я» объявляется лишь «мирским мнением» (стих 1119). Далее и тхеравадин и пудгалавадин ссылаются на те пассажи Сутта-нипаты, которые должны оправдать их позиции (I.1.8)[209]209
Дискуссия тхеравадинов с пудгалавадинами по «Катхаваттху» изложена по изданию: Encyclopedia of Indian Philosophies. Vol. 7. Abhidharma Buddhism to 150 A. D. Ed. by Karl H. Potter. Delhi, 1996. P. 266–270.
[Закрыть].
Следующий по значимости буддийский текст, в котором ведется полемика с пудгалавадинами – «Виджнянакайя» (I в. н. э.) из Абхидхармы сарвастивадинов. Основная аргументация сарвастивадинов – неспособность их оппонентов определить, относится ли персона-пудгала к переменным, т. е. мгновенным, или перманентным, вечным факторам бытия, и это обосновывается различными конкретными примерами. Нередки и апелляции к слову Будды в его проповедям, соответствующим материалу Сутта-питаки. Так пудгалавадин утверждает, что неупоминание пудгалы в его понимании у Будды следует соотнести с его афоризмом, по которому он передал своим ученикам лишь ничтожную часть того, что ему было известно (этого переданного столь же немного в сравнении с непереданным, как листьев шимшапы в его ладони в сравнении с листьями всего шимшапового леса), а сарвастивадин парирует тем, что по словам того же Будды он передал им только то, что было для них полезно, следовательно учение о пудгале к тому не относится. Однако в завершении раздела текста, посвященного полемике с пудгалавадинами, приводится и позитивный аргумент: ничто из шести групп сознания, т. е. сознания зрения, слуха, осязания, вкуса, запаха и мышления (см. выше, в связи с классификациями дхарм) не соответствует деятельности пудгалы, а те контакты сознания с объектами, которые обусловливают результаты соответствующих познаний, также не предполагают необходимости допущения «эмпирического я». Орган зрения, его объекты, визуальное сознание и визуальный контакт вполне объяснимы без него, и то же относится к пяти остальным видам сознания. Самостоятельно эти виды сознания и различают свои объектные сферы, не нуждаясь в том начале, которое устанавливало бы границы их функционирования. Потому допущение «эмпирического я» вполне излишне[210]210
См.: Ibidem. P. 369–374.
[Закрыть].
В комментариях к текстам Абхидхармы, например, в «Махавибхаше» сарвастивадинов допускается существование «эмпирического я», но отрицается его реальность (можно предположить, что признается, как и у Будды, его конвенциональный смысл, но не онтологический). Обстоятельнее разбирается с позиций сарвастивадинов доктрина пудгалавадинов в приложении к знаменитой «Абхидхармакоше» Васубандху (V в.), как раз частично переведенной Щербатским. «Эмпирическое я» соотносится со скандхами как огонь с топливом; существенно важно, что пудгала не включен в таблицу дхарм, т. е. единственно реальных элементов бытия; привлекаются авторитетные тексты Сутта-питаки в защиту «ортодоксальной» буддийской позиции; разбираются «трудные вопросы» в связи с субъектом трансмиграции, индивидуальностью Будды, феноменом памяти[211]211
См.: Stcherbatsky Th. The Soul Theory of the Buddhists // Известия Российской Академии наук. Пг., 1919. Сер. 6. Т. 13. С. 823–854, 937–958.
[Закрыть].
Западные параллели буддийскому антиперсонализму заслуживают всяческого внимания, и в них можно видеть существенный вклад русского буддолога в философскую компаративистику. «Трактат о человеческой природе» (1734–1737) Юма содержит специальную главу «О тождестве личности», которая открывается сомнением в правомерности позиции философов, полагающих, что осознание «я» дано нам непосредственно и что нет нужды это ощущение «я» доказывать, ибо доказательства могли бы лишь ослабить непосредственную уверенность в нем. Юм считает возможным отрицать это на основании самого опыта. Все, что нам дано непосредственно – это наши единичные «впечатления», но «я» или личность как раз к единичным впечатлениям не относится – скорее уже к тому впечатлению, к которому относятся все наши отдельные впечатления или идеи. Следовательно, оно должно быть впечатлением устойчивым, самотождественным, но все дело в том, что таких впечатлений нет: страдание и удовольствие, печаль и радость, страсти и ощущения сменяют друг друга постоянно. «…когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим я, я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию – тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никогда не могу поймать свое я отдельно от перцепции, и никак не могу подметить ничего, кроме какой-нибудь перцепции. Если же мои перцепции на время прекращаются, как во время глубокого сна, то в течение всего этого времени я не осознаю своего я, и поистине могу считаться несуществующим»[212]212
Юм Д. Трактат о человеческой природе. Кн. 1. Об уме / Пер. с англ. С. Церетели. Юрьев, 1906. С. 232.
[Закрыть]. Ссылаясь на мнения иных философов, которые каким-то образом способны ощутить в себе «я», отличное от обычных перцепций, но выражая большое сомнение в том, Юм делает заключение: «Но оставляя в стороне подобного рода метафизиков, я решаюсь утверждать относительно остальных людей, что они не что иное как связка или совокупность (bundle or collection) различных перцепций, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении»[213]213
Там же.
[Закрыть]. К идее души, «я», субстанции мы прибегаем для того, чтобы объяснить непрерывность нашего созерцания объектов, но чтобы быть последовательными до конца, мы должны тогда принять существование вместо «прерывных» объектов одного, «непрерывного», а это противоречило бы здравому смыслу. Следовательно, наша идея самотождественного «я» есть лишь наша проекция. Не является решающим доводом в пользу его и память, так как полагаться на нее – значит отрицать нашу идентичность в связи с забытыми мыслями и поступками. В результате «все тонкие и ухищренные вопросы, касающиеся личного тождества, никогда не могут быть решены и должны рассматриваться скорее как грамматические, нежели как философские проблемы»[214]214
Там же. С. 241.
[Закрыть]. Иными словами, проблема «я» могла бы быть и снята при анализе тех языковых выражений, на которых она основывается.
Вторую по значимости попытку отказа от Декартового принципа самодостоверности «я» в европейской философии мы, действительно, без труда обнаруживаем у А. Бергсона в «Творческой эволюции» (1907). Главный труд французского интуитивиста открывается констатацией того факта, что лучше всего нам известно наше собственное существование, тогда как все прочее мы познаем извне. На вопрос же о том, что есть «существование» в этом особом случае, Бергсон отвечает: «Я констатирую, прежде всего, что я перехожу из одного состояния в другое… Ощущения, чувства, хотения, представления – таковы видоизменения, на которые делится мое существование и которые по очереди окрашивают его. Я непрерывно меняюсь; более того, эти изменения гораздо значительнее, чем думали прежде. Я говорю о каждом из моих состояний, как будто оно образует одно целое. Я признаю, что я меняюсь, но мне кажется, что при переходе от одного состояния в другое остается некоторый осадок… Однако небольшое напряжение внимания открыло бы мне, что нет чувства, представления или хотения, которое не менялось бы в каждый момент…»[215]215
Бергсон А. Творческая эволюция. СПб., 1915. С. 7.
[Закрыть] Если все состояния сознания являются «трансформациями», то нет разницы между переходом из одного состояния в другое и пребыванием в том же состоянии. Наше сознание не в силах реагировать на эти непрерывные трансформации и отражает их поэтому выборочно, и тогда нам кажется будто новое состояние В рядоположено предыдущему состоянию А, которое также представляется нам неизменным. Оно вынуждено как-то «справляться» с этим непрерывным пополнением освещенных им точек «движущейся полосы» сознания. «Наше сознание, искусственно выделившее и разделившее их, принуждено затем соединить их искусственной же связью. Для этого оно придумывает аморфное, безразличное, неподвижное я, в котором тянутся, нанизываясь одно на другое, психологические состояния, произведенные сознанием в независимые сущности. В потоке меняющихся, покрывающих друг друга оттенков оно видит отдельные и, так сказать, затвердевшие цвета, рядополагающиеся как различные жемчужины в ожерелье; понятно, что приходится предположить и не менее твердую нить, на которой держатся эти жемчужины»[216]216
Там же. С. 9.
[Закрыть]. Неопределенность этого субстрата-нити, который может окрашиваться любыми красками, позволяет заключить, по Бергсону, о его несуществовании, так как мы замечаем именно цвета. Реальность, стоящая за действиями «рядоположения» – это поток. Нанизываемые же жемчужины никогда не образуют единственной реальности – длительности (durée). Потому идея «я» дает лишь искусственный, статический эквивалент длительности, которая есть «непрерывный прогресс прошлого, пожирающего будущее и растущего по мере движения вперед», а жизнь сознательного существа есть изменение, неограниченное самотворение[217]217
Там же. С. 12.
[Закрыть]. Но такими же признаками обладает и существование мира, внешнего по отношению к нам.
Приведенный материал, как кажется, вполне убедительно документирует тезис Щербатского об очевидном параллелизме буддийскому отрицанию «я» у названных западных философов и позволяет конкретизировать его. В обоих случаях речь идет о дезавуировании того, что можно назвать «обычным опытом», и эта установка может считаться определяющей для антиперсонализма. И Юм, исходя из последовательного эмпиризма, и Бергсон, опирающийся на интроспекцию, приходят к тому же конечному результату, что Будда и его последователи, позволяя предположить, что основателю буддизма были не чужды при решении вопроса о «я» обе эти позиции вместе[218]218
Критикуя современные ему философские учения, Будда апеллировал к собственному духовному опыту и особому умозрению (на пали: abhinna), позволявшему ему видеть ограниченность соответствующих воззрений. К числу этих учений относилось и учение о вечности Атмана (как и мира), которое выступает первым из философских взглядов шраманов и брахманов, излагаемых в «Брахмаджаласутте» – знаменитой «энциклопедии философских взглядов» шраманской эпохи. Изложение данного учения Будда, по составителям памятника, заключает словами: «Но Татхагате, монахи, известно, что эти воззрения, которые таким образом принимаются и которым таким образом поддаются, приведут к тому-то и будут иметь такие-то последствия. Татхагате известно и это и другое, но этому знанию он значения не придает, в его сердце знание об „успокоении“, и, познав должным образом „восход“ и „заход“ чувств, их сладость и горечь и как их избежать, освобождается, монахи, [от всего] через устраненность Татхагата». Цит. по: The Dīgha Nikāya. Vol. 1. Ed. by T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter. P. 16–17.
[Закрыть]. Будда, не задумываясь, проаплодировал бы Юмову определению людей как связок перцепций, поскольку нет такой рациональной «таблицы» элементов, составляющих бытие индивида, в которой нашлось бы место для «я» помимо конкретных «впечатлений». Несомненно Юмов довод в связи с памятью мог бы быть включен в цепочку аргументов «ортодоксальных» буддистов в их полемике с пудгалавадинами (см. выше). Наконец, постановка вопроса о том, что проблема «я» не столько философская, сколько грамматическая, находит точное соответствие в диалоге Будды с паривраджаком Поттхападой, в котором он объяснил своему собеседнику, что разумный не дает себя увлечь в ловушки языка. В данном случае Будда предвосхищает не только Юма, но и современную лингвистическую философию, в которой также проблема «я» решается аналогичным образом – достаточно вспомнить рассуждения Л. Витгенштейна и некоторых английских аналитиков[219]219
В беседе с паривраджаком Поттхападой, в «Поттхападастте», Будда допускает, что можно говорить о различных уровнях Атмана, дифференцируя их, чтобы не смешивать, к примеру, материальный, полуматериальный и нематериальный слои индивидуального существования, но считать, что слово «Атман» означает реальный референт, было бы по его мнению ошибочным – подобно тому как мы правомерно различаем продукты молока (творог, сливки, масло и т. д.), но приписывать им статус «реалий» (коим обладает только само молоко) означало бы поддаваться ловушкам словопотребления. См.: Ibidem. P. 201–202. Согласно Витгенштейну, «идея о том, что реальное „я“ живет в моем теле, связано с особой грамматикой слова „я“ и с теми недоразумениями, которые эта грамматика склонна провоцировать». Цит. по: Jayatilleke K.N. Early Buddhist Theory of Knowledge. L., 1963. P. 321. Философы-аналитики Огден и Ричардс прямо утверждали, что «отказ от вводящих в заблуждение форм языка был осуществлен еще последовательнее буддийскими авторами в их отказе от „души“». См.: Ogden C.K., Richards I.A. The Meaning of Meaning. L., 1923. P. 53–54.
[Закрыть]. Эти параллели не вызывают удивления, учитывая тот факт, что Юм стоит у истоков аналитической философии.
Впечатляющи и схождения с Бергсоном. Помимо отмеченного самим Щербатским соответствия тех ментальных состояний, на которые без остатка делится сознание по Бергсону, с нематериальными скандхами в буддизме (см. выше), можно отметить полную конгениальность мышлению Будды образа сознания как непрерывного потока, в коем на деле нет места никаким «отверделостям» опыта. Отказ от «я» по причине аморфности его для Бергсона равнозначен отказу от Атмана у Будды по причине «освобожденности» этого понятия от всего содержания в статусе «чистого субъекта», которое ему обеспечила философия древней санкхьи. Вполне в духе дискуссий буддийских «ортодоксов» с пудгалавадинами звучит образное сравнение Бергсоном «разноцветных» бусин-ощущений с бесцветной ниткой «я», которое само сознание создает ради потребности управиться с их пестротой (пудгалавадины практически и требовали признания необходимости нитки для ожерелья дхарм). Нитка, действительно, требуется для «окаменелых» фрагментов опыта, но и у Бергсона и у буддистов речь идет не о фиксации, а о непрерывности.
Можно отметить только то обстоятельство, на наш взгляд, весьма немаловажное, что и буддисты и названные западные философы строили свое отрицание «я», вопреки собственной убежденности, вовсе не на опыте, а в оппозиции к нему, ибо опыт собственного бытия даже того, кто его отрицает (и считает, что он в этом прав) неотделим от сознания своего «я». Позиция антиперсоналистов всех времен – от Будды до неофрейдистов и постмодернистов – чисто доктринальная, предзаданная, и выражает оппозицию традиционной религиозности, которая основывается на том или ином признании реальности «я» и «Ты». В случае же с буддизмом последовательный антиперсонализм ставит под вопрос сам смысл той духовной терапии, которая составляет raison d’être этой религии. Данная терапия призвана воздействовать на несуществующего пациента, который, именно по причине своего небытия, не может быть болен, а следовательно и исцелиться, а потому понятно вполне человеческое желание пудгалавадинов, как впоследствии и виджнянавадинов (вводящих новое квази-я в виде «сокровищницы-сознания») опереться в сотериологии на что-то помимо совершенно «анонимных» скандх, которые сами по себе в столь же малой степени создают объект (а потому и смысл) этой терапии, как бусинки без нитки – ожерелье. Поэтому энтузиазм Щербатского по поводу «современности» буддийского антиперсонализма (от современных же ему сторонников персонализма в западной философии Федор Ипполитович предпочел абстрагироваться) можно принять лишь в том случае, если сознательно закрыть глаза на все его логические и практические несообразности[220]220
Весьма показательно, что сам Щербатской, рекомендуя буддийский антиперсонализм современной ему философии, не мог не отметить настойчивой потребности в «я» у самих буддийских мыслителей, время от времени вводивших его под тем или иным видом в свои системы вопреки основному буддийскому антиперсоналистскому догмату. В «Буддийской логике» он отмечает в ряду этих моделей «псевдо-я», наряду с пудгалой, также понятия алая-виджняна («вместилище сознания»), которую основатель йогачары Асанга включил даже в список дхарм, сарваджня-биджа («семя всезнающего»), татхагата-гарбха («зародыш Будды») или татхагата-дхату («элемент Будды»), соответствующие дживе-душе ведантистов (подобно тому, как «космический Будда» соответствовал «Высшему Брахме»). По словам буддолога, «понятие души, хотя официально и отвергалось – буддисты продолжали отстаивать „без-душность“ – все же упорно вторгалось в пределы буддийской философии и стремилось в том или ином виде занять свое место в самом сердце буддизма». См.: Stcherbatsky Th. Buddhist Logic. Vol. 1. Leningrad, 1932. P. 113. Приведенное замечание Щербатского нуждается только в том уточнении, что точно выявленные им «протесты» в буддийском против антиперсонализма не могли не принять монистических оттенков ввиду преобладающего «пантеистического фона» индийского мышления.
[Закрыть].
2. Проблема чужой одушевленности близка проблеме обоснования собственного «я», и поэтому теперь есть смысл перейти к компаративистскому значению перевода Щербатским трактата Дхармакирти с комментарием Винитадэвы. Как было уже отмечено, русский буддолог был в значительной мере «спровоцирован» на издание перевода именно этого памятника интересом к данной проблеме у петербургских кантианцев. Высоко оцененная им, и вполне заслуженно, монография И.И. Лапшина опиралась, в свою очередь, на изыскания его учителя А.И. Введенского, посвященной пределам и признакам одушевленности[221]221
См.: Лапшин И.И. Проблема «чужого я» в новейшей философии. СПб., 1910; ср.: Введенский А.И. О пределах и признаках одушевления. Новый психофизиологический закон. СПб., 1892. Позднее, в эмиграции, в 1924 г. Лапшин издал в «Ученых записках» Русской учебной коллегии в Праге отдельную статью по солипсизму. См.: Лапшин И.И. Опровержение солипсизма // Философские науки. 1992. № 3. C. 18–45.
[Закрыть]. Для кантианцев интерес к данной проблематике был не случаен: противники Канта, а также некоторые его тенденциозные сторонники, трактовавшие его философию с «предзанятых» позиций, нередко сводили учение великого философа о трансцендентальном Я к субъективному идеализму и, в конечном счете, к солипсизму, незаконно отрывая отдельные его положения от общего контекста его философии, в.ч. «практической философии», которая с необходимостью предполагала не только чужие «я», но и их абсолютную ценность в качестве своего постулата.
Историческое исследование проблемы у Лапшина позволяет, по крайней мере, поставить вопрос о той «нише», которую могло бы занять обоснование чужой одушевленности у буддистов в общей схеме теоретических позиций по данному вопросу. Лапшин выявил семь этих основных позиций, отметив в качестве «нижней границы» самой постановки проблемы заявление Декарта о том, что животные суть лишь механизмы: тем самым было заявлено сомнение в том, что наличие внешних признаков одушевленности является гарантом самой одушевленности. Сложность данной проблемы связана с тем, что, как совершенно верно отмечал предшественник Лапшина в ее исследовании Г. Верник, она никак не может быть поставлена и тем более решена как гипотеза чистого опыта, ибо никакой опыт не может обосновать «реальность чужого „я“» (Du-Wirklichkeit), поскольку допущение или недопущение его существования зависит от метафизических, а не эмпирических посылок[222]222
Wernick G. Der Wirklichkeitsgedanke // Vierteljahrsschrift fur wissenschaftliche Philosophie. 1907. S. 404–406.
[Закрыть]. Среди тех философов, кто впервые поставили вопрос о множественности сознаний в связь с этическими и правовыми вопросами, Лапшин выделил Фихте, подчеркнув значимость этой проблемы также для психологии, эстетики (категория «вчувствования») и социологии. Среди семи выделенных им позиций наивный реализм принимает чужую одушевленность из простых аналогий между телесными проявлениями внутренней жизни у другого индивида и у нас самих, материализм – из убежденности в том, что материя может мыслить не только в нашем случае, гилозоизм – из его основного положения о всеодушевленности. Более сложны четыре другие позиции – монистического идеализма, монадологии, скептического солипсизма (Лапшин отделяет его от «солипсизма догматического», по которому внешний мир начинает и прекращает существовать вместе с моим сознанием) и позиции кантианской[223]223
Лапшин И.И. Проблема «чужого я» в новейшей философии. С. 8–14.
[Закрыть].
Нельзя не отметить «компаративистский аскетизм» Щербатского, основательно изучившего труд Лапшина. Переводчик трактата Дхармакирти ограничился, как мы видели, фактически только одним сопоставлением, притом не имеющим непосредственного отношения к теме чужой одушевленности – в связи с возможностью постановки вопроса об аналогах предустановленной гармонии у буддийских идеалистов – не сочтя нужным как– то «устроить» персонажей своего диалога буддийских философов в «сетке» представленной Лапшиным классификации западных философских позиций. При желании же можно было бы начать, вполне в его духе, с общей расстановки позиций по проблеме чужой одушевленности в европейской и индийской традициях. Например, аргументы санкхьяиков в защиту множественности духовного начала – пуруши, приводимые в «Санкхья-карике» 18, вполне соответствуют рассматриваемой проблематике. Ишваракришна, имея в виду ведантистов, отстаивавших, как известно, единичность Атмана, апеллирует к таким доводам, как неодновременность рождений и смертей индивидов, различие в их деятельности и способностях, а также несовпадения в преобладании той или иной внутренней интенции их существования в зависимости от пропорций трех гун[224]224
С нормативными комментариями традиции санкхьи к указанному положению Ишваракришны можно ознакомиться по изданию: Лунный свет санкхьи. Ишваракришна. Гаудапада. Вачаспати Мишра. Изд. подгот. В.К. Шохин. М., 1995, С. 167–169.
[Закрыть]. Ведантисты вполне резонно возражали, что приводимые доводы относятся к тому, чему сам Атман в своей сущности по определению внеположен (аргументы санкхьяиков релевантны лишь в связи с его «гунным окружением») и скорее могут обосновать необходимость учета «дифференцирующих факторов» (упадхи) как создающих видимость множественности Атмана под воздействием Майи[225]225
C аргументами Шанкары против данной доктрины санкхьи можно ознакомиться по его основному труду – комментарию к «Брахмасутрам» (II.3.49–50). См.: Brahmasūtraśaṅkarabhāṣyam. Ratnaprabhā-bhāmatī-nyāyanirṇayaṭīkā-sametam. Vārāṇasī, [1965], P. 848–851.
[Закрыть]. Тем не менее, позицию санкхьяиков можно интерпретировать в духе обоснования чужой одушевленности, которая по схеме Лапшина относится скорее к позиции наивного реализма.
Своеобразие и парадоксальность дискуссии буддийских школ о принципах обоснования чужой одушевленности заключается в том, что участники этой дискуссии отрицают не только чужие, но и собственные «я». Хотя буддийские «реалисты» вроде саутрантиков или вайбхашиков имели все основания вменить виджнянавадинам, настаивавшим на объективной реальности одного только сознания, солипсизм (который и в Индии, как и в Европе почитался абсурдом), по существу и для них чужое «я» было таким же фантомом, как и для их оппонентов (см. выше). Разумеется, позиция виджнянавадинов не была равнозначна солипсизму, поскольку они признавали помимо единичного сознания также и общее (алая-виджняна), но зато ее вполне можно определить в качестве иллюзионизма, при котором и свое «я» и чужие являются лишь сновидениями «общего сознания». Что же касается тех западных аналогий этому «общему сознанию», разветвляющемуся на потоки жизней, которые каким-то образом координируют друг с другом, то речь не может идти, вопреки Щербатскому, о предустановленной гармонии Лейбница. Данная концепция предполагала последовательную теоцентрическую модель мира, при которой всесильный и бесконечно разумный Бог предустанавливает развитие каждой из бесчисленных простых субстанций-монад в соответствии с развитием всех остальных и мироздания в целом, определяя также гармонию телесных и духовных начал[226]226
Так в своем эссе «Размышления о жизненных началах и о пластических натурах»(1705) Лейбниц рассматривал свое учение как сильнейший аргумент в пользу строго теистического мировоззрения. «Эта система предустановленной гармонии, – писал философ, – дает новое, до сих пор еще неизвестное доказательство бытия Божия, так как совершенно ясно, что согласие стольких субстанций, из которых ни одна не имеет влияния на другую, может происходить только от одной общей причины, от которой они все зависят, и что она должна иметь бесконечную силу и мудрость, чтобы заранее установить все эти согласия». См.: Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. Т. 1. M., 1982. С. 372.
[Закрыть]. В случае же с буддистами перед нами скорее аналогии с внутренне противоречивой Мировой волей Шопенгауэра, которая слепо, но одновременно целенаправленно регулирует свои объективации посредством принципа индивидуации, в конечном счете иллюзорного. Показательно, что и у буддийских идеалистов и у Шопенгауэра сама эта «естественная родственность» жизней-сознаний рассматривается в качестве основания альтруистической этики, о коей, правда, тоже можно говорить на деле только с очень значительными оговорками за отсутствием реального, субстанциального «я» (как своего, так и чужого). Частичные аналогии вызывает и учение Фихте об Абсолютном сознании, которое, как единая жизнь, распадается на многие, должные, в конечном счете, быть равными друг другу. Поскольку в системе Фихте был закономерен вопрос, не может ли локализоваться это Абсолютное сознание «во мне», проблема чужой одушевленности является здесь обоснованной[227]227
Подробнее см.: Лапшин И.И. Проблема «чужого я» в новейшей философии. С. 38–39.
[Закрыть].
3. Что касается параллелей философии Нагарджуны в западной мысли, то круг сопоставлений здесь может быть настолько широким, что выявленные Щербатским схождения мировоззрения и рефлективных методов мадхьямиков с различными философскими направлениями начиная с элеатов и кончая Бергсоном не удивляют своей объемностью. Чрезвычайно многоуровневая система мысли мадхьямиков, сочетающая различные типы рациональности и одновременно их критику, рафинированную диалектику и «снятие» ее в мистическом интуитивизме, попытки описания реальности на основании единого принципа и ее «раскол» на мир кажимости и истины вполне может рассматриваться как синтез многообразия философем, единично, а частично и системно реализованных в самых разнообразных опытах философствования, как индийского, так и европейского. Неудивительно поэтому, что многие десятилетия после «Концепции буддийской нирваны», которую можно без преувеличений считать одной из эпохальных вех в развитии «нагарджуно-ведения», буддологи и философы-компаративисты разрабатывали параллели, намеченные Щербатским, и без труда открывали новые: в связи с античными скептиками, Ф. Ницше, А. Уайтхедом, Л. Витгенштейном, современной аналитической философией и со многими другими направлениями философской мысли[228]228
С указаниями на соответствующие публикации можно ознакомиться по монографии: Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990. С. 173, 184.
[Закрыть].
Нашу задачу, следовательно, было бы рационально ограничить попыткой уточнения тех компаративистских открытий Щербатского, которые касаются лишь наиболее значительных аспектов философского менталитета Нагарджуны, точнее даже основной «стратегии» его философии. Эта «стратегия» осуществляется в последовательности двух решающих «ходов»: в критике основных философских понятий и схем, на которых зиждется мир кажимости, и в апофатическом осмыслении мира конечной истины, постижение которой осуществляется через указанное «снятие» рациональности. О «стратегии» можно говорить здесь потому, что Нагарджуна последовательно решал одну задачу за другой, и сама эта последовательность вполне прозрачна: для того, чтобы прийти к миру конечной истины, следует обосновать конвенциональный характер понятийных основ мира кажимости. Негативная диалектика основателя мадхьямики находит, по совершенно точному наблюдению Щербатского, коррелят в виде аналогичной философской установки главного теоретика английского абсолютного идеализма Ф. Брэдли, а апофатическое постижение Абсолюта в целой линии европейской философии, восходящей в конечном счете к элеатам.
В первых двух главах «Мулямадхьямика-карики» предпринимается критика двух основополагающих понятий, описывающих мир становления – причинности и движения. Трактат открывается классической «антитетралеммой», форма которой была разработана еще в начальный, шраманский период истории индийской философии, в эпоху Будды (V в. до н. э.): вещи не возникают ни из себя, ни из другого, ни из себя и из другого вместе, ни без причины вообще (I.1). Причина – первый из основных факторов существования вещи, и в нем отсутствует собственное бытие (svabhāva). Причина не может быть релевантной ни по отношению к не-сущему, ни по отношению к сущему: если что-то не-сущее, то у него еще нет причины, а если сущее, то ее уже нет (I.6). Отсутствие причины вещей означает невозможность их возникновения, а невозможность возникновения – невозможность уничтожения. Следствие не содержится ни в одной из своих причин, ни в их совокупности, но тогда его появление равнозначно появлению из не-бытия. Если же следствие содержится в причинах, которые не обладают «собственным бытием», то это снова означает появление вещей из небытия. В итоге следствие не может не содержаться в причинах и не может содержаться в них, а если нет следствия, то как можно снова говорить о причинах? (I.14). Глава о движении начинается с констатации того, что движущееся не существует ввиду невозможности пройти как уже пройденное, так и еще не пройденное (II.1). Этот момент развивается далее в утверждении невозможности движения без «уже пройденного» и «еще не пройденного», а затем в утверждении относительно невозможности движения и без самого движущегося, который, в свою очередь, не может двигаться без движения. Доказывая, что начало движения отсутствует в прошлом, настоящем и будущем (II.14), Нагарджуна выявляет невозможность и тождества и различия между движущимся и движением и заключает тем, что ни движение, ни движущийся, ни проходимый им путь не существуют (II.25).
Ф. Брэдли (1846–1924) открывает свой основной труд «Явление и реальность» (1914) заявлением, что намерен предпринять скептическое исследование первопринципов, понимая под скептицизмом не сомнение в каких-то доктринах и не неверие в них, но осознание и возможность усомниться во всех «предзаданных понятиях» (preconceptions), видя в этом возрождаемом им принципе всесомнения путь к созданию новой для английской философии «системы первопринципов». Рассматривая, как и Нагарджуна, те понятия и понятийные каркасы, на которых строится привычное мироздание, он постепенно все их дезавуирует. Мир состоит из вещей, которые определяются своими качествами, но реальны ли сами эти качества? Со времен Локка было принято делить их на первичные, считавшиеся объективными (протяженность, форма и т. д.) и вторичные, полагавшиеся более или менее субъективными (цвет, вкус, запах и т. д.). Но выясняется, что вторичные качества и должны принадлежать протяженным вещам (обладающим первичными качествами) и в то же время не могут им принадлежать, следовательно, различение тех и других качеств «не приближает нас к истинной природе действительности». Большие трудности возникают и в связи с выяснением соотношения вещи и ее качеств как таковых: сахар обладает качествами, но он не сводится к одному из них (например, к сладости, ибо иначе он не был бы также твердым и белым), ни ко всем вместе (ибо тогда он лишился бы своего «единства», которое и состоит в этих качествах и не сводимо к ним одновременно), а рассматривать качества как отношения означало бы растворить их в последних. Противоречивы также пространство и время, ибо первое есть на деле «отношение пространств», а второе – единство «прежде» и «после» в одном; и то, и другое являются отношениями и одновременно не являются таковыми.
Как и Нагарджуна, Брэдли подвергает критике понятия движения и причинности. Первое из них объединяет взаимоотрицающие постоянство и изменчивость, второе же – целый пучок противоречий. Причинность требуется для объяснения того, как вещь А может измениться в вещь В, но А как таковое останется только А, если не ввести новые начала, объясняющие его изменение. Мы можем найти облегчение в допущении А + С = В, но встанут более общие проблемы, точнее дилеммы (поразительно напоминающие нагарджуновские): если следствие будет отлично от своей причины, то как это отличие объяснить? если же не отлично, то утверждать причинность будет просто «фарсом»[229]229
Bradley F. Appearance and Reality. L., 1920. P. 55.
[Закрыть]. Но даже если принять, что А и С могут дать вместе А + С, то как объяснить возможность их совместного изменения (до того они были вполне изолированы)? Для этого надо вводить еще новое начало D, которое их могло бы скоординировать, но так мы придем к регрессу в бесконечность. В результате у нас две только возможности: либо разрешать неразрешимую проблему соотношения единства и различия или считать причину и следствие также «иррациональными явлениями», но не реальностью. Кроме того причинность должна быть либо континуальной, либо дискретной, но не может на деле быть никакой из них[230]230
Ibidem. P. 60–61.
[Закрыть]. Общий вывод, который делает Брэдли из критики «каркасных понятий», полностью совпадает с аналогичным заключением Нагарджуны: если все реляции описания вещей оказались призрачными, то что же остается от них самих?! Другие важнейшие параллели двух философов состоят в том, что Брэдли отвергает, вполне на «буддийский манер», и личностную идентичность индивида, и функциональное единство «я»[231]231
Ibidem. P. 112–114.
[Закрыть], а также признает два уровня истины: за уровнем мира как явления (базирующегося на самопротиворечивых понятийных каркасах) скрывается Реальность, тождественная Абсолюту, характеризуемому, в противоположность «конвенциональному миру», через непротиворечивость (ср. махаянская tathatā), и целостность многообразия. Отметим также, что два уровня истины у Брэдли значительно ближе нагарджуновскому различению между конвенциональной истиной (saṃvṛti) и конечной (paramārtha), чем три уровня реальности в веданте, которые Щербатской считал само собой разумеющимся коррелятом мадхьямиковской концепции. Как было уже отмечено выше (см. глава 1, § 6), ведантийские «реальности» типологически ближе к виджнянавадинским, чем к нагарджуновским, так как маркируют, в отличие от последних, измерения самого бытия, а не только уровни его познания[232]232
В этом разграничении нагарджуновской и ведантистской моделей автор этих строк в известной мере солидаризируется с Т. Мурти, который, вопреки своей общей «лояльности» по отношению к русскому буддологу писал, что Щербатской, а также индийские «столпы» истории философии С. Дасгупта и С. Радхакришнан увлеклись относительно поверхностными сходствами двух систем, не усмотрев глубинных различий между ними. См.: Murti T.R.V. Saṃvṛti and Paramārtha in Mādhyamika and Advaita Vedānta // Two Truths in Buddhism and Vedānta. Ed. by M. Sprung. Dordrecht; Boston, 1972. P. 9. Подробный анализ контекстов бинарной оппозиции saṃvṛti/paramārtha в основном тексте Нагарджуны и его комментатора Чандракирти (VII в.) представлен в статье: Sprung M. The Mādhyamika Doctrine of Two Realities as a Metaphysic // Ibidem. P. 40–53. Автор завершает свое изыскание в принципе верным выводом о том, что обсуждаемая бинарная оппозиция в мадхьямике не соответствует метафизике в реальном смысле, но скорее платоновскому различению духовного неведения и истины.
[Закрыть].