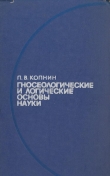Текст книги "Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия"
Автор книги: Владимир Шохин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Подлинным открытием в первом историко-философском опыте Щербатского было выяснение различий и сходств индийской логики с аристотелевской и новоевропейской. Речь идет о сопоставлении уже не только готовых результатов двух философских традиций, но и самих типах рациональности, о том, как собственно носители этих традиций мыслили сам мыслительный процесс.
Щербатской был совершенно прав, выясняя истоки индийской логики в эпоху начального сложения будущих тенденций индийской рациональности – в поздневедийский, он же раннебрахманистский, период индийской культуры (примерно VIII–VI вв. до н. э.), когда задачи истолкования ритуала и священного языка обусловили становление самой логической аргументации (русский индолог был бы еще более точен, если бы подчеркнул при этом значение дискуссий древних эрудитов, создавших «материал» для применения логического инструментария в виде позиций pro и contra[141]141
Первым опытам контровертивной диалектики в индийской культуре, в поздневедийскую эпоху, реконструируемым по текстам Брахман, «Нирукте» Яски, «Брихаддэвате» Шаунаки и другим памятникам, уделяется специальное внимание в нашей монографии: Шохин В.К. Брахманистская философия. Начальный и раннеклассический периоды. М., 1994. С. 45–54.
[Закрыть]). Это наблюдение не только позволяло снять с повестки дня проблему «греческих корней» индийской логики, понятную для эпохи «теории влияний» (см. глава 1), но и предполагало возможность заговорить о различии менталитетов, определивших некоторые различительные черты индийской и аристотелевской логик.
Одно из важнейших замечаний Щербатского, безусловно, касалось того обстоятельства, что задачи логического вывода в европейской традиции мыслились вполне «формальными», тогда как в индийской еще и собственно познавательными. В самом деле, логический вывод (anumāna) рассматривался прежде всего как один из источников знания (pramāṇa – букв. «способ измерения»), т. е. как одно из средств получения новой информации о мире вещей, недостижимой с помощью чувственного восприятия. В этой связи бесспорны аналогии между знанием о смертности Сократа и аналитическим суждением и знанием о «коптящем» холме и суждением синтетическим. Познавательному значению индийского силлогизма, конечно, соответствует и то, что мы движемся в нем «от частного к частному», и здесь Щербатской верно усматривает параллели с логикой Милля. Важнейшим наблюдением в той же связи следует признать и то, что он обратил внимание на «материальное», не формальное деление умозаключений в ранней ньяйе – умозаключения от причины к следствию, от следствия к причине и по аналогии. Другое, для времени «Логики в древней Индии» беспрецедентное, открытие заключалось в обнаружении такой различительной черты индийской логики, правильнее было бы сказать «металогики», как разграничение вывода-для-себя и вывода-для-другого в школе Дигнаги, практически отсутствовавшее в европейской традиции до новейшего периода. Это различение того, что можно назвать содержанием и формами умозаключения (вербализованный силлогизм может быть не обязательно трехчленным) в Индии и отсутствие оного в Греции было весьма уместно сопоставлено с отсутствием в первом случае того эйдетического идеализма, который предопределил «металогику» западной античности и средневековья. Наконец, бесспорной заслугой Щербатского следует признать выявление параллелей в связи с основной проблемой «металогики» – попытками обоснования «большой посылки», говоря по-индийски обоснования суждения «все дымящееся воспламенено» (концепция «сопутствования» – vyāpti). В этой связи были вполне уместны и сближения индийского индукционизма с новоевропейским и выявление, одновременно, ограниченности данных параллелей при необходимости признания «априористских» установок в обосновании «большой посылки» (мы не знаем всех случаев дыма и огня).
Конечно, первый философский опыт русского индолога не был неуязвим для критики, отсутствие которой объясняется отсутствием собственно историко-философской индологии в России того времени (на западные языки «Логика в древней Индии» не была переведена). Так, считать индийской спецификой отсутствие фиксированных границ между философскими дисциплинами (логика, психология, метафизика) можно было лишь с той немаловажной оговоркой, что Индия дисциплинарной структуры философии, разрабатывавшейся в западной традиции уже начиная с Афинской школы, вообще не знала[142]142
Начальный опыт предметного структурирования философии в эллинской традиции (разделы философии здесь назывались philosophia – «философии», eidos – «виды», genos – «роды», topos – «отделы») восходит уже к послесократовской эпохе, так как Ксенофонт в своих «Воспоминаниях о Сократе» (ок. 390 г. до н. э.) утверждал, что его учитель отрицал физическую часть философии, как стоящую выше нас и имел дело только с частью этической, как существующей именно для нас (I.1.11). Классическое деление философии на три основных раздела – логику, физику и этику – было «утверждено» одним из ближайших преемников Платона в Академии Ксенократом (396–314 гг. до н. э.), а затем подробнейшим образом развито у стоиков. Аристотель предложил другое деление философских дисциплин – исходя из отношения их предметов к субъекту – и выделил науки «теоретические», «практические» и «творческие». И ксенократовское, и аристотелевское деление предметов философии сохраняло свою актуальность не только в древности, но также в средневековье и в новое время.
[Закрыть]. Нельзя поэтому считать и нововведением Дигнаги разграничение логики и теории познания, с одной стороны, и метафизики – с другой[143]143
Строго говоря точные параллели европейской мета-физике обнаруживаются только в системе вайшешики. Во-первых, она представляет собой единственную даршану, уделяющую специальное внимание самой «физике», т. е. натурфилософии, систематизируемой здесь через особое «применение» субстанций, качеств и действий, выступающих по отношению к «натуральным» фактам в виде исходной онтологии. Во-вторых, именно вайшешика уделяет специальное внимание основным онтологическим категориям – «бытия», соответственно и «не-бытия» и «сущего», выстраивая целую иерархию «бытийности» (в виде онтологической пирамиды, основание которой составляют «частности частного», а вершину – бытие как таковое.
[Закрыть]. Анахронизмом следует считать и явное удревнение «Ньяя-сутр», оформленных как целое, на самом деле, не ранее III–IV вв. н. э.[144]144
Современная индология придерживается мнения, что текст «Ньяя-сутр» был завершен не ранее, чем к IV в. н. э., незадолго до составления первого комментария к нему Ватсьяяны (IV–V вв.). Правда, практически признанным является и тот факт, что первая и последняя книги сутр ньяйи, составляющие нечто вроде двухчастного учебного пособия по «науке полемики», были созданы раньше и со временем к ним были добавлены три других книги, но и эти сравнительно более ранние части не могут датироваться до начала новой эры. См. подробнее: Oberhammer G. Ein Beitrag zu den Vāda-Traditionen Indiens // Wiener Zeitschrift für die Kunde Süd = und Ost-asiens. 1963. Bd. 7. S. 102–103 (автор опирается на предшествовавшие изыскания Дж. Туччи); ср. Steinkellner E. Die Literatur des älteren Nyāya // Ibidem. 1965. Bd. 5. S. 149.
[Закрыть], а также неразграничение истоков и реального начала индийской логики. Недостаточно четко разграничивались, при сопоставлении с логикой европейской, логические школы брахманизма (ньяя) и буддизма. Апологетический пафос доклада объясняет известную идеализацию индийской логики: индийские схоласты не меньше, если не больше, чем западные, увлекались «формализмом» – фигурами силлогизма, и если Дигнага предложил 9 модусов среднего термина, то оппонент буддистов найяик Уддйотакара (VII в.) – уже 2032! Вполне правомерно отстаивая автохтонный характер индийской логики, Щербатской все же напрасно считал, что в этой области индийцы с самого начала превзошли греков: если эллины создали «Органон» уже в IV в. до н. э., то индийцы, по утверждению самого Щербатского, начали реально отделять логику от прочей философской проблематики лишь в эпоху Дигнаги, т. е. в V в. н. э. Некоторые неточности были связаны и с изложением античных параллелей[145]145
Так трудно понять, по каким источникам Щербатской сделал вывод о наличии атомистической доктрины у пифагорейцев; что же касается аргументов типа «…иначе регресс в бесконечность», то они реально применяются уже на несколько более поздней стадии, чем эпоха старших софистов, прежде всего у Аристотеля.
[Закрыть].
Эти аберрации, однако, не отменяют того факта, что уже в первом своем выступлении на философском поприще Щербатской совершил в сравнительной философии переворот, не замеченный индологами и философами его времени, но сохраняющий свое значение и до сегодняшнего дня. Причину этого достижения следует видеть в том, что он сумел обратиться в связи с сопоставлением двух логических традиций к различиям в «металогических» установках античного и индийского философских менталитетов, а также заметить тенденции в «новой» философии, в некотором смысле параллельные индийским парадигмам.
§ 4.
Частные параллели отмечались в отдельных публикациях Щербатского, по времени ближайших к его первой философской работе. Так в статье «Буддийский философ о единобожии» (1904) он отмечал сходства позиции найяиков, мысливших создание мира как действие сложения вещей из атомов посредством внешней разумной силы и приписывавших непрерывному действию всемогущего Божества каждый «факт причинной связи явлений» с учением западных окказионалистов XVII–XVIII вв. Позиция же их противников – ведантистов и буддистов, из коих первые, по его интерпретации, считали связь причины и следствия аналитической, а вторые априорной – напоминала Щербатскому аргументацию противников западного окказионализма, прежде всего Канта. Последнему особенно близки буддисты-йогачары (школа виджнянавады), по которым мир есть (частично, как у Шопенгауэра) наши представления. Их доктрину он определяет как идеалистическую, точнее как критическую[146]146
Щербатской Ф. Буддийский философ о единобожии. СПб., 1904. С. 063–064.
[Закрыть].
Эта, для всей компаративистики Щербатского решающая, параллель была эксплицирована в эпиграфе первого тома его первого фундаментального труда в качестве интерпретации основной мысли Дигнаги: «Вся область нашего познания есть создание нашего мышления, различающего категории субстанции и акциденции; оно не есть выражение действительного бытия или небытия». Труд этот назывался «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов»(1903–1909). Задумано было исследование с основательностью, позволявшей видеть в сравнительно молодом востоковеде уже классика ориенталистики. Первый том содержал комментированный и с историческо-культурологической точки зрения «обеспеченный» перевод «Ньяя-бинду» – учебника логики и эпистемологии Дхармакирти (VII в.) и комментария к нему Дхармоттары (VIII–IX вв.), во втором русский буддолог представлял систему доктрин школы виджня-навадинов-йогачаров.
Компаративистские установки, притом совершенно для того времени новаторские, нашли выражение в самих принципах как систематизации наследия йогачаров, так и перевода их памятников.
Свою задачу Федор Ипполитович сформулировал предельно ясно: «Настоящая работа имеет целью разъяснение теоретических основ буддийской религии в том их виде, как они понимались и разрабатывались в школе йогачаров»[147]147
Здесь и далее ссылаемся на современное, весьма фундированное издание этого сочинения: Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. I, II. СПб., 1995 (в данном случае ссылка на: Ч. I. С. 5).
[Закрыть]. Помимо того, что здесь теоретическое правомерно обособлялось в наследии буддизма (хотя автор, разумеется, прекрасно осознавал и религиозно-практический контекст своих текстов[148]148
Так Щербатской (как и его учитель Якоби) нередко подвергается критике за «европоцентристский», рационалистический подход к индийской философии (см.: Введение). Та же оценка встречается порой и в отечественной литературе. В основе подобной оценки лежит, во-первых, некорректное понимание того, что такое европоцентризм, который означает как раз противоположное – исключение восточной мысли из традиции рациональности, а, во-вторых, представление о том, что любая область знания в Индии, вплоть до логики, должна иметь непременно религиозно-мистический характер. В этом представлении не учитывается ни сам текстовый материал, ни способность индийского менталитета различать, при том весьма четко, работу в практической мистике и в теории, ни то, что данная способность не представляла собой чего-либо специфически индийского, так как, к примеру, история неоплатонизма была также историей «двуипостасных» мыслителей, специализировавшихся вполне «раздельно» и в теургии и в инвентаризации категориального аппарата классической философии.
[Закрыть]), имплицитно данная формулировка предполагала, – как доказал исследователь во втором томе, – рассмотрение философских положений йогачаров в рамках двойной систематизации, а именно во внутренней системе буддийских воззрений и в системе общеиндийской философской проблематики. Щербатской одним из первых осознал диалогическую структуру индийского философского дискурса, невозможность рассмотрения одной системы индийской философии без изучения всех остальных, поскольку положения каждой из этих систем содержали одновременно ответ на альтернативные взгляды ее оппонентов, которые ею же одновременно учитывались, усваивались и нередко присваивались. Для буддийских логиков Щербатской без труда нашел «оппонирующую среду» в лице брахманистских «ортодоксальных» философов ньяйи и вайшешики. Значение его как компаративиста состояло прежде всего в том, что он вводит сравнительный подход в первую очередь в анализ «внутреннего диалога» индийских даршан. Потому его сопоставления буддийских философов с западными также носили системный характер, так как здесь учитывались «западные соответствия» и их индийских оппонентов.
Значение Щербатского-переводчика следует видеть прежде всего в том, что он осмыслил и высказал сами принципы и задачи своей работы, которая по этой причине с самого начала не имела ничего общего со «спонтанной» переводческой деятельностью. Перевод индийского философского текста имеет двух адресатов: востоковеда-специалиста, который может и должен даже проверить, «насколько допущенные нами приемы перевода соответствуют требованиям научной критики в отношении вполне точной передачи мыслей индийских философов» и читателя, не знакомого ни с одним восточным языком, но заинтересованного в знании и понимании истории философии. «С этой целью язык буддийских философов передан по возможности языком современной европейской философии»[149]149
Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. I. С. 5–6.
[Закрыть]. Задача переводчика буддийской философской литературы – сделать имена Дигнаги и Дхармакирти столь же близкими и дорогими для европейца, каковыми для него являются имена Платона и Аристотеля, Канта и Шопенгауэра. Этой общей «стратегической» установке соответствовали принципы «тактического» порядка. Полностью расходясь с теми, кто полагал, что критерием корректности перевода является изобилие буквализмов и даже нежелание выйти за границы транслитерирования основных терминов, Щербатской не оставляет, совершенно сознательно, ни одного термина непереведенным. «Мы вообще старались по мере возможности проникнуть в мысль автора в полном ее объеме и передать ее на русском языке так, как передал бы ее сам автор, если предположить, что ему пришлось бы писать на этом языке»[150]150
Там же. С. 58.
[Закрыть]. А потому к переводу буддийских философских текстов применимы те задачи переводчика Платона, которые в свое время сформулировал В.С. Соловьев, видевший цель в том, чтобы «себя оплатонить, а Платона обрусить… вот чем определяется настоящий путь хорошего, т. е. действительно точного и верного перевода»[151]151
Там же.
[Закрыть].
При подобных исходных установках можно было бы ожидать изобилия сравнительного материала и в комментариях к переводу и в исследовании буддийских доктрин. Это ожидание, однако, не оправдывается, ибо Щербатской решил следовать в данном случае «научному аскетизму» и сам объяснил его причины. Первая состояла в том, что серьезный сравнительный анализ индийских и западных систем требовал, по его мнению, совершенно специальной проработки, вторая – в некоторых нежелательных последствиях тех легких обобщений, которые нередко сопровождают открытия параллелей (русский ориенталист специально выделяет легковесность суждений Шопенгауэра, с восторгом обнаруживавшего, что индийские риши «прозрели» его собственные мысли). В Индии можно обнаружить соответствия всем без исключения типам философского мировоззрения – дуализму, монизму, скептицизму, догматизму, реализму, идеализму, материализму и спиритуализму. Каждое из этих течений может взять себе в «союзники» тех или иных индийских философов, но эти схождения означают не столько подтверждение той или иной позиции (так как подтверждается, таким образом, каждая из них), сколько лишь то, что развитием философии управляют не случай с произволом, но внутренний закон и человеческой природы и самих философских вопросов[152]152
Там же. Ч. II. С. 6–7.
[Закрыть].
Но на деле «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов» содержала очень значительный компаративистский материал. Прежде всего это касается развития сопоставлений из области индийской и европейской логики, намеченных уже в его докладе «Логика в древней Индии» (см. § 2).
Несмотря на специфические особенности индийского учения об умозаключении в сравнении с аристотелевским, общий мыслительный процесс описывается в обоих случаях одинаковым образом. Классическое индийское умозаключение об огне через дым соответствует комбинации трех суждений, представляющих первую фигуру аристотелевского силлогизма (формулировалась, напомним, как: «Всякое М есть Р; всякое S есть М; следовательно, всякое S есть Р»). Однако даже за общей схемой силлогизма обнаруживаются специфические мыслительные реалии внелогического характера. Так, объект умозаключения, dharmin, букв. «носитель качеств» может быть не только вещью, но и любым пространственным или временным пунктом (там есть огонь, потому что есть дым); процесс умозаключения описывается как приписывание качеств некоему реальному субстрату; умозаключение «для себя» рассматривается как суждение в познавательной форме[153]153
Там же. Ч. I. С. 144–145.
[Закрыть]. Познавательный аспект индийского силлогизма выражается в значении логического признака (liṅga), который формально соответствует среднему термину аристотелевского силлогизма. По комментарию Дхармоттары к «Ньяя-бинду» II.3, признаком называется то, что обозначает, предполагает существование чего-то другого, вследствие чего умозаключение для индийцев есть прежде всего особого рода знание, и эта трактовка соответствует позиции новой логики Дж. Ст. Милля, в которой сущность умозаключения соответствует познанию объекта на основании его признака.
В «Теории познания и логике» акцентируются и выраженные в первой философской публикации Щербатского соображения относительно соотношения суждения и умозаключения в индийской логике в сравнении с европейской. Суждение не отлично здесь от умозаключения (см. выше, § 2): ментальные функции могут соответствовать либо восприятию, либо умозаключению, и все, что не относится к первому, относится ко второму. В отличие от европейской логики, по которой умозаключение – комбинация вытекающих одно из другого суждений, индийская видит в нем особое представление, возникающее в нашем уме при особых условиях (особенность умозаключаемого представления – в его неразрывной связи с другим представлением, являющимся его признаком). Это позволяет понять, почему индийцы относят к умозаключениям то, что европейцы никак таковым не сочли бы; примером может служить представление пустого места, на котором нет горшка, отрицательное представление о нем[154]154
Там же. Ч. II. С. 220.
[Закрыть].
Щербатской очень восприимчив к тем общемировоззренческим парадигмам, которые скрываются за казалось бы самыми формальными моментами учения об умозаключении. Так по– буддийски классический аристотелевский силлогизм звучал бы как: «Вот смертный человек Сократ» (не забудем, что суждения здесь не отличны от умозаключений). Объект в формулировке умозаключения всегда выражается буддистами с наречиями «вот», «здесь» и т. д. потому, что сам по себе объект умозаключения не имеет никаких определений – как единичный (мы бы сказали атомарный), т. е. абсолютно «частный» фрагмент потока событий в этом мире, одна из бесчисленных дхарм[155]155
Там же. С. 222–223.
[Закрыть]. Хотя, далее, умозаключение есть для индийцев не просто способ экспликации уже и без него известной информации, но источник нового знания, два основных направления индийской логики радикально расходятся в том, что собственно через умозаключение познается. По мнению брахманистов найяиков-вайшешиков это реальное бытие и реальные отношения вещей, по буддистам же, которые считали и первое и второе непознаваемым, – только наши понятия, находящиеся друг с другом в неразрывной связи, «на основании априорных законов, составляющих сущность нашего мышления». Эта точка зрения очень близка Кантовой, по которой вещи-в-себе также недоступны нашему познанию, «легитимная» область которого – лишь наши представления о ней. По-другому Щербатской выражает ту же мысль таким образом, что умозаключения позволяют нам познавать, по буддистам, объективную реальность, но с поправкой на «непознаваемый в своей сущности реальный субстрат представлений». Здесь приводятся аналогии не только с Кантом, но и с его последователем-критиком Х. Зигвартом (1830–1904)[156]156
Там же. С. 230.
[Закрыть].
Тут мы затрагиваем уже основную схему компаративистских моделей Щербатского, так как именно Кантова философия является для него и основной точкой отсчета достижений индийской философской мысли и критерием оценки некоторых решающих ее результатов по той причине, что она выполняет эти «функции» и по отношению к философии европейской. Вводя кантовские критерии в интерпретации индийской философии, Федор Ипполитович тем самым вводит последнюю в рамки философии мировой. Эта же философия делится для него на три периода: до-кантовский, собственно кантовский и послекантовский. До-кантовская и кантовская философия обнаруживается им и на индийском материале. Притом речь идет не о реальной, хронологической периодизации, но об оценочно-типологической: к индийской до-кантовской философии могут относиться и позднейшие схоластические течения, а к индийской кантовской – даже некоторые первые философские опыты индийцев. Наиболее распространен в «индийской философии Щербатского» вариант одновременного развития и, неизбежно, конфликт этих двух «типов» философии.
Первыми по времени носителями до-кантовского философского менталитета были современники Будды – догматики и скептики, от которых он в равной мере дистанцировался. И те, кто пытались в категорической форме решать метафизические вопросы своего времени, как-то: о вечности, бесконечности мира, бытийном соотношении души и тела, бытии «саморожденных» существ[157]157
В палийских текстах: sattā opapatikā, существа типа небожителей.
[Закрыть], существовании «совершенного» после смерти и т. д., и те, кто, подобно «скользким угрям», избегали любых ответов на эти вопросы, рассматривались Буддой в качестве его «оппонентов»[158]158
Там же. Ч. I. С. 17–18.
[Закрыть]. Щербатской ссылается на статью знаменитого немецкого буддолога-палиста О. Франке, который в своем исследовании «Кант и древнеиндийская философия» сопоставлял однозначные утверждения и отрицания в связи с перечисленными выше проблемами в древней Индии с альтернативами «догматической», вольфовской философии предкантовской эпохи[159]159
См.: Franke O. Kant und die altindische Philosophie // Zur Erinnerung an Immanuel Kant. Halle, 1904, S. 137–138.
[Закрыть].
К до-кантовским философам древности и средневековья Щербатской относил основных оппонентов буддийских логиков – найяиков и мимансаков. Повод для того дали ему воззрения первых на онтологический статус универсалий и вторых – на соотношение слова и предмета. Найяики-вайшешики оказались еще большими реалистами (в средневековом смысле), чем сам Платон, который, допуская существование реальностей, соответствующих общим понятиям, перенес их в сверхчувственный мир: они, не колеблясь, считали их и объектами восприятия. Мимансаки видели в слове своего рода высшую силу, придававшую объектам ту форму, в коей они мыслятся нами (ср. средневековое intellectus archetypos)[160]160
Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, Ч. II. С. 151.
[Закрыть]. Специальное внимание Щербатской уделяет осмыслению соотношения чувственного и рационального познания. Весь период мысли от греков до Канта различал эти два вида познания лишь на «количественном» преимущественно уровне: чувства дают нам неясное, смутное, сомнительное знание о мире, тогда как разум – отчетливое, ясное, верное. Знаменитый мимансак Кумарила Бхатта (VII в.) различает две стадии познания предмета: стадию нерасчлененного отражения объекта (ālocana) и ясные и раздельные представления мышления (avabodha). Найяики-вайшешики вводят стадиальность в само восприятие, различая в нем простое, «смутное» фиксирование объекта (nirvikalpaka) и участие мышления в создании представления объекта (savikalpaka). Это «количественное» разграничение восприятия и мышления вполне соответствует, как считает Щербатской, канонизации данной дифференциации у Лейбница-Вольфа[161]161
Там же. Ч. I. С. 65.
[Закрыть].
Кантовская философия, она же – критическая, представлена буддизмом. Комментируя положение Дигнаги, которым, в качестве эпиграфа, открывается «Теория познания и логика» (см. выше), Щербатской расшифровывает его в том смысле, что для буддийских философов не существует ни Божества, ни души, ни какого-либо иного «вечного бытия» и все наше познание имеет субъективное значение, будучи ограничено сферой возможного опыта, вследствие чего «метафизическое знание» невозможно. Во введении к первому тому книги он, определяя свой предмет как буддийскую теорию познания в связи с логикой, характеризует ее как критическую: «она объявляет всякое метафизическое познание невозможным, ограничивает область познаваемого исключительно сферой возможного опыта и задачу философии полагает не в исследовании сущности и начала всех вещей, а в исследовании достоверности нашего познания»[162]162
Там же. С. 7.
[Закрыть].
Критической может быть названа философская позиция уже самого Будды, который в равной мере дистанцировался как от догматизма, настаивавшего на возможности категорических суждений по «метафизическим вопросам» – касающимся сверхопытных объектов и онтологических характеристик мира, так и от скептицизма, «снимавшего» любые мировоззренческие проблемы. Однако первоначальный буддизм представляет собой еще нечто вроде до-критического критицизма, так как основатель буддизма и его ближайшие ученики еще не выработали «научно разработанную философскую систему»[163]163
Там же. С. 18.
[Закрыть]. Эту задачу поставили и решили буддийские эпистемологи и логики школы йогачаров – Дигнага, Дхармакирти, Дхармоттара и их последователи.
Существенные черты буддийского критицизма были уже затронуты в связи с рассуждениями об особенностях буддийской логики, которая, как и логика брахманистов, рассматривала умозаключение как источник получения новой информации о мире, но, в отличие от последней, ограничивала эту информацию связями между понятиями, полагая сам «субстрат» реальности непознаваемым (см. выше). Интерпретируя комментарий Дхармоттары к «Ньяя-бинду» I.1, где различаются сам «субстрат» явлений, остающийся сам по себе неизмененным, и то, что «принадлежит ему на опыте», а именно пространственные, временные и «формальные» определения, Щербатской с самого начала обращает внимание своего читателя на различение у буддистов реального «субстрата» (dharmin) и его качеств (dharma), которые на деле «конструируются нашим воспроизводительным воображением по поводу данного субстрата» и относятся не к самому субстрату, но к его явлению нам. «Субстрат» же – единственная внесубъективная реальность – носит у буддистов название «момента» и оказывается, как и вещь-в-себе у Канта, единой «подкладкой» для всех явлений.
Как и Кант, буддисты-йогачары исследовали преимущественно структуру и результативность нашей познавательной деятельности. В этой связи Щербатской настойчиво подчеркивает их солидарность с кенигсбергским философом в вопросе о соотношении чувственного и рационального познания. Буддийские «кантианцы» выступили в решительной оппозиции мимансакам и найяикам, различая эти два источника наших знаний не «количественно» – по степени ясности и раздельности (см. выше), но качественно. Дигнага не оставляет сомнений относительно того, что чувственное и рациональное познание взаиморазличны радикально, генетически. Вместе с тем он утверждает, что второе познание уже изначально участвует в первом – в элементарном восприятии ребенка уже присутствует мышление, – и это отличает буддийскую позицию от брахманистской, представители которой настаивали на стадиальности, при которой на начальное «чистое отражение» накладывается восприятие второго уровня, включающее атрибуцию «отраженному материалу» родо-видовых и прочих характеристик (см. выше). В итоге соотношение до-критической и критической позиций в Индии и Европе можно было бы, по Щербатскому, записать кратко в виде отношения двух «дробей»:

[164]164
Там же. С. 87.
[Закрыть].
Определение чувственного восприятия по Дхармакирти в «Ньяя-бинду» I.20: «Источник знания этого есть соответствие с объектами» (Arthasārūpyam asya pramāṇam) Щербатской решил без колебаний интерпретировать как «схематизм (понятий по отношению) к объектам»[165]165
Там же. С. 119.
[Закрыть], нарочито используя известнейший кантовский термин. У буддистов всякое представление – результат синтеза «моментов» или единичных ощущений; сила, соединяющая эти «моменты» в представление – наше активное мышление, состоящее из схем для представлений; по-другому, «оно облекает сырой материал, данный нашей чувственности, в те образы, из которых и состоит наше познание»[166]166
Там же.
[Закрыть]. В этом принципиальное отличие буддийской позиции от брахманистской: найяики считают, что когда мы видим синее, за этим восприятием стоит объективный носитель синего цвета – буддисты же видят здесь схему, т. е. «понятие» синего цвета, которое преобразует в соответствии со своими «требованиями» исходный материал восприятия. Речь идет не о схематизме чистых понятий, но о схематизме понятий эмпирических, которые Кант иллюстрирует примерами треугольника и собаки и называет особым искусством, скрытым в глубине человеческой души[167]167
Кант И. Критика чистого разума /Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц.Г. Арзаканяном и М.И. Иткиным. М., 1994. С. 124–125.
[Закрыть]. Щербатской отмечает, что кантовский термин устраивает его именно потому, что удачно передает нечто посредующее между чувственной стороной познания и мышлением, т. е. как раз то, что, по его мнению, и подразумевали буддийские логики.
Что же касается собственно мышления, Щербатской выявляет важную параллель в буддийской логике касательно соотношения аналитических (чисто логических) и синтетических (опытных) суждений. Так классическое причинностное утверждение «там есть огонь, потому что есть дым» относится у буддистов к суждениям второго типа, ибо буддисты, как и Кант, считали, что если бы связь причины и следствия была логической, – а именно такого мнения придерживались их противники санкхьяики и ведантисты, – то причина сопровождалась бы своим следствием всегда[168]168
Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, Ч. I. С. 157.
[Закрыть]. Вместе с тем буддисты, как и Кант, настаивали на познаваемости всеобщности и необходимости причинной связи, с существенным уточнением – в мире явлений.
Хотя русский буддолог намеренно отстранился в «Теории познания и логике» от того, что можно условно назвать «практической философией», он констатировал параллель кантовскому учению в представлении индийских философов о том, что «абсолютно-ценная цель жизни» должна находиться вне самой жизни. Для Щербатского очевидно, что и для буддийских философов, как и для Канта, был необходим переход от критической работы теоретического разума к постулатам разума практического. Он связывает это и с некоторыми историческими предпосылками: среди ранних оппонентов Будды были учителя, проповедовавшие фатализм и отрицавшие свободу воли[169]169
Там же. С. 76.
[Закрыть].
Сопоставления с после-кантовскими философами в «Теории познания и логике» были немногочисленны и выражали задачу ее автора убедить читателя в том, что построения последователей Дигнаги находились на уровне современной ему философии.
Так уже отмечались параллели между границами познавательной деятельности по буддийским логикам и Зигварту (см. выше). Другая параллель с Зигвартом виделась Щербатскому в том, что тот первым из европейских философов заметил то, что «пропустили» все его предшественники, начиная с Аристотеля, в т. ч. и Кант, вводившие отрицание в саму сущность вещей (ср. спинозовское determinatio negatio est), а именно, что то, чего в объектах нет, не составляет их сущности, но привнесено извне мышлением. Этот взгляд вполне соответствует буддийским воззрениям на природу отрицательных суждений, тогда как традиционная европейская позиция соответствует индийскому реализму (ньяя и миманса)[170]170
Там же. Ч. II. С. 260.
[Закрыть]. Две параллели обнаруживаются и в связи с философией В. Вундта. Во-первых, термин Дигнаги и Дхармакирти, выражающий «достижение» познанием объектов (pratīti), соответствует вундговскому термину «апперцепция», который означает отчетливое представление как результат внимательного рассмотрения объекта[171]171
Там же. Ч. I. С. 67. Ч. II. С. 136.
[Закрыть]. Во-вторых, в обоих случаях признается, что все психические явления сложны и что в основе их лежат далее неразложимые элементы психической жизни, чистые ощущения. Но указанное сходство нуждается в ограничении, так как для буддистов эти элементы составляют конечную реальность, ибо соответствуют динамическим атомам бытия – дхармам, тогда как для Вундта и других современных психологов они являются результатом абстракции или анализа, т. е. оказываются чем-то псевдореальным[172]172
Там же. Ч. II. С. 179.
[Закрыть]. Щербатской находит важные параллели учению буддийских логиков и у виднейшего представителя Баденской школы неокантианства Г. Риккерта. Так буддисты в суждении «Это – дерево» различали два компонента: истинная реальность заключается лишь в «Это», тогда как любая предикация в конечном счете ложна, ибо мы не можем познавать истинно-сущего в представлении, способном войти в связь со словом. В монографии Риккерта «Предмет познания» (1904) в суждении восприятия также различаются два компонента: «Это есть…» и предикат. С другой стороны, Риккерт, как и буддисты, отрицает наличие какой-либо принципиальной разницы между суждением и умозаключением, и здесь с ним солидарен также создатель имманентной философии В. Шуппе[173]173
Там же. С. 167, 216.
[Закрыть].
Федор Ипполитович «привлек» к своим параллелям и петербургского кантианца Введенского (см. § 1). В своем определении буддийской философии как критической он использует определение критицизма в трактовке Введенского (в его полемике с М.И. Каринским). В связи с аргументацией буддистов по поводу невозможности рассмотрения причинностных суждений как аналитических (см. выше) Щербатской также ссылается, помимо Кантовых «Пролегомен», на русского философа. Наконец, в связи с параллелями в понимании конечной цели жизни как трансцендентной по отношению к самой жизни он также апеллирует к его сочинениям[174]174
Там же. Ч. I. С. 7, 76.
[Закрыть]. Это свидетельствует о реальных связях русского буддолога с петербургским кантианством на ранней стадии его компаративистских штудий[175]175
Попытка выяснить меру возможного влияния на Щербатского кантианцев Санкт-Петербургского университета была предпринята в публикации: Рудой В.И. Отечественная историко-философская школа в буддологии: вклад в проблему научного толкования буддийских философских текстов // Буддизм: проблемы истории, культуры, современности. М.,1990. С. 69–76.
[Закрыть].