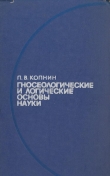Текст книги "Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия"
Автор книги: Владимир Шохин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
§ 5.
У подготовленного читателя «Теории познания и логики» может создаться впечатление, что ее автор близок дойссеновскому способу «прочтения» индийской философии через Канта (см. глава 1) с той только разницей, что он при этом ориентируется не на веданту, а на буддизм и избирает в качестве объекта этого «прочтения» вместо метафизики эпистемологию. Частично такое впечатление могло бы представляться оправданным, так как и для русского буддолога кантовская философия оказывается в определенном смысле некоей philosophia perennis, содержащей критерий истинности неевропейских форм философствования и обеспечивающей их исследователя готовыми интерпретационными парадигмами. Но этим сходства ментальности двух виднейших индологов-компаративистов и ограничиваются.
В отличие от Дойссена Щербатской ставит своей задачей не построение некоей новой синкретической, философии из сравнительных материалов, но пытается ввести индийский материал в современную ему «объективную» историко-философскую науку. Сам этот материал – эпистемология и логика школы Дигнаги – мыслится им как научный, и задача его интерпретации также является для него научной. Таким образом, русский и немецкий индологи различаются в исходных интенциях своих «подступов» к индийско-европейским философским параллелям. Другое различие состоит в том, что для Дойссена не имели значения и даже интерес типологические несходства в рамках сопоставляемого с западным индийского мировоззренческого материала и Упанишады составляли для него такую же систему философии как адвайта-веданта Шанкары – Щербатской же достаточно ясно дифференцирует нефилософское и философское как дотеоретическое и теоретическое и совершенно правомерно считает, что в сравнительной философии подобное должно сопоставляться с подобным. Более того, он различает уровни этой дискурсивности в самой индийской философии: Будда как философ является для него в сравнении с йогачарами-виджнянавадинами[176]176
Vijnānavādin – «придерживающийся учения о сознании [как единственной реальности]».
[Закрыть] носителем еще «докритического критицизма», так как он еще не представил «научно разработанную философскую систему». В этой дифференциации самих уровней рациональности русский буддолог опередил не только современную ему эпоху индологии и, соответственно, философской компаративистики, но в значительной мере и современную нам, так как необходимое требование сопоставления «подобного с подобным» остается первостепенно актуальным и в наши дни. Третье различие можно видеть в том, что если для Дойссена индийская философия сводится по существу к расширенно понимаемой веданте (включая «откровения» риши Упанишад), то для Щербатского она является реальностью значительно более дифференцированной, и он, как отмечалось выше, безошибочно определил для себя, что необходимым условием сопоставления ее феноменов с западными должно быть сопоставление основных тенденций внутри нее самой или, по-другому, предварил собственно компаративистику «компаративистикой внутрииндийской», различая прежде всего брахманистские и буддийские парадигмы философской ментальности.
К этим общеметодологическим достижениям следует добавить компаративистские принципы самой переводческой деятельности Щербатского. Буддолог пошел на значительный риск интерпретирующего перевода, руководствуясь желанием заставить заговорить Дигнагу и его последователей языком современной ему философии с тем, чтобы они могли вступить с ней в диалог и что-то передать ей из результатов своей работы. Совершенно очевидно, что он поставил эксперимент, введя компаративистику в саму ткань перевода, и эксперимент этот нельзя не признать в любом случае результативным, при точности интерпретирующего перевода параллели оказываются «обеспеченными» и наглядными, а при его «тенденциозности» эти параллели могут стать предметом столь же обоснованной критики, вследствие которой они должны быть ограничены, а значит и уточнены.
Среди конкретных находок в области сравнительной логики следует выделить намеченное в «Логике в древней Индии» и конкретизированное в рассматриваемой работе сопоставление европейских и индийских взглядов на умозаключение в его соотношении с суждением. Речь идет об индийском понимании умозаключения как особого синтетического представления, возникающего в результате неразрывной связи других представлений, а также большем «объеме» индийского умозаключения в сравнении с европейским (при включении в него отрицательных суждений).
Аналогии между критицизмом и философскими воззрениями Будды вполне подтверждаются материалом Палийского канона. Достаточно привести в качестве примера диалог Будды с паривраджаком (странствующим философом) Поттхападой, в котором основатель буддизма последовательно отказывается от ответов на традиционные философские вопросы шраманской эпохи: можно ли считать мир безначальным или имеющим начало во времени, бесконечным или ограниченным пространственно, полагать душу и тело идентичными или бытийно разнородными, допускать или не допускать существование нерожденных существ, утверждать, отрицать, утверждать и отрицать или не утверждать и не отрицать одновременно существование «совершенного» после распада его тела. Эти вопросы Будда считал нерелевантными. Позиция Будды не равнозначна распространенному в его эпоху скептицизму, ибо он прямо говорит, что в отличие от этих проблем, – по его мнению псевдопроблем, – существуют несомненные факты, значимые экзистенциально, например, всеобщность страдания, его причинная обусловленность, возможность избавления от него и путь осуществления данной возможности[177]177
Будда отвечает на «метафизические вопросы» Поттахапады: Etam pi kho Poṭṭhapāda mayā avyākataṃ (букв. «Это я оставляю без решения, Поттхапада!»). См.: The Dīgha-Nikāya ed. by T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter. Vol. I. L., 1967. P. 187–189.
[Закрыть]. В этой связи никак нельзя не вспомнить о кантовской таблице антиномий чистого разума, в которые «теоретический разум» впадает при возможности утверждения и отрицания таких тезисов, как-то: мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве, всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частиц, наряду с природной причинностью имеется также и свободная, мир обусловлен безусловно необходимой сущностью[178]178
См.: Кант И. Критика чистого разума. С. 268–291.
[Закрыть] и о кантовских же постулатах практического разума, которые должны быть приняты вследствие их экзистенциальной значимости. В обоих случаях мы имеем дело с попыткой установить «срединный путь» между «догматизмом» и скептицизмом, в которой и выражает критическая (по выражению самого Канта) позиция.
В связи с критицизмом йогачаров особую значимость имеет обоснованная параллель с Кантом относительно отрицания познаваемости метафизических сущностей как внеопытных первоначал и попытки сосредоточиться на исследовании самого познания, а не его объектов. В обоих случаях проакцентирована обусловленность познания вещей внутренними условиями познания и необходимость изучать их законы. Щербатской прав, связывая номинализм буддистов с их общей «критической» позицией, по которой мы изучаем не мир как таковой, но наши понятия о нем. Среди явных компаративистских открытий можно назвать параллели между «суперреалистами» найяиками и наследниками Платона в европейской философии, аналогию в вопросе о соотношении чувственного и рационального познания между найяиками/мимансаками и Лейбницем/Вольфом с одной стороны и буддистами и Кантом – с другой[179]179
О недооценке генетического различения между перцептивным и дискурсивным знанием у Вольфа и даже у тех его последователей, которые специально изучали специфику чувственного познания (напр., у А. Баумгартена) см.: Жучков В.А. Из истории немецкой философии XVIII века (предклассический период). М., 1996. С. 31, 39–40. В том большом значении, которое Щербатской придает указанному различению у Канта, видя в этом существенную типологическую его близость к буддийским философам, он совпадает с наиболее авторитетными интерпретаторами кантовской философии. Так, подчеркивает В. Виндельбанд: «Итак в то время, как для Лейбница чувственность и рассудок были лишь двумя различными ступенями развития одной и той же простой познавательной способности, у Канта возникла мысль: не представляют ли они собой два различных в самом своем основании способа деятельности познающего ума?» – Виндельбанд В. От Канта до Ницше. М., 1998. С. 39.
[Закрыть], а также параллель кантовскому понятию схемы чувственных понятий как продукта и монограммы чистой способности воображения a priori в учении йогачаров о конструировании образов предметов восприятия. Наиболее важными из параллелей буддийской философии в философии послекантовской можно признать различение у Риккерта в перцептивном суждении компонента «это» и предиката, а также взгляд Вундта и других философов на психические акты как «разложимые» на «атомарные» акты-состояния (при учете тех различий в данном вопросе, на которые обратил внимание автор «Теории познания и логики»).
Параллели Щербатского можно было бы развить и на современном материале. Так в современной философии считается в определенном смысле уже признанным, что утверждения о существовании объектов (онтологические высказывания) зависят от определенной концептуальной системы. Например, по мнению Х. Патнема, «постулировать же множество объектов „как таковых“, Кирпичей Мироздания или чего-то в этом роде, существующего в абсолютном смысле безотносительно к нашему рассуждению, а также понятие истины как „соответствия“ этим объектам – значит попросту возрождать давно рухнувшее здание традиционной метафизики»[180]180
Цит. по: Порус В.Н. Эпистемология: некоторые тенденции // Вопросы философии. 1997. № 2. С. 95.
[Закрыть]. Чувствительный удар по «натуралистическому объективизму» в науке, нанесенный в квантовой физике, объекты которой суть «составные части ситуаций наблюдения», напоминает ситуацию противостояния буддийских идеалистов «натуралистическому объективизму» вайшешиков, а положение В. Гейзенберга, согласно которому атомы уже не являются для физики макромира вещами или объектами, делает данные параллели, на которые первым серьезно обратил внимание тот же Щербатской, вполне наглядными.
Сказанное не означает, что русский буддолог смог избежать «вчитывания» в тексты своих философов «схем чистого рассудка». Так, он либо не обнаруживает, либо замалчивает то важное различие между школой Дигнаги и Кантом, которое состоит в несходстве буддийского идеализма, отрицающего «внесубъектное» существование вещей как таковое, с отрицанием лишь его познаваемости. В этом существенном пункте буддийские идеалисты, которыми занимался Щербатской, ближе к Беркли, коего Кант же подверг критике. Законной была бы и та претензия к его переводам, которая выражала бы пожелание, чтобы такие однозначно интерпретирующие варианты трансляции как «схематизм» выносились бы скорее из текста в комментарий. Другая претензия к Щербатскому может быть связана с тем, что он, стремясь продемонстрировать «современный» уровень буддийской философии, проходит мимо тех параллелей с философией античной, которые показали бы, что речь идет об изначальных философских проблемах, не требовавших еще кантовской «коперниканской революции». Например, это касается наличия двух позиций, обозначившихся уже в классической эллинской философии, одна из которых предполагала скорее количественное, а другая – качественное различие между чувственным и дискурсивным видами познания[181]181
Так только что цитированный Виндельбанд в своей известной работе «Платон» в связи с этим писал: «этом основное различие между Платоном и Демокритом. Демокрит также требовал, наряду с познанием посредством восприятия в протагоровском понимании, и оценки, обретенной посредством мышления подлинной науки; однако он полагал, что одно может быть получено из другого, устанавливал между ними лишь различие по степени, а не по принципу; поэтому он нашел посредством понятийного мышления не новый, бестелесный мир, как Платон, а лишь конструктивный образ телесного мира – атомы» – Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 421.
[Закрыть]. Не совсем корректной была и унификация всей индийской реалистической традиции в данном вопросе, которая также в выгодном свете представляла оригинальность буддизма[182]182
Очевидно, что различение двух ступеней восприятия у найяиков и мимансаков – еще далеко не то же самое, что фактическое объединение восприятия и дискурса в один источник знания у джайнов. Это чувственно-логическое познание выявляется в воспоминании, восприятии, размышлении и дедукции (два вторых типа познавательной деятельности принципиально не отделяются от двух первых), и ему противопоставляются познание через словесное наставление и различные виды ясновидения. См. нормативный текст джайнской философии: Умасвати. Таттвартхадхигама-сутра I. 9, 13–19.
[Закрыть]. При этом, к примеру, забывается, что найяики специально доказывали несводимость восприятия к умозаключению и умозаключения – к восприятию[183]183
Эта проблема исследуется уже у составителя «Ньяя-сутр» и его комментатора Ватсьяяны в «Ньяя-бхашье» II.1.31–32. Найяики опровергают аргументацию оппонента, настаивающего на том, что подобно тому как по дыму заключают об огне (классический пример умозаключения), при восприятии от частей заключают о целом (ибо в целом предмет не постигается).
[Закрыть]. Бессознательные и сознательные некорректности Щербатского, так же, как и его бесспорнейшие достижения, получают развитие на последующих стадиях его сравнительно-философских изысканий.
Глава 3
«Учение брахманов о категорическом императиве», «Философское учение буддизма», «Учение о чужой одушевленности», «Концепция буддийской нирваны»
§ 1.
В 1918 г. в материалах Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук была опубликована статья Федора Ипполитовича «Учение о категорическом императиве у брахманов», в которой нельзя не признать блистательного компаративистского этюда[184]184
Щербатской Ф. Учение о категорическом императиве у брахманов // Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук. Пг., 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 359–370.
[Закрыть]. Исследователь сопоставляет две подшколы самой «ортодоксальной» брахманистской философской системы, мимансы – традиции Кумарилы и Прабхакары, восходящие к VII в., в связи с их ответами на центральный вопрос мимансистской «практической философии»: в чем следует видеть основную движущую силу, побуждающую индивида выполнять обрядовое предписание? Основные его источники – трактат мимансака и ведантиста VII–VIII вв. Мандана Мишры «Видхививека» («Различение предписаний») и сочинение великого энциклопедиста Вачаспати Мишры (IX в.), писавшего в традициях пяти брахманистских школ, «Ньяя-каника» («Зернышко логики»). Говоря кратко, различие между двумя направлениями мимансы было связано с тем, как они понимали знаменитое положение текстов Брахман: «Желающий неба пусть совершает жертвоприношение».
Школа Кумарилы считала, что акцент здесь должен быть поставлен на «желающий неба». Предписания раскрывают то средство, которое ведет к достижению желанной цели, результата. Обычным, опытным путем познать его невозможно, ибо только Веды позволяют знать, что совершение жертвоприношения ведет на небо. Они дают нам знание о вещах прошедших, настоящих и будущих, «неуловимых и трансцендентных». Школа Прабхакары полагала, напротив, что акцент ставится на «пусть совершает жертвоприношение». Предписание (vidhi) обязательно и безусловно – независимо от того, последует ли за его исполнением награда или нет. Закон, таким образом, имеет здесь характер категорического императива.
По трактовке Вачаспати Мишры этот императив есть некий «особый смысл», который каждый ощущает в себе, подобно тому как он ощущает удовольствие. Это – специфическое чувство долга, которое также не выясняется обычным путем, но на которое указывает слово Вед[185]185
Там же. С. 364.
[Закрыть]. Когда человек, стремящийся к небу, слышит слова, содержащие повеление, он испытывает особое чувство: «Я должен!» Это чувство является внутренним чувством и не познается «извне». Последователями Прабхакары указывается и причина того, что долг «ускользает» от обыкновенных способов познания: он имеет вневременный характер. Восприятие и прочие источники знания ориентируют только на сущее, здесь же речь идет о том, что есть должное.
Вачаспати Мишра воспроизводит полемический диалог двух школ мимансы. Представитель школы Прабхакары утверждает, что индивид действует, получив предписание, по осознанию того, что нечто должно быть просто сделано, как в случае: «Мальчик, принеси дров!» Последователь школы Кумарилы возражает, что и в данном случае долженствование не отличается от осознания собственной пользы. Мимансак школы Прабхакары приводит контрвозражение: осуществление своей пользы есть нечто иное по отношению к долженствованию и второстепенное. Мальчик пошел за дровами именно потому, что осознавал в себе обязанность пойти, и наблюдатель приходит к убеждению в том, что слово имеет побудительную силу. Специальным предметом исследования мимансаков является проблема соотношения субъекта и объекта жертвоприношения, а также весьма важная в «практической философии» мимансы концепция апурвы – невидимой потенции обрядового действа, обеспечивающей «созревание» его благого результата. Последователь Кумарилы не сдает своих позиций и хочет заставить оппонента признать, что исполнение долга ведет к получению награды. Но последователь Прабхакары отстаивает свой тезис, состоящий в том, что указание на награду служит лишь указанием на подходящего исполнителя предписания[186]186
Там же. С. 366.
[Закрыть].
Позиция школы Кумарилы сопоставима с теми направлениями европейской этики, которые считают основным критерием нравственного действия, – считает Щербатской, – его целесообразность в зависимости от его конкретного содержания. Категорический же императив, на коем настаивает школа Прабхакары, самоценен и независим ни от какой награды. Он вполне формален, есть «самая общая, так сказать, чистая форма», или, словами самих мимансаков, kāryatākaraḥ kartavyam iti (букв. «форма того, что должно быть сделано – то, что должно быть сделано»), что соответствует знаменитому кантовскому «Du sollst!» («Ты должен!»)[187]187
Там же.
[Закрыть]. Позиция Прабхакары может быть сближена с формальной этикой долженствования Канта. Различие между индийской и европейской этикой в том, что первая сплошь религиозна, а вторая, напротив, совершенно секуляризована. Но удивительным образом мимансистская этика при всей своей «растворенности в религии» относится к «религии атеистической» (религии без Бога в общезначимом смысле), содержащей лишь одни «безначальные предписания». Именно поэтому «следует причислить индийское учение к априорным этическим доктринам»[188]188
Там же.
[Закрыть], и таким образом оно вновь сближается с кантовской философией.
§ 2.
Одной из первых послереволюционных публикаций Ф.И. Щербатского была запись его публичной лекции «Философское учение буддизма», читанной в Петербурге в 1919 г.[189]189
Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1989. С. 224–238.
[Закрыть] Хотя лекция была посвящена популяризации буддийского мировоззрения и не предполагала его введения в рамки компаративистских штудий, Щербатской не упустил возможности в целях популяризации буддизма выделить по крайней мере два момента, в которых буддисты совпадают с «прогрессивными» западными философами. Потому вовсе не случайно, что в «Философском учении буддизма» и намечены пункты параллелей буддийского мировоззрения со взглядами Д. Юма и А. Бергсона. Как и буддисты, Юм «строил свою психологию без души, из одних душевных явлений»[190]190
Там же. С. 228.
[Закрыть]. Бергсон же начинает свой основной труд (подразумевается «Творческая эволюция») с констатации того факта, что путем самонаблюдения «мы устанавливаем в себе постоянный процесс перемены, в котором мы можем выделить ощущения, чувствования, желания и представления и больше ничего»[191]191
Там же.
[Закрыть] или, по Щербатскому, то, что соответствует четырем «психологическим» скандхам в буддизме, которые, как хорошо известно, замещают в этой системе мировоззрения перманентную душу или «я». Буддийское учение о «не-я», однако, скоординировано с учением о непостоянстве, мгновенности всего сущего, и потому вполне закономерно, что тот же Бергсон солидарен с буддистами в построении «кинематографической картины» мира в целом, в которой собственно нет по существу и смены картин, но есть только «одно так сказать картинное течение»[192]192
Там же. С. 230.
[Закрыть]. Это сходство русский буддолог оценивает как «поразительное».
§ 3.
Опубликованный через четыре года перевод с тибетского «Дхармакирти. Обоснование чужой одушевленности с толкованием Винитадэва» (1922) стал единственным выпуском задуманной Щербатским еще в 1914 г. серии «Памятники индийской философии»[193]193
Дармакирти. Обоснование чужой одушевленности с толкованием Винитадэва/Пер. с тибетского Ф.И. Щербатской. Пб., 1922.
[Закрыть]. Буддолог вновь обратился к творчеству Дхармакирти, но на сей раз к его небольшому полемическому трактату по онтологии и психологии, с комментарием предшественника Дхармоттары – Винитадэвы (VIII в.). Небольшое сочинение Дхармакирти привлекло его внимание как переводчика скорее всего по трем причинам. Во-первых, небольшой компактный текст был не только удобен для демонстрации «интерпретирующего» способа перевода буддийских философских памятников (Федор Ипполитович наглядно показал «неудобоваримость» буквального перевода в приложении к книжке), но и давал читателю представление о подлинной стихии индийского философствования, так как был составлен в виде живого диспута буддийских философов. Во-вторых, индийский диспут по проблеме чужой одушевленности предоставлял возможность ознакомиться с существенными расхождениями двух важнейших буддийских философских направлений – реализма (школы вайбхашика и саутрантика), исходившего из объективного существования внешних объектов и идеализма (виджнянавада), признававшего это существование только за сознанием. В-третьих, Щербатской, внимательно следивший за новинками отечественной философской мысли, оказался под впечатлением монографии И.И. Лапшина, посвященной истории того же вопроса в философии европейской. Последний момент позволяет говорить, таким образом, о компаративистском замысле издания трактата Дхармакирти.
Проблема чужой одушевленности была, казалось, исключительно выигрышна в связи с наступлением буддийских реалистов на позиции идеалистов-виджнянавадинов, а потому возможность опровержения их критики идеалистами имела немалый интерес. В самом деле, уже с первого взгляда очевидно, что последовательный идеализм, признающий конечную реальность только за сознанием, имеет тенденцию в направлении к солипсизму, т. е. отрицанию одушевленности других существ, тогда как признание их одушевленности с такой же неизбежностью содействует признанию объективности и внешних вещей. Дхармакирти же пытался показать, что идеализм тяготеет к солипсизму никак не в большей мере, чем реализм, и обоснованию данного тезиса посвящен весь трактат. Основные узлы полемики можно было бы представить в виде следующего обобщенного диалога.
Реалист. Мы выводим наличие чужой одушевленности из фактов целесообразных движений и слов других людей.
Идеалист. А мы выводим представление о ней из представлений о тех же фактах. Потому наши позиции равнозначны.
Реалист. Умозаключение предполагает установление неразрывной связи между словами и действиями, с одной стороны, и одушевленностью – с другой, и потому вы можете говорить лишь о вашей, «субъективной» связи между движениями и волей, но не в применении к другим субъектам.
Идеалист. Указанная неразрывная связь действительно непосредственно нами не наблюдается, но не наблюдается она и вами.
Реалист. Вы можете констатировать связь между этими фактами лишь в пределах вашего собственного тела.
Идеалист. Не обязательно. Мы признаем, что имеют место движения и вне нашего тела, вызванные нашей волей и движения в нашем теле, вызванные чужой волей.
Реалист. Для вас нет никакой разницы между нормальными состояниями наяву и призрачными во сне.
Идеалист. В конечном смысле это так, но лишь в конечном смысле, ибо мы признаем то различие, что во сне имеют место «перерывы» между представлением и действительностью, тогда как в нормальном опыте эти «перерывы» отсутствуют. Вы же допускаете непоследовательность: если вы признаете возможность существования некоторых представлений, коим не соответствуют реальные объекты (в сновидениях), то не так сложно было бы признать и то, что «все представления существуют без соответствующих им внешних объектов, так как существует трансцендентальная иллюзия, Великий Царь иллюзорности бытия»[194]194
Там же. С. 28.
[Закрыть].
Последний момент, а он чрезвычайно важен (достаточно указать на то, что виджнянавадины предвосхищают здесь учение адвайта-веданты Шанкары о Майе как Мировой Иллюзии, сокрывающей единственность реальности Брахмана), комментируется Щербатским как различение собственно чистого сознания как такового (алая-виджняна) и особой мировой мистифицирующей силы (васана), осуществляющей его начальный уже «раскол» на субъект и объект. Убедительный и популярный довод реалистов – в рамках идеализма нельзя объяснить, каким образом два субъекта могут воспринимать одинаково один объект – встречается контрдоводом Дхармакирти и Винитадэвы, в виде объясняющей аналогии. Можно представить себе, говорят они, как встречаются два «диплоптика», видящих вместо одной луны две. Когда один из них обращает внимание другого на наличие второй луны, тот другой отвечает: «Вижу!», но каждый из них переживает свое представление вполне самостоятельно, обходясь и без соответствующего внешнего объекта[195]195
Там же. С. 33–34.
[Закрыть].
Щербатской не оценивает позицию ни одной из двух сторон (хотя очевидно, что аналогия идеалиста не представляется убедительной, так как две луны в сознании «диплоптиков» также «опираются» на образ реальной единичной луны), но приводит параллель из истории философии европейской. Пример, приводимый Дхармакирти, заставляет, по его мнению, вспомнить учение Лейбница о предустановленной гармонии. Буддийское учение можно трактовать таким образом, что «всякое индивидуальное течение сознания развивается из материала, составляющего основное всесознание, оно есть истинный источник, causa materialis всякого течения представлений, составляющего личность. Отношение отдельных сознаний между собою выражается особым термином, который мы, за неимением лучшего исхода, перевели „какою-то причиною“, т. е. побочным фактором, не составляющим причины материальной или основной»[196]196
Там же. С. XIV–XV.
[Закрыть].
§ 4.
Специальный компаративистский параграф содержится в небольшой монографии Щербатского «Концепция буддийской нирваны» (1927), «выросшей» из рецензии на книгу о нирване Л. де ла Валле Пуссена[197]197
Исследование «Концепция буддийской нирваны» опубликовано в русском переводе (с английского оригинала) в издании: Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988.
[Закрыть]. Полемика с главой франко-фламандской буддологической школы о важнейшем термине всей буддийской «практической философии» подвигла русского буддолога рассмотреть историческое движение этого ключевого понятия в буддийской литературе разных школ, уделив специальное внимание мадхьямике и ее основателю Нагарджуне (II–III вв.), который предложил принципиально новую трактовку нирваны в сравнении с классическим буддизмом. В его системе нирвана уже не просто практическая цель, но состояние мира, на глубинном уровне тождественное сансаре и однопорядковое тому, что можно назвать Абсолютом.
Поскольку нирвана у Нагарджуны соотносится с концепцией «пустоты» (шунmята), многие буддологи расценивают ее, вслед за брахманистскими оппонентами мадхьямики, в качестве «идеала негативизма». На деле философия Нагарджуны вызывает иной круг ассоциаций. Прежде всего Щербатской проводит параллели в рамках самих индийских мировоззрений (см. выше – глава 2, в связи с «внутрииндийской компаративистикой»). Позиция мадхьямики обнаруживает «почти полную идентичность» ведантийской, о чем свидетельствует предельное сходство в понимании Абсолюта (достаточно сравнить концепции дхармакайи – «тела закона» и Брахмана). Из этой «почти полной идентичности» следует, что все параллели между ведантой и Шопенгауэром, которые выявил П. Дойссен (ср. глава 1), распространяются и на соотношение взглядов немецкого философа и мадхьямики[198]198
Там же. С. 251.
[Закрыть].
Среди других, по выражению Щербатского, «замечательных параллелей» он выделяет целые параллельные процессы в греческом и буддийском философствовании. Соотношение «всеохватывающей неразделимой субстанции» мадхьямиков с картиной потока преходящих явлений в классическом буддизме соответствует соотношению позиций Парменида и Гераклита. Схождения мадхьямики с элеатами не ограничивается, однако, лишь представлением о Бытии Парменида: еще Г. Якоби проводил сравнение между Нагарджуной и Зеноном, и действительно «софизмы» последнего, обосновывающие невозможность движения, напоминают «критику движения» в мадхьямике[199]199
Там же. С. 252.
[Закрыть].
Поскольку речь идет о критике основных философских категорий, то обстоятельные параллели Нагарджуне дает сочинение Ф. Брэдли «Явление и реальность», в котором «приговор» выносится вещам и качествам, отношениям, пространству и времени, изменению, причинности, движению и даже собственному «я». «Таким образом, с индийской точки зрения Брэдли может быть охарактеризован как истинный мадхьямик»[200]200
Там же.
[Закрыть].
Еще большее сходство с Нагарджуной обнаруживает Гегель, подвергающий в «Феноменологии духа» критике опытные суждения. По Гегелю все, что мы действительно знаем об объекте, есть его «этотность», а все остальное его содержание укладывается в «отношения». Гегелевской «этотности» соответствует tathatā или, буквально, «таковость» махаянистов, тогда как «относительности» – сама śūnyatā (так именно интерпретировал данный термин Щербатской). Другое первостепенное сходство с Гегелем выявляется из самого метода определения предмета через другие предметы, коим он противопоставляется – без этого определения-противопоставления предмет оказывается лишенным всякого содержания, становится «опустошенным». В обеих системах все факты познаваемы лишь в их взаимосвязи, «и всеобщий закон относительности является всем тем, что в узком смысле понимается как реальность»[201]201
Там же. С. 252–253.
[Закрыть]. Сведение мира фактов к универсальной относительности означает, что все познаваемые предметы «ложны» и иллюзорны, но в обоих случаях мироустройство зависит именно от этого «обстоятельства».
Наконец, самые серьезные сходства сближают Нагарджуну с философами, отстаивавшими монизм, особенно с теми из них, кто настаивал на негативном способе познания Абсолюта. В их числе Щербатской называет Николая Кузанского и Джордано Бруно. Махаянская концепция «Космического тела Будды» как единственной субстанции весьма напоминает понятие Бога у Спинозы, который идентичен Субстанции или Природе. Хотя интуиция как способ постижения конечной реальности у Спинозы носит интеллектуалистский характер, а у Нагарджуны она более мистична, обе ведут к одному и тому же результату[202]202
Там же. С. 253.
[Закрыть].
И все же основное различие между Нагарджуной и его европейскими «коллегами по монизму» в том, что он в значительно меньшей степени, чем они, верил в логику как средство познания конечной реальности. Гегелю и Брэдли не пришло в голову, что их логика, будучи примененной к их же собственным выводам, подвела бы сама себя. Нагарджуна же отдавал себе в этом отчет. Потому он и сделал решительный шаг, отбросив логику и прибегнув к «прямой мистической интуиции» в отношении Абсолюта. Нечто близкое предложил в новейшее время А. Бергсон[203]203
Там же.
[Закрыть].
§ 5.
Каждый из заявленных в рассмотренных работах Щербатского «компаративистских блоков» заслуживает специального внимания, и потому представляется целесообразным в каждом случае рассмотреть отдельно соответствующие индийский и европейский способы решения параллельных тем.
1. Начнем с параллели в связи с отрицанием субстанциального «я» в обеих философских традициях. Эта тема представляется тем более важной потому, что в обоих традициях последовательно деперсоналистская философия была значительным раритетом. Буддийский «антиперсонализм» (анатмавада) с самого начала стал непреодолимым водоразделом между буддийским и всеми прочими мировоззрениями Индии, а типологически близкая позиция Юма и Бергсона также означала переоценку ценностей западной философии соответствующих периодов. Только после обстоятельного сопоставления позиций и аргументаций «антиперсоналистских» линий в обеих философских традициях мы сможем оценить предложенные Щербатским параллели, равно как и его апологетический пафос – приведенными западными параллелями (особенно в связи с Бергсоном) он хотел убедить аудиторию в «научной современности» буддийской философии как совпадающей с последними достижениями новейшей философии.
Отрицание субстанциального «я» восходит к самому основателю буддизма, и нам очень трудно представить себе, чтобы его последователи могли отважиться на подобный «демарш», если бы они не могли опереться на его авторитет. Согласно Ашвагхоше, автору знаменитой биографии «Жизнь Будды» (I–II вв.), основатель буддизма еще в период своего ученичества ушел от своего первого учителя – древнего санкхьяика и йогина Арада Каламы – именно вследствие неудовлетворенности тем, что, даже перенеся все функции «я» в ведомство отдельных диспозиций сознания, тот все же настаивал на существовании Атмана и даже строил свою онтологию индивида на дуализме Атмана («познающий поле») и не-Атмана («поле»). По мнению будущего Будды в признании Атмана коренится неизбежность привязанности к «я», чувство «моего» и тех эгоцентрических стремлений, которые и обеспечивают невозможность «освобождения»[204]204
Будда вполне ясно высказывает это соображение своему учителю в стихе поэмы Ашвагхоши XII.82. Перевод с санскрита диалога Будды и Арада Каламы (за вычетом «философской отповеди» Будды Араде) и исследование версии санкхья-йоги по тексту Ашвагхоши опубликованы нами: Шохин В.К. Буддийская версия санкхья-йоги (Традиция Арада Каламы). Ашвагхоша. Буддачарита (перевод и комментарии) // Историко-философский ежегодник’87. М., 1987. С. 165–190.
[Закрыть]. В одной из проповедей, названной «О ноше», которую Будда (уже достигший «просветления») произнес перед монахами в своем любимом парке Джетавана в столице Кошалы – Шравасти, даются ответы на четыре вопроса, кратко резюмирующие то, что можно условно назвать «буддийской антропологией». В ответ на вопрос, что есть «ноша» (бхара) Будда называет пять «групп привязанности», которые соответствуют основным «слоям» существования того, кто считается индивидом и называются скандхи: группы телесности (рупа-скандха), группа ощущений (ведана-скандха), группа представлений (самджня-скандха), группа волений (санскара-скандха) и группа сознания (виджняна-скандха). Поднятие «ноши», т. е. самих факторов существования – это желание, стремление к объектам, избавление от нее – избавление от этого желания. А вот с носителем «ноши» дело обстоит сложнее. В предыдущих случаях Будда определял «ношу», ее поднятие и избавление от нее однозначно, а теперь он не говорит, что «носитель ноши» есть то– то и то-то, но говорит: «На это следует ответить так…», а именно следует вопрошающему назвать такое-то лицо (пудгала), которое носит такое-то имя, имеет такое-то происхождение, принадлежит к такому-то роду, питается тем-то, испытывает такие-то удовольствия и страдания, живет такой-то срок[205]205
Немецкий перевод сутры о «носителе ноши» («Бхарахарасутра») с ее китайской версии издан в книге: Frauwallner E. Die Philosophie des Buddhismus. B., 1956. S. 25–26.
[Закрыть]. Смысл сутры в различении двух уровней истины (различение, к коему индийская философия в целом начала привыкать очень рано, как раз уже в эпоху проповеди Будды)[206]206
Первые опыты в различении двух уровней истины были намечены уже у таких шраманских учителей (VI–V вв. до н. э.), как материалист Аджита Кесакамбала, считавший, что лишь с профанической точки зрения можно говорить о матери, отце, живых существах и обо всем этом мире, тогда как на деле существуют лишь четыре материальных элемента и их комбинации, и один из самых оригинальных философов той эпохи Пакудха Каччана, учивший о том, что трансмиграция живых существ и все изменения в мире относятся лишь к кажимости, в то время как ноуменальный уровень бытия соотносим с неизменностью семи субстанций микро– и макромира – четырех материальных элементов (земля, вода, огонь, ветер), начал радости и страдания и одушевляющего начала (джива). Взгляды этих философов изложены в «Саманнапхаласутте» Дигха-никаи: The Dīgha Nikāya. Vol. 1. Ed. by T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter. L., 1967. P. 55–56.
[Закрыть]: с точки зрения истины конвенциональной, условной, ориентированной на «профана» можно говорить о какой-то персоне, каком-то индивиде, но для того, кто готов уже к принятию истины конечной, реальны лишь пять скандх, тогда как персона, индивид будет лишь их кажимостью.