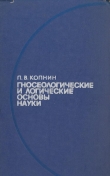Текст книги "Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия"
Автор книги: Владимир Шохин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Сказанное, разумеется, не означает необходимости согласия со всеми положениями ее автора. Попытки выявления трансформаций четырехчастной архаической модели рождения – роста – деградации – смерти в «четырех благородных истинах» Будды представляются неоправданными, ибо в буддийской формуле речь идет не о цикле существования, но о совершенно ином – о четырех «пунктах» духовной терапии (болезнь, ее причины, возможности ее устранения и стадии лечения). Соотнесение философии мадхьямиков и элеатов с архаическим мировоззрением вообще представляется проблематичным именно вследствие иной стадиальности этой философии в общекультурной перспективе: то, что в архаическом индоевропейском мировоззрении было реальной картиной мира, соответствует у рассматриваемых философов, притом лишь весьма условно, только объекту критической рефлексии. Схематично также соотнесение мадхьямиков и элеатов с типологически однородными оппонентами: Гераклит не отстаивал синтез монизма и дуализма (о втором у него вообще нет речи), и тот же дуализм вполне отсутствует у сарвастивадинов, не знавших, как и все буддисты, не только двух субстанций, но и субстанцию как таковую (субстанцию как носителя качеств и субстрата движения отстаивали носители противоположного буддийскому менталитета – реалисты-вайшешики). В целом же статью Топорова можно считать первым значительным достижением отечественной компаративистики после трудов Щербатского.
Хотя книга киевского философа К.К. Жоля с весьма многообещающим названием «Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия»(1981) опиралась преимущественно на «Буддийскую логику», ее результаты никак не позволяют говорить о реальном развитии традиций компаративистики Щербатского. Автор воспроизводит многие положения указанного труда (начиная с трехчастной периодизации истории буддийской философии), но делает это, как правило, весьма произвольно и ограничивается переводами Щербатского[379]379
Так те же три периода буддийской философии характеризуются как, соответственно, разработка учения о дхарме (на деле речь идет у Щербатского о теории дхарм), «трансформирование» этого учения о дхарме в учение о нирване (автор полагает, вероятно, что в классическом буддизме была одна «дхарма» без нирваны) и «период утонченной схоластики и одновременно дикости тантрических культов». См.: Жоль К.К. Сравнительный анализ индийского логико-философского наследия. Киев, 1981. С. 38.
[Закрыть], не обращаясь к его первоисточникам. Автор предпринял попытку углубления темы: буддисты – Гераклит, но почему-то решил, что это возможно без привлечения буддийских данных и завершил тем, что буддистам параллелен не только Гераклит, но и вся греческая мысль, основывающаяся на идее «реновационности глобальных мировых процессов» (на это можно, в свою очередь, возразить, что на той же идее основывается и вся индийская мысль, а потому особо выделять здесь буддистов нет никакого смысла), выявив также и то различие, что гераклитовская реновация субстанциальна, а буддийская кинематична и потому между ними нет ничего общего[380]380
Там же. С. 98.
[Закрыть]. Пытаясь уточнить терминологию Щербатского, пользовавшегося словосочетанием «эпистемологическая логика», Жоль нашел выход в том, что в современной науке данный термин соответствует модальной логике – разделу символической логики, а потому… термин Щербатского близок к психологическому аспекту эпистемологии, а именно к «генетической эпистемологии» (со ссылками на Ж. Пиаже)[381]381
Там же. С. 114.
[Закрыть]. Пересказав изложение Щербатским природы буддийского номинализма, а также отличий буддийской логики от аристотелевской (прежде всего в связи с различением умозаключения для себя и для других), автор предложил новую параллель – между буддийской доктриной отрицательных имен и стоической трактовкой закона противоречия, но поскольку он ссылается не на источники по стоицизму, а на вторичную литературу (да и здесь весьма не конкретно), трудно понять, в чем собственно природа этих соответствий[382]382
Там же. С. 169–170.
[Закрыть]. Единственный пункт, в котором с автором можно согласиться, это ссылка на книгу И.Н. Бродского по отрицательным суждениям, в которой указывается на то, что одно время Рассел и Витгенштейн придерживались идеи «отрицательных фактов»[383]383
См.: Бродский И.Н. Отрицательные высказывания. Л., 1973. С. 12, 14.
[Закрыть] – в свете изысканий Щербатского в связи с индийскими трактовками отрицательных суждений это действительно частично сближает их с индийскими реалистами. Основной же вывод, который напрашивается после чтения книги, достаточно банален, а именно тот, что «сравнительным анализом индийского логико-философского наследия» следует заниматься, работая все-таки и с индийскими источниками, а не с одной только вторичной литературой.
В комментариях В.Н. Топорова к изданию избранных трудов Щербатского (1988) некоторые темы компаративистских изысканий русского буддолога продолжаются в свете новейших сравнительных штудий. Так, «неаристотелевские» черты индийской логики, изучавшиеся Щербатским на буддийском материале, рассматриваются на материале «открытой» Д.Г.Х. Инголлсом логики навья-ньяйи Гангеши Упадхьяйи (XIII в.) и его последователей. Топоров отмечает, что логика Гангеши во многих отношениях опережает не только аристотелевскую, но и современную математическую (например, в концепции числа как класса классов у Матхуранатхи обнаруживаются схождения с определением числа у Г. Фреге). Другие достижения новой ньяйи, приближающие ее к современной логике – определение дизъюнкции как отрицания конъюнкции отрицаний или то, что «наяики знали следствие о классах из закона де Моргана». Проблемой же для них было то, что они оперировали исключительно громоздкой системой категорий, не дойдя до использования логических символов. Соглашаясь с Щербатским в том, что буддийская логика в собственном смысле (как учение о формах силлогизма, теория вывод и т. д.) может рассматриваться как «самодовлеющая дисциплина», Топоров подчеркивает, что в более широком смысле она не может быть изолирована от буддизма в целом, так как в данном случае необходимо иметь в виду «более широкие задачи, одушевлявшие научные построения буддистов», прежде всего ориентацию на «освобождение». Параллели этому – разработка у средневековых западных логиков Николая из Амьена и Аллана из Лилля аксиоматической системы в логике с явно выраженными теологическими целями или «Логико-философский трактат» Витгенштейна, в котором «концепция мистического возникает как прямое следствие логической системы». Знаменитое «молчание Будды» в ответ на метафизические вопросы сопоставимо с европейскими традициями, «не доверяющими суверенности логики дискретного» – даже со столь различными как «Ареопагитики», Экхарт, Витгенштейн и Т. Элиот, а апофатизм Нагарджуны – с идеями Николая Кузанского, выраженными в его сочинении «О неином»[384]384
Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988. С. 269, 298–299, 411–412, 419.
[Закрыть].
Заключительная часть статьи буддолога В.П. Андросова «Диалектика рассудочного познания в творчестве Нагарджуны» (1988) посвящена осмыслению параллелей между диалектикой Нагарджуны и Гегеля в свете указанных компаративистских изысканий известнейшего «нагарджуноведа» Т.Р.В. Мурти и частично Щербатского. Андросов критикует Щербатского за то, что тот, по его мнению, не заметил важных сходств между ними (в «Симпозиуме» Гегель полемизирует с мадхьямиками). Сам же автор полагает, что «поразительные сходства» обнаруживаются между нагарджуновским наставлением царю «Ратнавали» относительно того, что Будда дает отдельным лицам наставление о спасении в соответствии с их возможностями восприятия: первым предлагаются рекомендации как освободиться от тяжести былых проступков, вторым – о приобретении заслуги, третьим – «об опоре на двойственность», четвертым – учение, «не опирающееся на двойственность», пятым – самым «избранным» – учение о пустоте сострадании и прозрении (IV.94–96), и гегелевским учением о трех сторонах логического: абстрактной или рассудочной, диалектической или отрицательно-разумной и спекулятивной или положительно-разумной[385]385
Андросов В.П. Диалектика рассудочного познания в творчестве Нагарджуны // Рационалистическая традиция и современность. Индия. М., 1988. С. 66, 69.
[Закрыть]. Первой стороне гегелевского логического соответствуют первые три рекомендации текста Нагарджуны – двух этических предписаний и следования «двойственности», т. е. различению вечного/невечного, простого/составного и т. д. Второй стороне – четвертая рекомендация или негативистский аспект полемического философствования Нагарджуны, в котором «снимаются» категориальные «крайности» оппонентов мадхьямики. Третьей стороне – нагарджуновские «пустота», «сострадание» и «прозрение». Одновременно между двумя учениями можно выявить и существенные различия: философия Нагарджуны начинается с диалектики, Гегеля – с формальной логики и учения о бытии; для Гегеля формы рассудочной мысли ценны ради «науки логики», для Нагарджуны – только с точки зрения их ниспровержения, демонстрирующего идею шуньяты[386]386
Там же. С. 67–68.
[Закрыть].
С Андросовым трудно согласиться в том, что Щербатской противопоставляет Гегеля мадхьямикам: вспомним о том, что он вполне обоснованно включает их вместе в логику, игнорирующую закон противоречия, противопоставляя им в этом отношении Аристотеля, Канта и Дигнагу, да и в цитируемом «Симпозиуме» Гегель ведет диалог не с ними, а с йогачарами, притом Дхармакирти там допускает панлогизм Гегеля (в противоположность Э. фон Гартману), хотя и на уровне «мира воображения» (см. глава 4, § 2). Сходства между тремя сторонами логики в «Энциклопедии философских наук» с этапами «продвижения» адепта в приводимом тексте Нагарджуны также трудно считать совсем уж «поразительными»: первые две ступени из пяти нагарджуновских, в коих речь идет об этическом тренинге, не находят прямых соответствий «абстрактной или рассудочной» стороне гегелевской логики[387]387
См.: Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 1. М., 1975. С. 202–205.
[Закрыть], и именно вследствие меньшей «практической» интенциональности гегелевской системы в сравнении с мадхьямиковской. Но вряд ли правомерно считать и то, что достижение мистической «пустоты» было, с другой стороны, единственной целью нагарджуновской негативной диалектики: при всей отмеченной практической интенциональности нагарджуновского учения оно обнаруживает и достаточно «самоцельный» интерес к критике понятий и суждений, как, впрочем, и все остальные индийские даршаны. Тем не менее, параллели между Нагарджуной и Гегелем, которые еще раз акцентирует Андросов, вполне легитимны – и в связи с контровертивной диалектикой, и в связи с поэтапными «снятиями» одних состояний познания истины в других, более высоких[388]388
В монографии, посвященной текстам Нагарджуны, которая вышла через два года после рассмотренной статьи, Андросов в значительно большей мере уже отдает должное заслугам Щербатского в нагарджуноведении, признавая его определяющее значение для всего последующего изучения мадхьямиков и системных характеристик нагарджуновского учения, а также параллелей с западными системами. См.: Андросов В.П. Нагарджуна и его учение. М., 1990. С. 163–166.
[Закрыть].
Индолог Я.В. Васильков в цитированном уже исследовании творчества Щербатского (1989) не только осмысляет компаративистские построения Щербатского, но и оценивает те достижения в философской компаративистике, которые реализовались после русского буддолога, будучи в значительной мере инспирированы его сравнительными штудиями. В числе перспективных тем он выделяет проблему соотношения языка и мышления – в той области, где буддисты почти на полтора тысячелетия опередили западных философов: об этом свидетельствует различение умозаключения-для-себя и умозаключения-для-другого. Васильков видит и важные перспективы встречи Востока и Запада в связи с возможным использованием западной мыслью индийской разработки проблемы неинтеллектуального в психике. Он полагает также, что европейской научной психологии «достижения индийцев дали уже немало и могли бы дать еще больше, если бы психологи обращались не только к практике йоги, но и к детально разработанной психологической теории индийских философов» (подразумевается выявление роли аффектов в функционировании сознания и т. п.). Автор завершает свое сочинение выражением надежды, что именно на родине великого буддолога может осуществиться его заветная мечта: об освоении теоретической индийской мысли совместными усилиями востоковедов и философов и «прогнозировании» ими ее участия в культурных процессах будущего[389]389
Васильков Я.В. Встреча Востока и Запада в научной деятельности Ф.И. Щербатского. С. 211–212.
[Закрыть].
В весьма обстоятельном очерке истории отечественной историко-философской буддологии у В.Г. Лысенко компаративистский заряд штудий Щербатского оценивается неоднозначно (1994)[390]390
Лысенко В.Г., Терентьев А.А., Шохин В.К. Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994. С. 54–59.
[Закрыть]. Исследовательница приводит важную цитату из «Теории познания и логики», свидетельствующую о том, что русский буддолог разделял мнение В. Фрейтага о существовании общих восточно-западных парадигм философского мышления. Тем критикам Щербатского (к каковым в определенном смысле относился А.М. Пятигорский), которые считали, что его буддийско-западные параллели убедительны, но не связаны с имманентным содержанием самой буддийской философии, она противопоставляет тот факт, что в самой Индии Щербатского считали не столько историком буддийской философии, сколько буддийским философом. Более того, она полагает, что его европеизированная интерпретация буддийских понятий не только свидетельствует о большой философской эрудиции, но и соответствует в известном смысле установкам самой традиционной индийской философии, где «комментатор использовал термины современного ему философского языка для решения… философских проблем своего времени». Более того, по мнению Лысенко, «едва ли мы погрешим против истины, если предположим, что буддологические сочинения Щербатского можно рассматривать как комментарий к определенным буддийским идеям, созданный с привлечением терминологического аппарата европейской философии»[391]391
Там же. С. 59.
[Закрыть]. Одновременно она подвергает критике попытку Щербатского представить буддийскую философию в виде единства традиционных европейских философских дисциплин, для Индии неорганичного (деление на онтологию, логику, теорию познания и этику). Именно экстраполяцией европейских установок на индийское философствование следует объяснить, по ее мнению, и незаконную попытку отделить «буддийскую логическую систему» от «буддизма как религии» (здесь она опирается и на приведенные выше замечания В.Н. Топорова). Критически оценивает она и переводческие принципы русского буддолога, считая, что он отдает однозначное преимущество «идее» перед «словом», так как полагает, что индийский текст можно переводить исходя из его идейных реконструкций. Подобный «перевод без остатка» оказывается на деле не переводом в реальном смысле слова, но скорее реконструкцией того, «что понял переводчик», притом в зависимости от его субъективных предпочтений (в случае с Щербатским речь идет о кантианских и неокантианских пристрастиях). С другой стороны, однозначный перевод ключевых буддийских терминов есть попытка «снятия» реальной многозначности индийской терминологии, не оправданной текстами.
Приведенные критические замечания требуют, на мой взгляд, дифференциации. Безусловно, увлеченность Щербатского «интерпретирующим переводом» является герменевтической крайностью, которая находится в отношении взаимодополнения с противоположной крайностью в виде «транслитерирующего перевода». Хотя любой перевод (притом не только восточных текстов) не может в той или иной мере не быть интерпретирующим – уже потому, что мышление переводимого автора и мышление переводчика не совпадают по причине их неотделимости от различных языков – задачи перевода и семантической реконструкции являются хотя и очень близкими, но все же различными, чего Щербатской упорно не хотел признавать. Справедливо и замечание Лысенко в связи с полисемантичностью ключевых понятийных терминов индийской мысли: переводить dharma везде как «reals», несмотря на то, что данное слово может означать в зависимости от контекста и многое другое, не совсем корректно. Однако приписывать Щербатскому попытку ввести в буддийскую мысль европейские философские дисциплины также некорректно – хотя бы потому, что он, в отличие от П. Дойссена (см. глава 1) скорее их «сливал», обозначая в качестве «буддийской логики» даже то, что к логике как таковой не относится (см. выше, глава 4). Что же касается тезиса о неотделимости «буддийской логической системы» от «буддизма как религии», то здесь требуются значительно большие доказательства, чем ссылки на Топорова (см. выше). Найяики также не отказывались от «освобождения», но считать, что их знаменитый силлогизм, обосновывающий умозаключение об огне из наличия дыма, является «индуистской логикой», было бы, вероятно, поспешным. «Более широкие задачи» стояли и перед западными философами, но это не оправдало бы таких, скажем, терминов, как «католическая логика» или «протестантская логика», а также обозначение классификаций умозаключений у русского логика М.И. Каринского в качестве «православной логики» на том также основании, что он преподавал в Санкт-Петербургской духовной академии… Видимо, в данном случае работает стереотип, (притом как раз чисто западный, романтический), согласно которому у индийских философов (в отличие от европейских) не было и не могло быть других задач, кроме «практических», но это явное сужение их интересов не оправдывается материалом их текстов (см. глава 4, § 3).
Компаративистское наследие Щербатского учитывается и в некоторых учебных пособиях по философии. Так, в только что вышедшем учебнике, призванном продемонстрировать сравнительный метод, читатель знакомится с трактовкой у русского буддолога типологии философии Нагарджуны (в сопоставлении с европейскими философами), и там же излагаются такие положения «Буддийской логики», как буддийская интерпретация суждения в качестве «моста», связующего реальный мир с миром воображения с точки зрения содержательной и соотношения понятия с референтом (типа «Это – корова») с точки зрения формальной; сопоставление буддийского силлогизма с аристотелевским (как индуктивно-дедуктивного умозаключения с дедуктивным); буддийская номиналистическая «теория имен»[392]392
История современной зарубежной философии: компаративистский подход. СПб., 1997. С. 12, 432–434 (при достаточно корректном изложении «Буддийской логики» встречаются и такие курьезы, как упоминание о ней в главе XIX под названием «Европейские параллели» (С. 12) – подразумевается на самом деле другая книга – «Концепция буддийской нирваны», тогда как европейские параллели завершают почти каждую главу «Буддийской логики»).
[Закрыть].
Преемником отечественной компаративистской традиции, основанной Щербатским, считает себя и автор этих строк.
Прежде всего, речь идет о сопоставлении индийского материала с теми направлениями мысли, с которыми сопоставлял индийское наследие и автор «Буддийской логики». Правда, в поле моего внимания был не буддизм, но близкородственная ему философия санкхьи.
В серии публикаций, посвященных параллелям санкхьи и гностицизма (к теме буддизма и гностицизма Щербатской собирался обратиться неоднократно – см. глава 4, § 1, 2) я, считая неконструктивными попытки выявления прямых индийских влияний, ограничил себя установлением аналогий чисто типологического характера, которые различаются как параллели «синтаксические» – касающиеся некоторых особенностей трансляции эзотерической «тайной доктрины» и реализации ее в медитативной практике[393]393
См.: Шохин В.К. Санкхья-йога и традиция гностицизма // Вопросы философии. 1994. № 7–8. С. 188–207. Речь идет о четырех композиционных компонентах учебного гностического текста, отражающего реальную практику посвящения в эзотерическую традицию и обучение адепта: начальная инициация, посвящение в «тайное знание», посвящение в эзотерическую практику, и окончательное посвящение адепта в эзотерическую традицию с целью дальнейшей трансмиссии и «теории» и «практики» соответствующей школы, а также о приемах медитативной «интериоризации» полученных «истин».
[Закрыть] и «семантические» – касающиеся самой «тайной доктрины» в виде прежде всего определенной космогонической системы[394]394
Шохин В.К. Паурика, Панчадхикарана, Патанджали, некоторые другие и немного компаративистики // Историко-философский ежегодник 93. М., 1994. С. 170–186.
[Закрыть]. Сопоставляя фрагменты философов доклассической санкхьи (преимущественно по комментарию к «Санкхья-карике» – «Юктидипика») со свидетельствами св. Иринея Лионского, Епифания и Ипполита Римского, я обнаружил ближайшее сходство между началами мира по санкхье и системами эонов у последователей Валентина, которое и позволило мне идентифицировать эти начала, уже первое из коих – Непроявленное (avyakta) «параллельно» в системе эонов первому из них – Глубине (bythos) именно в качестве эонов, не имеющих ничего общего с субстанциями (каждый последующий манифестирует «непроявленный» предыдущий). Как и гностики, ранние санкхьяики создавали школы, предлагавшие свои версии генезиса эонов и их калькуляцию и расходившиеся в этом друг с другом[395]395
Там же. С. 183–184.
[Закрыть].
Затронутая Щербатским проблема активности и, соответственно, пассивности сознания в познавательной деятельности на материале индийских систем с западными параллелями, нашла отражение и в моих штудиях по доклассической санкхье. Образ, предложенный философом Панчадхикараной (II–III вв.), по которому чувства уподобляются «тому, на чем пишется», обнаруживают параллель платоновскому уподоблению души восковой дощечке, на которой остаются простые отпечатки виденного, слышанного и т. д. (Теэтет 191 c-d). Однако в большей мере его концепция ближе аналогичной концепции стоиков, а также Гоббса и Гассенди, у которых опыт наносит на эту «доску» свои знаки. Параллели достигают максимальной степени при сопоставлении с Локком, чье обращение к средневековому термину tabula rasa в «Опыте о человеческом разуме» и обеспечило данному термину его популярность. Уподобления же Панчадхикараной «пустых» чувств опустошенной деревне и высохшему руслу реки вызывают в памяти английские локковские корреляты «чистой дощечки» в виде empty cabinet и white paper (I, 2, § 15; II, 1, § 2 и т. д.)[396]396
Там же. С. 181, ср. 187.
[Закрыть]. Эти параллели частично подтверждают позицию Щербатского, считавшего, что небуддийские индийские школы считают душу пассивным началом опыта, но частично и корректируют, поскольку в том же источнике указывается, что другие школы санкхьяиков оппонировали здесь школе Панчадхикараны (прежде всего школа Патанджали – не-йогина).
§ 2.
В другом направлении своих компаративистских изысканий автор этих строк в известном смысле одновременно и дистанцировался от Щербатского и частично опирался на его прецедент. «Дистанцирование» состояло в том, чтобы представить альтернативу той абсолютно преобладающей в настоящее время практике сравнительных штудий, при которой внимание уделяется почти исключительно параллелизации восточно-западных концепций и философских архетипов за счет внимания к компаративистике самих историко-философских процессов (Щербатской уделил внимание и некоторым параллельным процессам, например, сложению буддийской теории дхарм и лейбницевской монадологии или спору об универсалиях на Западе и Индии, но «исторический интерес» в его штудиях был практически маргинальным). Помимо этого я не мог не обратить внимание и на то обстоятельство, что, в отличие от Щербатского, который сопоставлял подобное с подобным – реально философские – логические, эпистемологические и онтологические – восточные и западные модели, в современной компаративистике западный философский материал очень нередко «параллелизируется» с тем восточным, который при наличии внешних сходств типологически от него отличен. Например, если при параллелизации, скажем, Беркли и Шанкары (целесообразность сопоставления этих фигур ради самого сопоставления мы оставляем здесь в стороне) речь идет по крайней мере о двух философских системах в реальном смысле слова, то при параллелизации Кантовой и Конфуциевой этики, Витгенштейновой и дзенской эпистемологии, Хайдеггеровой и даосской метафизики (а это весьма популярные темы ведущего компаративистского периодического издания – журнала Philosophy East and West, издающегося в Гонолулу) не учитывается, что об этической теории, теории познания и метафизике речь может идти в реальном смысле только в случае с западными, но не с восточными коррелятами перечисленных «пар». Проводимые же корреляции создают иллюзию того, что и «этическая теория», и «теория познания», и «метафизика» могут расширяться до неузнаваемости, а это, в свою очередь, ведет к явной девальвации основополагающих философских категорий и философского дискурса как такового. Хотя данная тенденция в сторону «сплошных параллелей» закономерно выкристаллизовалась как реакция на противоположную крайность – дихотомическое разведение восточной и западной философий как, соответственно, мистико-интравертно-практической и рационально-экстравертно-теоретической (популярнейшая тема статей для того же Philosophy East and West в 1950-1970-е годы), она представляется для историко-философских штудий более «подрывной», чем предыдущая. Дихотомические схемы указанного типа сравнительно нетрудно скорректировать апелляцией к самим восточным и западным философским памятникам, тогда как «сплошные параллели» размывают фундамент философской системности как таковой. Именно они и привели, на мой взгляд, к тому кризису в современной компаративистике, о которой речь шла во введении к этой книге. Эти размышления и побудили меня обратиться к переоценке компаративистских ценностей, начав ab ovo – с проблемы исторических границ и параметров индийской и античной философии.
Эту переоценку я начал с исследования в статье «Древнеиндийский рационализм как предмет историко-философской науки» (1988), а затем в монографии «Брахманистская философия» (1994) с критического рассмотрения опытов периодизации истории индийской философии и в результате историографического анализа обнаружил полное преобладание «широкого подхода» к понятию «индийская философия», которая у порядка тридцати известнейших авторов охватывает все стадии индийской мысли, начиная с космогонических гимнов «Ригведы» и «Атхарваведы» и завершая логико-метафизическими трактатами позднейшей схоластики[397]397
См.: Шохин В.К. Древнеиндийский рационализм как предмет историкофилософской науки (проблемы периодизации истории древнеиндийской мысли) // Рационалистическая традиция и современность. Индия. М., 1988. С. 11–45; Шохин В.К. Брахманистская философия: начальный и раннеклассический периоды. М., 1994. С. 14–17, 25–34.
[Закрыть]. Философия мыслится, таким образом, имманентно присущей индийскому культурному этосу как таковому, а потому «перекрывает» все его исторические стадии несмотря на очевидную типологическую разнородность того, что генерализуется обозначением «индийская философия». Чтобы показать о чем идет речь на конкретных примерах, я сопоставил знаменитую беседу риши Уддалаки со своим сыном Шветакету из «Чхандогья-упанишады» VI.1.1–7, которую практически все относят уже не к «ранней ведийской философии», но к «развитой философии упанишад» и в коей видят начало веданты, с текстом сложившейся веданты – «Брахма-сутрами» II. 1. 14–20. Оба текста очень близки по фабуле – в обоих случаях утверждается, что частное проявление «глубинного» начала по сути не отличается от последнего. Однако эти пассажи (из которых первый учитывается во втором) оказываются ровно столько же близки с точки зрения о чем, сколь далеки с точки зрения как, отражая два совершенно различных типа познавательной деятельности. Уддалака «открывает» нечто, до него совершенно не известное и для слушателя новое – сутракарин (составитель сутр) веданты истолковывает уже нечто вполне известное и до него. Уддалака приходит к своей истине через «внутреннее откровение», «видение» – сутракарин веданты аргументирует правомерность определенной точки зрения, обращаясь сразу к двум источникам знания, а именно к слову авторитета и умозаключению. Уддалака говорит то, что воспринимается его слушателем как абсолютная истина, возражать на которую неуместно и даже бессмысленно – сутракарин веданты полемизирует с оппонентом, располагающим точно такими же, как и он, источниками знания, ориентируясь на аудиторию, согласную принять его точку зрения лишь в том случае, если она будет содержать опровержение не только действительных, но и потенциальных контрвозражений любого оппонента.
Другой пример текстов с общей «фабулой», но с совершенно различными способами ее реализации – пассажи «Майтри-упанишады» VI.17–21 и «Йога-сутр» I.1-16, в каждом из которых дается ответ на вопрос, что же такое йога, и которые также соотносятся у историков индийской философии с различными стадиями «философии йоги». Рекомендуя йогу в качестве средства слияния с «высшим Атманом», почтенный риши Шакаяния, от которого ведется повествование в упанишаде, вводит ее на уровне чисто императивном – через практические рекомендации конкретных средств психотехники, опирающиеся на опыт предшественников как знатоков определенных «физиологическо-созерцательных» процедур. Для Патанджали, коему приписываются сутры йоги, последняя – дело также практическое, но она вводится им уже в совершенно иной контекст – как объект классификационно-систематизирующего дискурса. Он определяет йогу как преодоление флюктуаций менталитета, затем классифицирует разновидности этих флюктуаций (как источники знания, заблуждение, лишенные реальных референтов мыслительные «конструкции», сон и память), затем каждая из этих ментальных функций получает дефиницию (источники знания – экстенсивное определение, через классификацию), затем им дается характеристика как объектов «усилия» и «бесстрастия», после чего исследуются сами «усилие» и «бесстрастие»[398]398
Шохин В.К. Древенеиндийский рационализм как предмет историко-философской науки. С. 37–38, 40–41; Шохин В.К Брахманистская философия: начальный и раннеклассический периоды. С. 29–30.
[Закрыть].
Очевидно, что включать приведенные пассажи упанишад наряду с пассажами сутр веданты и йоги в общую «индийскую философию», как это делается в «историях индийской философии», есть с культурологической точки зрения такой же архаизм, как включать в историю лингвистических учений историю самих языков, в историю эстетических теорий – историю самих памятников искусства, в историю литературной критики – историю самой словесности. Соотношение между этими «философиями» совершенно такого же порядка, а потому необходимо сделать выбор, что считать за «индийскую философию» – теоретическую рефлексию определенной предметности или еще только потенциальное поле объектов этой рефлексии[399]399
В приведенных пассажах упанишад нет еще объектов философского дискурса в реальном смысле, так как допускать их наличие в дотеоретический период культуры равнозначно тому, чтобы допускать, пользуясь аналогией Л. Витгенштейна, будто математика может описывать до нее и независимо от нее существующие «математические объекты». По точному сравнению Витгенштейна, математический объект или факт не существуют до процедуры их доказательства подобно тому, как шахматные фигуры не существовали до изобретения правил шахматной игры. См.: Сокулер З.А. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX в. М., 1994. С. 83–84.
[Закрыть].
Решившись на идентификацию в качестве философии первого типа ментальности, я вынужден был отказать в этом второму, не разрывая между ними исторические и культурные связи, но ясно различая их типологически. Решившись же таким образом сузить объем понятия «философия» в применении к индийском материалу и встав в оппозицию практически всей традиции индологической «доксографии» (подход которой к истории можно назвать в известной степени докритическим в кантовском смысле слова, ибо здесь философствование рассматривается только в аспекте о чем, при абстрагировании от как), я стал искать себе «союзников» и нашел их. Прежде всего ими оказались сами индийские философы – комментатор «Ньяя-сутр» Ватсьяяна, который заметил, что его наука философии отличается от «только познания Атмана» (ātma-vidyā) в упанишадах исследованием специальных дискурсивных категорий (таких, как «сомнение» – saṃśaya) и наличием трех исследовательских операций – номинация объектов изыскания (uddeśa), их дефинирование (lakṣaṇa) и критика последнего (parikṣā)[400]400
The Nyāyadarśana. The Sūtras of Gautama and Bhāṣya of Vātsyāyana. Ed. by M. Ganganatha Jha and P. Dhundhiraja Shastri Nyayopadhyaya. Benares, 1925. P. 51–53.
[Закрыть], и его комментатор Уддйотакара, подтвердивший это различение. Другими моими «союзниками» стали индийские науковеды, начиная с составителя «Артхашастры» (I–II вв.), которые идентифицировали философию (ānvīkṣikī) – родовое единство таких конкретных философских школ, как санкхья, йога (возможно, подразумевалась вайшешика) и локаята, в качестве науки «исследования посредством аргументации»[401]401
The Arthaśāstra of Kautilya with the Commentary Śrīmūla of Mahāmahopādhyāya Gaṇapati Śāstri. Ed. by the Commentator. Trivandrum, 1924. P. 16–18.
[Закрыть] (ср. «Кавья-миманса» (I.2) Раджашекхары). Наконец, ими же оказались те немногие философы, которые отказались от общепринятого слияния стадий истории индийской философии со стадиями индийской культуры в целом. В их числе были известные историки философии XIX века В. Кузен и Г. Риттер, а также наши ориенталисты В.П. Васильев и его ученик Щербатской, считавший, что история буддийской философии должна иметь определенное «самоуправление» в истории буддийской религии (см. глава 4, § 2). В соответствии со своим «сужением» философии до теоретической рефлексии над мировоззренческой проблематикой я счел возможным поставить вопрос о параллелях в генезисе философского дискурса, «упозднив» его начало и в Греции, поскольку предложенному мною критерию философии эллинские мыслители начали удовлетворять начиная не с ионийских «физиков», но с Ксенофана, подвергшего впервые «начало мира» критическому анализу[402]402
См.: «Восток-Запад» в мировом историко-философском процессе // Философские науки. 1988. № 7. С. 100–103; «East-West» in the World Historico-Philosophical Process // Social Sciencs, 1989. P. 134–138.
[Закрыть].
Подобно тому, как Щербатскому, вместе с его учителем Г. Якоби (впервые заинтересовавшимся индийским эквивалентом «философии»), пришлось стать объектом критики за «европоцентризм» (см. введение), моя попытка сузить объем понятия философии также вызвала протест. Так в статье В.Г. Лысенко «Компаративистская философия в России»(1992) указывалось, что предложенные выше критерии наличия философии в культуре устанавливаются априорно – они либо заимствуются из европейской традиции, либо «конструируются из ряда содержательных посылок (например, наличия диалектического и аналитического дискурса, при условии полемики)», и с помощью их всегда можно легко определить, где философия имела место, а где не состоялась. Этой позиции, охарактеризованной как редукционизм, противопоставлялся более «нейтральный» подход, при котором философские традиции в разных культурах и цивилизациях не являются разновидностями некоего нормативного инварианта, но «выступают как производное от этих самых культур или цивилизаций». Потому, например, слово «философия» в арсенале синолога может быть наполнено совершенно иным содержанием, чем у индолога или исследователя европейской культуры. Следовательно концепция философии может строиться на материале каждой неевропейской культурной традиции независимо от европейской, которая в таком случае выступает лишь неким «контрастным фоном, на котором явственнее проступит своеобычие исследуемой традиции». Другое возражение состояло в том, что помимо задачи объяснить восточную мысль на языке современной европейской науки существует и другая, более достойная внимания – «вчувствоваться» в образ мысли и бытия «другого» как именно «другого», понять его как бы «изнутри». Третье, наконец, было связано с тем, что любая попытка более или менее строго определения понятия «философия» на неевропейском материале с помощью какого-то «нормативного» определения философии «будет всегда уязвимой для критики в силу слишком „европейского“ характера этого термина и его чрезвычайной многозначности в самой западной традиции»[403]403
Лысенко В.Г. Компаративная философия в России // Вопросы философии. 1992. № 9. С. 152–154.
[Закрыть].