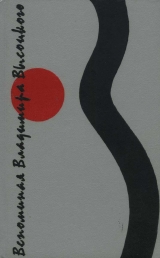
Текст книги "Вспоминая Владимира Высоцкого"
Автор книги: Владимир Высоцкий
Соавторы: Анатолий Сафонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 27 страниц)
Владимир Высоцкий
БАНЬКА ПО-БЕЛОМУ
Протопи ты мне баньку, хозяюшка,
Раскалю я себя, распалю.
На полке, у самого краюшка,
Я сомненья в себе истреблю.
Разомлею я до неприличности,
Ковш холодной – и все позади.
И наколка времен культа личности
Засинеет на левой груди.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Сколько веры и леса повалено,
Сколь изведано горя и трасс,
А на левой груди профиль Сталина,
А на правой – Маринка, анфас.
Эх! За веру мою беззаветную
Сколько лет отдыхал я в раю!
Променял я на жизнь беспросветную
Несусветную глупость мою.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Вспоминаю, как утречком раненько
Брату крикнуть успел: – Пособи!
И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь.
А потом на карьере ли, в топи ли,
Наглотавшись слезы и сырца,
Ближе к сердцу кололи мы профили,
Чтоб он слышал, как рвутся сердца.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Я от белого свету отвык.
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Ох! Знобит от рассказа дотошного,
Пар мне мысли прогнал от ума.
Из тумана холодного прошлого
Окунаюсь в горячий туман.
Застучали мне мысли под темечком —
Получилось, я зря им клеймен,
И хлещу я березовым веничком
По наследию мрачных времен.
Протопи ты мне баньку по-белому,
Чтоб я к белому свету привык!
Угорю я, и мне, угорелому,
Пар горячий развяжет язык.
Петр Тодоровский
«ОН МОГ ПЕТЬ СУТКАМИ.»
Мы познакомились в начале шестидесятых…
Это было удивительное время. Тогда в кино, в литературе появились новые имена.
Но среди них первыми «властителями дум» были Булат Окуджава, поэты Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Геннадий Шпаликов – люди, которым было что сказать: и о себе, и о своем поколении, и о времени. Мы читали их стихи взахлеб, их песни звучали в компаниях, мелодии их «мурлыкали» в дороге. Их творчество не давало нам покоя, настолько оно было глубоко и своеобразно по смыслу. Это была свежая струя после долгих лет среди привычных стандартных для слуха и глаза явлений в искусстве.
Несколько позже появился и Володя Высоцкий. Должен признаться, что я не сразу принял его песни всерьез. Возможно, потому, что громкий, хриплый голос, которым они исполнялись, уводил от смысла текста, а в мелодии слышалось что-то достаточно примитивное, ходовое, узнаваемое. От всего этого складывалось впечатление чего-то полублатного, полуцыганского. Лишь потом, когда мне удалось прочитать его песни, я понял, почувствовал, что появился новый поэт, совершенно непохожий на Булата Окуджаву, своеобразный, самобытный народный поэт.
Булат Окуджава и Владимир Высоцкий.
Люди разного поколения… Но есть в их творческой судьбе общее. Они появились в определенное время нашей жизни, когда все было «понятно», все «правильно». А у этих поэтов все было «неправильно». Их беспокоило, волновало, не давало спокойно жить то, на что другие закрывали глаза: невнимание друг к другу, хамство, несправедливость. Их волновали, и очень остро, судьбы людские. Поэтому они чаще обращались к сердцам простых людей. Особенно Володя.
На многочисленных встречах со зрителями меня обязательно спрашивают: были ли вы знакомы с Высоцким? Я рассказываю о наших встречах, и когда речь заходит о его песнях, то всегда советую почитать их, как стихи, чтобы навсегда основательно понять, что прежде всего сила его песен в текстах.
Его колоссальная популярность не случайна. Такой поэт должен, непременно должен был появиться.
Неизвестно, как бы развивалась его литературная судьба, ведь не секрет, что издательства не печатали его стихов. Но, к счастью, тогда появились магнитофоны. Высоцкий звучал в подъездах, на голубятнях, в клубах… Вот одна история.
Однажды, когда он снимался в Одессе, он зашел ко мне во время перерыва (я жил напротив киностудии), чтобы я сварил ему овсянку или манную кашу (болел желудок). Пока я кухарил, прибежал ассистент режиссера и сообщил ему, чтобы он не торопился на площадку, что в следующих сценах фильма он не потребуется.
Чтобы не терять зря времени, Володя предложил записать на магнитофон его новые песни. Я тоже взял гитару, чтобы подыграть ему, благо музыкальные аккорды и ходы его мне былн знакомы. Вечером ко мне пришли знакомые студийцы, которые собирали все записи Высоцкого, и переписали песни.
Буквально через полтора месяца я был приглашен со своей картиной на встречу с кинозрителями в Нижний Тагил. Прихожу в кинотеатр. Слышу, в директорском кабинете звучит наша с ним фонограмма. И первым вопросом, когда я открыл дверь кабинета, был: Петр Ефимович, расскажите, как была сделана эта запись. Всего полтора месяца прошло!.. Тысячи километров!
Вспоминаю ночь накануне похорон Володи… Я задержался на студии с монтажом новой картины и приехал на Таганку поздно. Вышел из метро и долго смотрел на огромную людскую толпу около театра… Протиснулся к входу…
…Свечи, гитара под окном, за стеклом маленький лист ватмана с надписью – дирекция, партком, местком сообщают: «Умер артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий».
Артист… Но я уже понимал, что его время как поэта тоже придет, потому что невозможно было, чтобы оно не пришло. Слишком много ему удалось сказать о нашей жизни, о хороших и плохих ее сторонах. Он задел нас за что-то очень живое.
Меня часто спрашивают, как я отношусь к музыке Высоцкого. Спокойно. Если у Булата Окуджавы музыка и стихи едины, то у Володи подчас она служила лишь аккомпанементом. Он писал много текстов, и ему не хватало времени, требовательности отрабатывать мелодию. Он часто «ломал» ее, подгоняя под рифму стиха, что порой получалось неудачно. Но он так мастерски исполнял свои песни, что звуковой ряд обычно уходил на второй план, оставался смысл строк. Может быть, эта музыкальная грубоватость и вызывала у слушателей особое доверие к его песням, притягивала к ним. Может быть, в этом и есть та авторская индивидуальность, которая зовется песней Владимира Высоцкого.
Многие удивляются содержанию его песен, обвиняют в романтизации уголовного мира, в «идеализации антиобщественных элементов» и принимают только песни последних лет. Вопрос сложный.
Володя вначале был то, что называется «для компании». Он мог петь сутками. Как-то мы жили под Одессой, в палаточном городке. Прилетел Высоцкий на два дня – отдохнуть. К вечеру развели костер, шашлыки готовить стали… Володя запел. И вдруг со всех сторон из темноты к костру начали сходиться туристы. Обступили его. И он пел для них до утра, пока солнце не взошло. И пел с удовольствием.
Как-то собралась у меня дома в Одессе большая компания: Хуциев, Швейцер… Уже не помню кто. Конечно, появился со съемок и Высоцкий. Была дикая жара, распахнули окна. Час ночи, а Володя поет и поет хриплым голосом. Дворничиха думала, пьяница какой, милиционера позвала. И все кричит ему на ухо: «Вот уже несколько часов – все пеньё и пеньё». Все перекричать Володю хотела. Да разве можно. Голос у него был сильный… Хороший голос.
Спросили у меня однажды: «А Высоцкий – явление в искусстве?» Думается, что когда много лет нельзя о чем-то говорить, когда есть запреты, то, что в конце концов вырывается наружу, уже становится явлением для людей, для времени. Явлением этого периода.
Володя Высоцкий не снимался в моих картинах. У каждого режиссера сложился свой тип героя. Не было в фильмах, которые я ставил, персонажа, походившего по темпераменту, внутреннему миру, внешности на Володю. Он актер другого плана, другого жанра. Мне кажется, что фильмы, в которых он работал, не смогли в полной мере раскрыть его талант. Не нашлось при его жизни в кинематографе режиссера, который смог бы «размять» его, помочь ему в совершенстве раскрыть его творческую индивидуальность. Теперь бы это, наверное, смогли сделать и Михалков, и Соловьев, и Шахназаров… Правда, есть у него удачная роль в фильме Говорухина «Место встречи изменить нельзя».
В театре – другое. Там ему удалось сделать больше. А он человек, бесспорно, талантливый.
Я был в Бразилии со своей картиной и давал интервью корреспонденту крупной газеты. И меня поразило, что там очень хорошо знают песни Высоцкого. Мировая известность. Может, мы до конца еще не понимаем, какого масштаба был человек.
В. Михайлов
«БОЛЕЛО ЗАГНАННОЕ СЕРДЦЕ»
Стало уже общим местом для каждой второй статьи о Владимире Высоцком: слушая его песни, ветераны войны видели в нем собрата по фронтовым окопам,
спортсмены – упрямого скалолаза, геологи – товарища по судьбе первопроходцев тайги. Своим называли его нефтяники Тюмени и парашютисты, циркачи и археологи, моряки и полярники, звероловы и шоферы дальних рейсов. Если бы он прожил по временной последовательности жизни всех тех людей разных профессий, о которых успел написать и спеть, в сокровенную суть которых умел перевоплотиться до иллюзии достоверности, он бы никогда не умер.
Но судьба распорядилась иначе. Он сам в одной из песен-стихотворений рассказал о доле истинных поэтов, чья жизнь оборвалась трагически рано – «на цифре 26», «на цифре 37». Было ли у него предчувствие беды? Судя по всему, было. Ведь умирал же он уже один раз в клинике Склифосовского. Ведь болело загнанное сердце. Ведь были часы и дни невероятной усталости и тоски. Не об этом ли молил он своих «коней привередливых»: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее… Я дожить не смогу, мне допеть – не успеть…» А кони мчались «вдоль обрыва, по-над пропастью». Может быть, и мелькала мысль, такая по-русски понятная и привычная: авось проскочу через тот рубеж, доживу, допою. Увы, не проскочил…
Сегодня в серьезных научных журналах пишут о «феномене» Высоцкого. А он писал о себе: «Я весь в свету. Доступен всем глазам». И ждал хотя бы одного теплого слова, что растопило бы лед официального молчания. Издают книги стихов. А он мечтал хотя бы о маленькой подборке в толстом журнале. Склеивают любительские пленки, наскоро готовят ленты о нем. А его Гамлет на сцене Таганки остался лишь в памяти коллег и зрителей. Выпускают фильмы с его участием. А он так и не дождался премьеры иных из них. Присваивают ему высокие звания (посмертно). И не исключено, что и десять тысяч профессиональных литераторов признают его, наконец, равным себе и примут в свой союз (тоже, разумеется, посмертно). А он доверчиво просил нынешних безутешных мемуаристов помочь, подсобить, протолкнуть, напечатать, получая в ответ снисходительное похлопывание по плечу да ссылки на занятость и трудности…
Ах, если бы ему хотя бы частицу сегодняшних наших слов и признания – да в то время, когда его могли запросто, как мальчишку, ссадить не только с автобуса, везущего представительную делегацию на встречу с зарубежными кинодеятелями, но и «высадить» из очередного фильма, поручив другому исполнить его выношенные сердцем песни!
Так в чем же «феномен» Высоцкого, о котором заговорили даже суровые философы? Грядущие биографы поэта, певца, артиста, авторы объемистых монографий, которые уже пишутся в тиши ученых кабинетов, разберутся, конечно, досконально, каким образом мальчишка, родившийся на Первой Мещанской улице Москвы, гонявший с приятелями по Большому Каретному переулку (столь близкому теперь миллионам людей, хотя и само название исчезло с карты города), стал тем Владимиром Высоцким, имя которого известно всему миру. Для нас же, его современников, втайне переписывавших его почти «подпольные» магнитофонные записи, ловивших звуки хриплого, неповторимого его голоса из окон домов, с особым чувством доверия принимавших любую его экранную роль вплоть до блистательного Жеглова, он был тем «неподкупным голосом», «эхом народа», каким, по мысли Пушкина, и должен быть истинный поэт. Позже об этом сказал Некрасов: «Я лиру посвятил народу моему». Еще позже – Есенин: «Я пел, когда мой край был болен».
Высоцкий становился к микрофону – «точно к амбразуре». Об этом он сказал в одном из своих стихотворений. Да, на протяжении тех томительно долгих лет, которые мы сейчас именуем «годами застоя», он становился к микрофону и голосом своим, не спрашивая на то разрешений и указаний, а вопреки им, рвал оцепенелость равнодушия, апатии и безгласности. В его бесчисленных персонажах, впервые в таком разнообразии пришедших в литературу, в поэзию, в песню, обретали свой голос гордость и достоинство те, кто был их лишен. В каждом честном, не растерявшем свою совесть, человеке жили мечта об открытости, правде, отвращение к пустословию, опровергаемому на каждом шагу жизни. И в песнях Высоцкого они приветствовали не только бесстрашие правды, но и надежду. И поэтому ему отдали они свою любовь, которая пережила и поборола и непризнание, и травлю, и попытки мещанской среды, которую так ненавидел поэт, приручить его, сделать его своим
В одном из известнейших своих стихотворении Владимир Высоцкий рассказал о том, что он не любит. А не любил он холодного цинизма и пустой восторженности, сплетен и сытой уверенности, наветов, насилья и бессилья Не любил, когда лезут в душу. Не любил времени, когда не поют веселых песен.
Что ж, пришло время, когда голос Высоцкого звучит открыто и раскованно. В борьбе за идеалы апреля 1985 года, за которые он не переставал бороться всю свою недолгую жизнь, он – наш союзник и соратник. «Верю в друзей», – писал и пел он в те годы. Поэтому и стал ему другом весь народ.
Владимир Высоцкий
О ВАСИЛИИ ШУКШИНЕ
Очень уважаю все, что сделал Шукшин. Знал его близко, встречался с ним часто, беседовал, спорил, и мне особенно обидно сегодня, что так и не удалось сняться ни в одном из его фильмов. Зато на всю жизнь останусь их самым постоянным зрителем. В данном случае это значит для меня больше, чем быть участником и исполнителем.
Я написал большие стихи по поводу Василия, которые должны были быть напечатаны в «Авроре». Но опять они мне предложили оставить меньше, чем я написал, и я отказался печатать не полностью. Считаю, что ее хорошо читать глазами, эту балладу. Ее жалко петь, жалко… Я с ним очень дружил, и как-то… я спел раз, а потом подумал, что, наверное, больше не надо.
ПАМЯТИ В. ШУКШИНА
Еще – ни холодов, ни льдин.
Земля тепла. Красна калина.
А в землю лег еще один
На Новодевичьем мужчина.
«Должно быть, он примет не знал, —
Народец праздный суесловит, —
Смерть тех из нас всех прежде ловит,
Кто понарошку умирал».
Коль так, Макарыч, – не спеши,
Спусти колки, ослабь зажимы,
Пересними, перепиши,
Переиграй – останься живым!
Но в слезы мужиков вгоняя,
Он пулю в животе понес,
Припал к земле, как верный пес.
А рядом куст калины рос.
Калина – красная такая…
Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!..
Не буйствует и не скучает.
А был бы «Разин» в этот год.
Натура где? Онега, Нарочь?
Все печки-лавочки, Макарыч!
Такой твой парень не живет.
Вот после временной заминки
Рок процедил через губу:
«Снять со скуластого табу
За то, что он видал в гробу
Все панихиды и поминки.
Того, с большой душою в теле
И с тяжким грузом на горбу,
Чтоб не испытывал судьбу,
Взять утром тепленьким с постели!»
И после непременной бани
Чист перед Богом и тверез,
Взял да и умер он всерьез.
Решительней, чем на экране.
Гроб в грунт разрытый опуская
Средь Новодевичьих берез,
Мы выли, друга отпуская
В загул без времени и края…
А рядом куст сирени рос.
Сирень осенняя. Нагая…
Я НЕ ЛЮБЛЮ
Я не люблю фатального исхода,
От жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года,
В которое болею или пью.
Я не люблю холодного цинизма,
В восторженность не верю, и еще —
Когда чужой мои читает письма,
Заглядывая мне через плечо.
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я ненавижу сплетни в виде версий,
Червей сомненья, почестей иглу,
Или – когда все время против шерсти,
Или – когда железом по стеклу.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово «честь» забыто
И коль в чести наветы за глаза.
Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста,
Я не люблю насилья и бессилья,
Вот только жаль распятого Христа.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Я не терплю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более – когда в нее плюют.
Я не люблю манежи и арены:
На них мильон меняют по рублю, —
Пусть впереди большие перемены,
Я это никогда не полюблю.
МОЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Мой черный человек в костюме сером,
Он был министром, домуправом,
офицером.
Как злобный клоун, он менял личины
И бил под дых, внезапно, без причины.
И, улыбаясь, мне ломали крылья,
Мой хрип порой похожим был на вой,
И я немел от боли и бессилья
И' лишь шептал: – Спасибо, что живой.
Я суеверен был, искал приметы,
Что, мол, пройдет, терпи, все ерунда…
Я даже прорывался в кабинеты
И зарекался: – Больше – никогда!
Вокруг меня кликуши голосили:
– В Париж мотает, словно мы в
Тюмень!
Пора такого выгнать из России!
Давно пора, видать, начальству лень.
Судачили про дачу и зарплату:
Мол, денег прорва, по ночам кую.
Я все отдам! – берите без доплаты
Трехкомнатную камеру мою.
И мне давали добрые советы,
Чуть свысока, похлопав по плечу,
Мои друзья – известные поэты:
– Не стоит рифмовать «кричу —
торчу».
И лопнула во мне терпенья жила,
И я со смертью перешел на «ты»—
Она давно возле меня кружила,
Побаивалась только хрипоты.
* * *
Когда я отпою и отыграю,
Чем кончу я, на чем – не угадать.
Но лишь одно наверняка я знаю —
Мне будет не хотеться умирать!
Посажен на литую цепь почета,
И звенья славы мне не по зубам…
Эй! Кто стучит в дубовые ворота
Костяшками по кованым скобам?!
Ответа нет. Но там стоят, я знаю,
Кому не так страшны цепные псы,—
И вот над изгородью замечаю
Знакомый серп отточенной косы.
…Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока – и выбегу в грозу!
* * *
Мне судьба – до последней черты, до креста
Спорить до хрипоты, а за ней – немота,
Убеждать и доказывать с пеной у рта,
Что не то это вовсе, не тот и не та,
Что лабазники врут про ошибки Христа,
Что пока еще в грунт не влежалась плита,
Триста лет под татарами – жизнь еще та…
Маета трехсотлетняя и нищета.
Но под властью татар жил Иван Калита,
И уж был не один, кто один против ста.
Вот намерений добрых и бунтов тщета —
Пугачевщина, кровь и опять нищета.
Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни
черта —
Повторю, даже в образе злого шута!
Но – не стоит предмет, да и тема не та,
Суета всех сует – все равно суета.
Только чашу испить не успеть на бегу,
Даже если разлить – все равно не смогу,
Или выплеснуть в наглую рожу врагу?..
Не ломаюсь, не лгу – не могу. Не могу!
На вертящемся гладком и скользком кругу
Равновесье держу, изгибаюсь в дугу.
Что же с чашею делать?! – Разбить? – Не
могу!
Потерплю – и достойного подстерегу.
Передам – и не надо держаться в кругу.
И в кромешную тьму, и в неясную згу,
Другу передоверивши чашу, сбегу.
Смог ли он ее выпить – узнать не смогу.
Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,
Я о чаше невыпитой здесь – ни гугу,
Никому не скажу, при себе сберегу,
А сказать – и затопчут меня на лугу…
Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!
Может, кто-то когда-то поставит свечу
Мне за голый мой нерв, на котором кричу,
И веселый манер, на котором шучу.
Даже если сулят золотую парчу
Или порчу грозят напустить – не хочу!
На ослабленном нерве я не зазвучу —
Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу!..
Лучше я загуляю, запью, заторчу,
Все, что ночью кропаю, – в чаду растопчу.
Лучше голову песне своей откручу —
Но не буду скользить, словно пыль по лучу!
Если все-таки чашу испить мне судьба,
Если музыка с песней не слишком груба,
Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,
Я умру и скажу, что не все суета!
ДВЕ ПРОСЬБЫ
Мне снятся крысы, хоботы и черти.
Я Гоню их прочь, стеная и браня,
Но вместо них я вижу виночерпия.
Он шепчет:
«Выход есть: к исходу дня —
Вина! И прекратится толкотня,
Виденья схлынут, сердце и предсердие
Отпустят, и расплавится броня!»
Я – снова я, и вы теперь мне верьте, – я
Немногого прошу взамен бессмертия —
Широкий тракт, да друга, да коня.
Прошу покорно, голову склоня:
В тот день, когда отпустите меня,
Не плачьте вслед,
во имя Милосердия!
Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,
Но чтобы душу дьяволу– ни-ни!
Зачем цыганки мне гадать затеяли!..
День смерти называли мне они.
Ты эту дату, боже сохрани,
Не отмечай в своем календаре или
В последний миг возьми да измени,
Чтоб я не ждал,
чтоб вороны не реяли
И чтобы агнцы жалобно не блеяли,
Чтоб люди не хихикали в тени —
Скорее защити и охрани.
Скорее! Ибо душу мне они
Сомненьями и страхами засеяли.
ПАМЯТНИК
Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в привычные рамки не лез.
Но с тех пор, как считаюсь покойным, —
Охромили меня и согнули,
К пьедесталу прибив ахиллес.
Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пяту.
И железные ребра каркаса
Мертво схвачены слоем цемента —
Только судороги по хребту.
Я хвалился косою саженью:
Нате, смерьте!
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти.
Но в привычные рамки я всажен —
На спор вбили,
А косую неровную сажень
Распрямили.
И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи.
И не знаю, кто их надоумил —
Только с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.
Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мертвых мертвей —
Но поверхность на слепке лоснилась,
И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.
Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец.
Подходившие с меркой обычной —
Отступались,—
Но по снятии маски посмертной —
Тут же, в ванной,—
Гробовщик подошел ко мне с меркой
Деревянной.
А потом, по прошествии года,
Как венец моего исправленья
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье,
Под мое, – с намагниченных лент.
Тишина надо мной раскололась —
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет,
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.
Я немел, в покрывало упрятан,—
Все там будем
Я орал в то же время кастратом
В уши людям.
Саван сдернули – как я обужен! —
Нате, смерьте! —
Неужели такой я вам нужен
После смерти?!
Командора шаги злы и гулки
Я решил: как во времени оном,
Не пройтись ли по плитам, звеня? —
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.
Накренился я – гол, безобразен, —
Но и падая вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой,
И когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров все же
Прохрипел я:
«Похоже – живой!»
И паденье меня и согнуло,
И сломало —
Но торчат мои острые скулы
Из металла.
Не сумел я, как было угодно —
Шито-крыто:
Я, напротив, ушел всенародно —
Из гранита!








