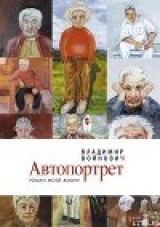
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Осенью 1965 года я был практически бездомен и, чтобы не слишком обременять друзей, взял путевку в Переделкино, где начал работать над «Двумя товарищами». Пользуясь уединенностью и отсутствием телефона, работал с очень необычной для меня скоростью – писал по 15 страниц в день. Рассчитывал, что напишу черновой вариант дней за двадцать. И вдруг, когда я был в середине работы, меня вызвали в центральный корпус к телефону.
– Я свободна, – сказала Ира.
Гром среди ясного неба! Я уже не ждал, не хотел и не думал. Я заколебался. Как быть?
Просто брать ее без всяких условий? Нет, я не должен торопиться. Я должен подумать. У нее есть черты характера, которые настораживают. Она считает, что данное обещание ничего не значит. А для меня значит все. Я должен подумать, должен поставить условия. Я не имею права бросаться очертя голову. Говоря себе все это, я уже бежал к своему «Запорожцу», уже вставлял ключ в замок зажигания, уже до предела давил на педаль газа и несся навстречу своей судьбе.
Осенью 1965 года мы сняли однокомнатную квартиру на Мосфильмовской улице и стали жить вместе.
Два товарища«Два товарища» я все-таки написал. Примерно так, как задумал. В это время, работая над «Чонкиным», я понимал, что, пока я занят им, мне надо будет на чтото жить, а потом вообще неизвестно, что и как сложится, поэтому надо написать чтото такое, что можно без проблем напечатать и что способно пошатнуть представление начальства о моей неблагонадежности.
В повести я описал правдиво, но, стараясь избегать политических и социальных подтекстов, себя примерно таким, каким я был в восемнадцать лет, без поправки на себя более взрослого и критически воспринимавшего советскую жизнь. Сознательно не вплел в повесть никакого активного сюжета. Просто два шалопая призывного возраста работают на заводе, ухаживают за девушками, оба готовятся в армию. И ничего не происходит. Считая, что повесть «Новому миру» не очень подходит, отнес ее сначала в «Юность», там повторилась старая история. Рукопись взяли и держали неделю, две, три, не помню сколько, пока я не разозлился и не отнес ее все-таки в «Новый мир». В «Новом мире» прочли. Твардовский созвал редколлегию. Ася, Сац, Герасимов и Дементьев меня защищали, Твардовский, Лакшин, Кондратович и Закс были против. Твардовский говорил резко и язвительно, что повесть пустая и даже лакировочная, рассчитана на то, чтобы на пустом месте смешить, можно еще сказать (с сарказмом), «веселая повесть». Придрался к сцене, где герой оказался в милиции, считая, что я ее описал недостаточно реалистично. И очень сурово спросил: «А вы знаете, что в милиции бьют?» Я сказал: «Это я знаю, наверное, лучше вас, Александр Трифонович. Если хотите, опишу, как это бывает». – «Нет, – сказал он, – этого не надо». И дальше: «Поскольку единого мнения нет, поставим на голосование. Кто за? Кто против? Голоса разделились поровну. Поскольку я главный редактор, мой голос засчитывается за два – повесть не принимаем».
«Два товарища» я писал в двух вариантах: повесть и сценарий. Сценарий – для денег, которых за кино дают гораздо больше, чем за журнальные публикации. В сценарном варианте вещь называлась «Призывной возраст». У меня был договор с незадолго до того созданной Экспериментальной студией. Художественный руководитель – Григорий Чухрай, директор студии Владимир Александрович Познер, отец ныне известного телевизионного ведущего. В студии тоже отнеслись к сценарию критически. Чухрай считал, что в нем не хватает остроты. Я признался, что хотел написать такую вещь, чтобы легко прошла. «Так вы что, для начальства пишете ваши книги?» – сурово спросил Чухрай.
Ему это было трудно понять, потому что он все делал всерьез, беря острые по тем временам проблемы. Но разница между мной и им состояла в том, что он по своему мировоззрению был советский человек, проблемы ставил острые, но допускаемые и понимаемые партийным начальством, а я был чужой, и это было видно. Все сюжеты, которые приходили мне в голову, были абсолютно непроходимы, и «Два товарища» являлись исключением.
Разумеется, отношением к повести на студии и особенно в «Новом мире» я был расстроен, но не обиделся. Я сам считал свою повесть для «Нового мира» слишком неострой и бесконфликтной и не думал настаивать на ее публикации. Но позвонил Александр Григорьевич Дементьев, пригласил к себе, сказал, что повесть ему понравилась, но ее надо сделать поострее.
Вняв его совету, я написал сцену избиения героя хулиганами и его лучшим другом Толиком, которого хулиганы заставили это делать.
В этом варианте Дементьеву удалось «протолкнуть» «Двух товарищей» в «Новом мире», преодолев Кондратовича и убедив Твардовского, что автор над текстом поработал. Повесть так же, как мои предыдущие вещи, имела большой, однозначный, даже не совсем ожидавшийся мною успех. В данном случае даже двойной успех, потому что понравилась начальству и не разочаровала читателей. Переделанный сценарий тоже был принят, за него боролись несколько режиссеров, но кинофильмом он не стал по причинам, о которых речь будет ниже.
Разговор через переводчикаПо «Двум товарищам» я написал еще и пьесу. Сначала для Театра Советской армии, где она была почти немедленно принята. Театр ее принял и направил в отдел культуры Главного политического управления (ГлавПУРа) генералмайору Востокову. Востоков пригласил меня и завлита Владимира Блока для обсуждения. Пьесу в целом одобрил, но нашел, что герой недостаточно идеен. Нужно, чтобы он шел в Советскую армию, сознавая, что идет выполнять свой патриотический долг. Генерал говорил, сыпал замечания, не слишком невыполнимые. Вдруг позвонили по телефону. Генерал выслушал то, что ему сказали, встал.
– Извините, вызывает начальство. Но… – набрал номер, сказал Кому-то: – Иван Петрович, зайди.
Тут же вошел полковник. Востоков представил его как своего заместителя и сказал, что он продолжит обсуждение. И полковник продолжил. Прямо с того места, на котором остановился генерал. Через запятую. Как будто слышал все, что говорил Востоков. Скорее всего, и правда слышал.
Собственно, все обсуждение свелось к тому, что Востоков, а потом полковник говорили, и мы с Блоком кивали головами. Это не значит, что я готов был все принять. Это была общепринятая тактика, соответствовавшая армейскому неписаному правилу: получив приказание, отвечай «слушаюсь», а дальше можешь не выполнять. Обсуждение закончилось, спустились вниз. В коридоре первого этажа встретили высокого генералполковника. Это был замначальника ГлавПура Михаил Харитонович Калашник. Полковник с ним поздоровался. Они обменялись рукопожатиями.
– Как дела? – спросил Калашник.
– Вот, товарищ генералполковник, писатель Войнович.
Генерал сверху вниз посмотрел на меня, как-то странно хихикнул. Чтото пробормотал вроде «приятно». Руки не подал, но спросил полковника, чем мы занимались. Тот сказал, что обсуждали пьесу.
– Хорошо. А над чем он сейчас работает?
– А над чем вы сейчас работаете? – спросил полковник.
Я удивился такому способу ведения разговора, но ответил полковнику, что работаю над романом о Великой Отечественной войне.
– Работает над романом о Великой Отечественной войне, – доложил полковник, как бы исполняя роль переводчика.
– Очень хорошо, – похвалил меня генерал, – но скажите ему, что сейчас интереснее был бы роман о современной армии.
– Очень хорошо, – перевел мне полковник, – но товарищ генералполковник говорит, что сейчас интереснее был бы роман о современной армии.
Во время перевода генерал согласно кивал, после чего пожал полковнику руку, меня удостоил кивка и удалился. Такой способ общения мне уже был знаком. Первый раз его продемонстрировал мне Твардовский. А мне такой опыт пригодился при создании образа в «Москве 2042» генерала Смерчева.
Вскоре после обсуждения у Востокова мне позвонил завлит Владимир Борисович Блок с напоминанием, что пьесу надо как-то идейно укрепить. Как ее укреплять, я не знал и предложил, чтобы он это сделал сам. Он воспользовался моим разрешением и вписал укрепляющую фразу. У меня герой пьесы хочет быть летчиком, потому что хочет просто летать. В добавленной Блоком фразе он говорит маме, что не может оставаться на земле в то время, «когда прогрессивные летчики воюют во Вьетнаме». Я возражать не стал, предполагая, что после окончательного принятия пьесы я прогрессивных летчиков немедленно выкину. Так и получилось. Пьеса прошла, «прогрессивные летчики» вылетели из текста.
Я огорчился, узнав, что ставить спектакль будет не главный режиссер театра Андрей Попов, а некий Михаил Буткевич, пришедший каким-то образом из мало кому известного Института культуры. Да и при личном общении он произвел на меня впечатление слишком скромного, легко соглашающегося на все человека. К нему приходили известные актеры проситься на роли, он никому не отказывал, улыбался, кивал головой.
Первое впечатление оказалось очень ошибочным. Буткевич точно знал, чего он хотел, на роли выбрал только тех актеров, которые наилучшим образом подходили, мягко и улыбчиво настаивал на неуклонном исполнении его указаний, и спектакль получился замечательный. Двух товарищей играли солдаты срочной службы Алексей Инжеватов и Виктор Пармухин, девушку Таню – Наташа Вилькина, бабушку – Любовь Ивановна Добржанская, это была одна из лучших ролей этой замечательной актрисы.
Мне до самого конца не верилось, что спектакль выйдет. На прогон, то есть последний спектакль перед премьерой, явилась комиссия во главе с очень суровым на вид вицеадмиралом. Сразу после спектакля они поднялись на сцену. Ко мне подбежал бригадир рабочих сцены и прошептал: «Не уступайте им ничего». Но они, к моему удивлению, ничего особенного и не требовали. Кроме одной фразы. Героиня говорила, что Гагарин один раз в космос слетал и теперь получает много денег. Мне самому фраза не нравилась, и я ее снял без колебаний.
Премьера спектакля 2 марта 1968 года для участников стала особым событием. Спектакль его участникам оказался так дорог, что они еще несколько лет подряд каждого 2 марта годовщину премьеры отмечали как праздник.
У Леши Инжеватова праздник был двойной – в этот день родилась его дочь Маша.
Открытый процесс при закрытых дверях…Еще в феврале 1966 года судили Синявского и Даниэля. С Даниэлем я за несколько дней до его ареста шапочно познакомился, а Синявского знал по еще свежей в памяти новомирской полемической статье.
Накануне суда жены арестованных Марья (тогда она называлась Майя) Розанова и Лариса Богораз распространили среди писателей книги Синявского и Даниэля, что было по тем временам смелым поступком. Ведь книги признаны антисоветскими, то есть распространение их есть уголовное деяние, и одно только оно должно было быть делом наказуемым. Ко мне тоже книги попали, я прочел, удивился. Они художественно были не очень высокого уровня и по остроте не превосходили того, что публиковалось в нормальной подцензурной печати. Некоторые опубликованные вещи были поострее. Суд считался гласным и открытым, но ни гласности, ни открытости не наблюдалось. В зал пускали только по билетам, которые выдавались не каждому, в основном агентам КГБ. Люди спрашивали: если процесс открытый, то почему пускают не всех? На что им отвечали: мест в зале не хватает. А вы что, – задавался и такой вопрос, – хотите, чтобы их судили на стадионе? Как в Китае?
Я, конечно, тоже билета не удостоился. Суд был откровенно неправый, сопровождавшийся печатными поношениями подсудимых и публичными выступлениями правоверных «коллег». Особенно мерзко прозвучало выступление на съезде партии Шолохова, пожалевшего о временах, когда таких, как Синявский и Даниэль, просто расстреливали. Веяло 37 м годом. Было страшно за себя и за страну. Но все-таки время для таких процессов было уже не совсем подходящее. В тридцатых годах внутри страны был большой страх. А за ее пределами – незнание того, что происходит внутри. Многие люди и внутри, и снаружи не верили, что такой террор и такая ложь вообще возможны. Были еще сплочены слепо верившие в пролетарское государство западные коммунисты. Но за три десятилетия многое стало известно. Огромную роль в донесении до людей независимой информации стало играть радио, вещавшее на коротких волнах и делавшее недостаточно эффективной советскую цензуру. Слушая ежедневно западное радио, я понял, что расправа над двумя до того мало кому известными литераторами – это безумная затея, про которую Талейран бы сказал, что это больше, чем преступление, это ошибка. Я понимал, что взывать к закону, справедливости или чувству гуманности наших властей – дело бессмысленное, но ведь не круглые же они дураки. Если предположить, что они действительно озабочены крепостью советского строя и надежностью его устоев, его репутацией в мире, то неужели не понимают, что делают? Тогда мне казалось, что, столкнувшись с бурной мировой реакцией на процесс, партийное начальство пребывает в смятении. Все западные радиостанции, во-первых, выступали в защиту Синявского и Даниэля, Во-вторых, в эфире читали повести и рассказы арестованных авторов, на которые раньше никто бы не обратил внимания. Я не исключал того, что руководство КПСС поняло, что попало впросак, желает выйти из положения, не теряя лица, и решил подсказать им возможный выход.
Во время и после суда советские газеты соревновались друг с другом, утверждая, что суд был справедливый. Больше других изощрялся корреспондент «Известий» Юрий Феофанов, написавший из зала суда несколько репортажей, один из которых назывался «Здесь царит закон». Автор был из тех журналистов, которые умели лгать особенно ловко, то есть так, что их материалы неопытному читателю могли показаться правдивыми, а аргументы резонными. В 90е годы Феофанов перестроился или подстроился под время и стал публиковать статьи в самом деле толковые, потому что юридически был грамотен, да и писать умел.
Слава богу, у нас есть КГБПоскольку литературная общественность волновалась как будто больше других, к писателям в ЦДЛ явился ведший процесс председатель Верховного суда РСФСР Лев Смирнов, человек примечательной биографии. На Нюрнбергском процессе он был заместителем главного обвинителя от СССР Романа Руденко. В 1962 м вел процесс рабочих, участвовавших в расстрелянной войсками демонстрации в Новочеркасске. Сто с лишним человек отправил в лагеря, а несколько признанных зачинщиками по его приговору были казнены. Их реабилитировали только тридцать лет спустя.
Явившись на встречу со Смирновым, я в фойе ЦДЛ увидел Юрия Левитанского, который, будучи всегда крайним пессимистом, сказал, что Смирнов человек очень образованный и, конечно, найдет в свою пользу достаточно убедительных аргументов. Я в это не поверил. Я был тогда и сейчас убежден, что превратить ложь в правду никаким красноречием невозможно.
Встреча проходила при забитом до отказа зале. Председательствовал Сергей Михалков. Смирнов, желая расположить писателей к себе, демонстрировал свою образованность, знание английского языка (упоминая вскользь, что по утрам читает «Морнинг Стар») и не боялся произнести слово «феномен» с ударением на втором слоге. Синявского и Даниэля, по его словам, судили не за то, что они печатались за границей, а за то, что совершили преступления. А в чем состояли преступления, если не в печатании за границей, несмотря на образованность и опытность в демагогии, объяснить не смог.
Я послал Смирнову записку без подписи с вопросом, не может ли писательская организация взять Синявского и Даниэля на поруки. Записку прочел Михалков. Всплеснул руками:
– Какие поруки? – И прибавил: – Слава богу, у нас есть КГБ, охраняющее нас от таких писателей.
Автор гимнов всех времен и режимов в своих интервью постоянно подчеркивал, что совесть его по ночам не мучает. Естественно. То, чего нет, болеть не могло… Объясняя свою готовность служить (я бы сказал услужать) любому режиму, автор «Дяди Степы» говорил, что Волга при любой власти впадает в Каспийское море. Река Рейн тоже всегда впадала в Северное море, однако деятели искусства, активно сотрудничавшие с гитлеровским режимом, были осуждены обществом и подвергались остракизму, некоторые пожизненно.
После встречи с судьей все покинули зал подавленные. Ко мне подошла Вика Швейцер, работавшая в аппарате Союза писателей:
– Там ктото послал записку насчет того, чтобы взять ребят на поруки. Тебе не кажется, что это разумное предложение?
Я сказал, что кажется, но в своем авторстве не признался.
Через несколько дней стало ходить по рукам коллективное письмо с использованием моей идеи. У письма были критики, которые, оправдывая свое нежелание подписаться, говорили, что предлагать взять Синявского и Даниэля на поруки – значит признать их преступниками. Формально с этим можно было согласиться, но тактически я и сейчас, десятилетия спустя, считаю, что вопрос был поставлен правильно, и если бы вожди прислушались к голосу не совести, но разума, то крах советской системы произошел бы попозже… У них была возможность сделать хорошую мину при плохой игре. Сказать: мы считаем этих людей преступниками, но если вы готовы их перевоспитать, попробуйте. Однако они, отправив писателей в лагеря, вызвали бурю возмущения в стране и в мире, породили диссидентское движение и еще долго, последовательно и усердно рубили сук, на котором сидели.
У меня был сосед Илья Давидович Константиновский. Он советских вождей называл глистократией и разрабатывал (в основном в болтовне) теорию глистократии. Он считал, что члены глистократии, то есть просто глисты, забираются в мозг, пожирают его, и им нет никакого дела до того, что они когданибудь разрушат питающий их организм и сами погибнут. Глисты живут сиюминутными интересами.
Я не мог не отреагировать на процесс Синявского и Даниэля. Если бы я оставался никому не известным рабочим, то, скорее всего, промолчал бы, понимая, что мой голос будет услышан разве что местным отделением КГБ. Но, став писателем, автором программного для меня рассказа «Хочу быть честным», я не оставил себе возможности отмолчаться. У меня был какойто круг читателей, которые, может быть, хотели бы знать, как я отношусь к тому, что происходит. У меня не было ни малейшей склонности к какой бы то ни было политической активности, но я был согласен с утверждением одного из героев Павла Нилина: мы отвечаем за все, что было при нас.
Наши первые петиции были очень вежливыми и выдержанными по тону обращениями лояльных граждан к своему уважаемому правительству. Они были властью высокомерно проигнорированы.
Бабий ЯрВ сентябре 1966 года из Киева позвонил Вика Некрасов:
– Володька, приезжай, я к годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру задумал кое-какую акцию.
Обычно мы, литераторы, помнили о том, что наши телефоны прослушиваются, и старались говорить обиняками, а Некрасов все говорил прямым текстом. Я собрался ехать. Ко мне присоединились Феликс Светов, Виктор Фогельсон, редактор издательства «Советский писатель», и Владимир Корнилов. Мы купили билеты и отправились на поезде в Киев.
Мы не сомневались, что за нами следят, и не исключали возможности быть снятыми с поезда.
В Киеве нас встретил высокий, стройный человек в габардиновом плаще. Представился: «Я от Некрасова. Виктор Платонович вас встретить не смог и поручил это мне». Мы пошли за ним, всю дорогу допуская, что это, возможно, кагэбэшник, который ведет нас прямо в киевское управление КГБ. Но, как ни странно, он привел нас к Некрасову. У этого человека была кличка Гаврила, а звали его Гелий Снегирев. Он работал режиссером документального кино на Киевской студии.
В квартире Некрасова был прямотаки революционный штаб. Пока мы пили кофе со свежими булочками, приходили какието люди, получали от хозяина указания, уходили. Сразу скажу, что Некрасов в организаторы чегонибудь никогда не годился и тут выступал в несвойственной для него роли. Итак, мы завтракали. Очень вкусно. Мы, московские люди, привыкли, что все заботятся о весе, держат диету и едят чтонибудь черствое и полезное, но Некрасов такой образ жизни всегда презирал, никогда ни от чего не воздерживался: ни от еды, ни от курения, ни от питья.
Мы пообщались и договорились встретиться на митинге.
Бабий Яр был полузапретной темой. Если упоминался в каких-то газетах, то говорилось невнятно, что там были расстреляны советские люди разных национальностей. Хотя все знали, что там гитлеровцы массово расстреливали именно евреев.
Советская власть ненавидела описания фашистских зверств, потому что они намекали на саму советскую власть. Все, кто видел фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», понимали, что этот фильм не только о Третьем рейхе, но и о советской власти тоже. Когда его смотрело Политбюро, главный идеолог КПСС Михаил Суслов спросил Ромма: «Михаил Ильич, за что вы нас так ненавидите?»
При советской власти нигде нельзя было ни написать о предстоящем митинге, ни поместить объявление, и слухи имели огромное значение. Вообще, слух сам по себе был испытанным средством массовой информации и действовал более надежно, чем теперешняя реклама. Например, когда в 1967 году в журнале «Москва» вышел роман «Мастер и Маргарита» Булгакова, я подумал, ну кто читает журнал «Москва», утром выйду и легко куплю его в киоске. Я вышел – оказалось, уже все разобрали, пошел в другой киоск – тоже нет. Журнал мгновенно раскупили по всей Москве. Хотя не было никаких объявлений о выходе в нем романа Булгакова и сам Булгаков был в то время, как казалось, малоизвестным автором.
Когда мы пришли в Бабий Яр, там уже собрались тысячи людей. Стали ждать Некрасова, поскольку знали, что главный устроитель – он. Ждалиждали, его нет. Вышел вперед пожилой еврей.
– Чего мы ждем? – сказал он. – Это народный митинг, давайте начнем и для начала помянем погибших.
Это был, наверное, редкий, а может быть, первый за многие годы советской власти действительно стихийный, не санкционированный властью митинг.
Сначала выступил ктото из евреев, потом украинец.
– Уважаемые евреи, я сюда попал случайно, – сказал он, – и хочу выразить свою солидарность. Я знаю, что многие украинцы участвовали в уничтожении евреев. Мне стыдно за это.
Уже выступили несколько человек, когда наконец появился Некрасов. Толпа зашумела. Некрасов прошел мимо нас. Рядом со мной стояли две пожилые еврейские женщины.
– От него пахнет, – шепотом сказала одна.
– Я ему это прощаю, – шепотом ответила другая.
Некрасов произнес речь. Он сказал, что 25 лет назад здесь были расстреляны десятки тысяч людей. «Это были евреи», – подчеркнул он.
Потом очень резко выступил украинский диссидент Иван Дзюба. После митинга Дзюбу стали таскать в КГБ, а Некрасова (он на войне вступил в партию) – на партбюро.
На митинге люди говорили и приняли резолюцию (опять-таки без санкции властей), что надо поставить памятник погибшим евреям. Власти, естественно, были всем этим очень недовольны, но с тем, что произошло, не смогли не посчитаться. Через две недели в Бабьем Яру появился камень с надписью, что здесь будет стоять памятник погибшим, а много позже возник и сам памятник. Теперь, говорят, там даже несколько памятников. И это заслуга Некрасова. Его поступок был рискованным, по тем временам даже вызывающим. Он не остался не замеченным и прощенным властью.








