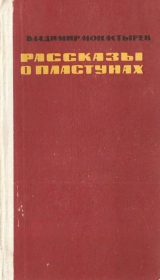
Текст книги "Рассказы о пластунах"
Автор книги: Владимир Монастырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ
Летом в одном из южных приморских городов я увидел афишу, которая сообщала, что в театре состоятся концерты симфонической музыки. На открытие – Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Солист – Вениамин Муравьев.
Неужели Венька? Веньчик из первого батальона? Неужели он?
Я долго стоял перед афишей, прочитал ее всю – от названия филармонии до типографских выходных данных, – но ответа на свои вопросы, разумеется, не нашел.
Вечером я отправился в театр. Места у меня были не из лучших, бинокль я не взял и в блистательном, затянутом во фрак пианисте Веньку Муравьева не узнал. Да и мудрено было узнать – с тех пор, как видел я нашего Веньчика в последний раз, прошло пятнадцать лет.
Играл Муравьев хорошо. Были в его исполнении страсть и сила, без чего и нельзя играть Первый концерт Чайковского. Я слушал, и не покидало меня ощущение праздника, которое рождается от встречи с талантом.
В антракте я пошел за кулисы. Муравьева разыскал в маленькой комнатке с трельяжем и низким диваном. Пианист сидел перед зеркалом, уже без фрака, в расстегнутой на груди рубашке. Он обернулся, и я сразу его узнал: да, это был наш Венька – его серые блестящие глаза, его круглый, крепкий, как ядрышко, подбородок. Он, Веньчик, из первого батальона.
Я не надеялся, что он помнит мою фамилию.
– Марка Гутина вы помните? – спросил я.
– Конечно, – ответил Муравьев. Помолчал несколько секунд и добавил: – А вы его друг… из дивизионной газеты?
Он ничего не забыл и обрадовался нашей встрече не меньше моего. Мы вместе поужинали, потом пошли к морю и посидели на берегу. Он рассказывал о том, как учился в консерватории, говорил о своем настоящем и будущем. А мне все время виделись иные картины: я не мог отделаться от воспоминаний…
…В батальон Венька попал осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года, вскоре после кровопролитных боев, которые пластуны вели за польский город Дембицу. Подробности его появления не помню, дело было не при мне. Когда я зашел к Гутину, Венька был уже умыт, пострижен, обмундирован. Глядел парнишка волчонком, костлявым личиком походил на безбородого старика.
– Вот, – сказал мне Гутин, – наследника бог послал. А что, усыновлю парня и будем мы с ним жить в любви и согласии. Он сирота, я сирота. Как скажешь, Вениамин?
Мальчишка молча вздохнул и прикрыл свои яркие глаза синеватыми старческими веками.
Гутина я знал давно – до войны еще мы с ним служили рядовыми в одной роте. На фронте снова встретились. Марк Гутин носил капитанские погоны и занимал должность адъютанта старшего, а попросту говоря – начальника штаба в одном из пластунских батальонов. Худощавый, остроносый, с острыми маленькими глазками, он выглядел очень моложаво, но как-то посуровел, внутренне усох, что ли. Да и немудрено – война прошлась по нему всеми четырьмя колесами: в Киеве погибли его мать и сестра, сам он три раза был ранен.
Я знал, что Марк любит и знает музыку – до армии учился в консерватории по классу фортепьяно, – что он дня прожить не может без стихов и таскает в планшете томик Багрицкого. Мне было известно, что он питает слабость к сладкому и стыдится этого, считая непростительным для мужчины. В общем, я много знал о Гутине, но о том, что он неравнодушен к детям, не подозревал. С наружностью его это как-то не вязалось: холодновато-вежливый, подтянутый, всегда застегнутый на все пуговицы, он в моем представлении никак не укладывался в раздел любвеобильных добряков, которые легко изливают на детишек нежность своей души и быстро завоевывают их расположение. Но, видимо, знал я о Марке Гутине далеко не все. С Венькой у них дело сладилось на удивление быстро: диковатый мальчишка сразу привязался к строгому капитану, холодновато-корректный Марк оттаивал в присутствии Веньки.
Пластуны долго, до самого января сорок пятого, стояли в обороне, на передовой было сравнительно тихо, и Вениамина оставили в батальоне – пусть подкормится, придет в себя. Прежде чем попасть к пластунам, парнишка два месяца скитался, пробираясь на восток. На запад он двигался вместе с матерью – их угнали в Германию. Мать умерла, и Венька ушел, твердо решив вернуться в Россию. В свои одиннадцать лет мальчишка видел столько горя, что другому хватило бы на всю жизнь.
Прошло немного времени, и Венька Муравьев превратился в щекастого румяного парнишку. В глазах его погасли волчьи огоньки – стал он смотреть на мир доверчиво и с любопытством. Тут его и окрестили Веньчиком, и это ласковое имя очень шло к его круглой, посвежевшей мордашке.
Пользуясь затишьем на фронте, строевое и политическое начальство проводило в штабе дивизии различные совещания и семинары, на которые нередко вызывали и Марка Гутина. А он обязательно брал с собою Веньку. Дело в том, что у парня обнаружились незаурядные музыкальные способности. У него был абсолютный слух, он на лету схватывал любую мелодию. Глядя на его руки, Марк неизменно приходил в восторг: пальцы у Веньчика были поистине музыкальные – длинные, чуткие, сильные пальцы. Гутин раздобыл ему мандолину, и мальчишка со сказочной быстротой научился на ней играть. Но мандолина не ахти какой инструмент. Гутин твердил, что Венькины руки созданы для клавиатуры. В селе, где размещался штаб дивизии, в доме священника, стояло чудом уцелевшее пианино. К этому пианино Марк и тащил Веньку при каждом удобном случае.
Гутин и сам тосковал без инструмента, хотя никому в том не желал признаваться. Но я-то знал. Я видел, как он, словно нехотя, садился за пианино, как загорались его глаза, как вздрагивали от нетерпения пальцы, которые он медлил положить на клавиши.
Я очень хорошо помню, как мы первый раз пришли в этот дом, прилепившийся к зданию костела. Жителей выгнали из села немцы, когда готовили здесь оборонительные рубежи. Комнаты были пусты, массивная мебель расставлена вдоль стен в казарменном порядке. Смеркалось, мы завесили окна плащ-палатками и зажгли принесенные с собой свечи.
Марк попробовал инструмент.
– Вполне приличный, – сказал он. – И не расстроен. – Помолчал и с силой ударил по клавишам.
Бам… бам… бам… бам…
– Тут вступает оркестр, – сказал он, не поворачивая головы. Я прикрыл глаза, и мне показалось, что я в самом деле слышу оркестр, слышу это удивительное, грохочущее, как обвал, вступление. Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского. Зал консерватории на улице Герцена, блестящие трубы органа, черные фраки и белые манишки оркестрантов, выдвинутый вперед рояль с крышкой, поднятой, как черное крыло… Все это в ту пору было от нас так далеко и вдруг так близко придвинулось, что я даже головой тряхнул, чтобы избавиться от наваждения.
А Веньчик сидел, вцепившись длинными пальцами в подлокотники кресла, приоткрыв рот, широко распахнув свои серые глаза. В его воображении концерт Чайковского вызвал какие-то иные картины, и оркестр он себе представлял иначе, но все равно музыка захватила его властно, и он не мог оторвать взгляда от рук Марка Гутина.
Марк стал давать мальчику уроки музыки. Венька учился читать ноты, а раз в неделю ухитрялся побывать в штабе дивизии и поупражняться в игре на пианино.
Я с удовольствием бывал у них в батальоне. Если случалось брать материал у соседей, то ночевать старался попасть к Гутину. Его землянка под тремя накатами бревен была невелика, но «обставлена» со вкусом: нары не сплошные, а вытянуты по стенам, как полки в вагоне. В центре – круглый стол. Видимо, потому, что он был круглый, за ним могло разместиться несметное количество гостей. По стенам – аккуратные полочки, на них, рядом с жестяными кружками, две банки из-под консервов, в них всегда свежие полевые цветы. Потом, когда наступили холода, цветы уступили место хвойным веточкам.
В землянке, кроме Гутина и Веньки, жил майор Сосин, заместитель командира батальона по политической части. Это был большой, очень сильный физически и очень добродушный и разговорчивый человек. Прямая противоположность Гутину. Может быть, поэтому они так прочно «притерлись» друг к другу. Во всяком случае, всюду они селились вместе, и я не помню случая, чтобы между ними возникло какое-то несогласие. К Веньчику Сосин относился с мужской нежностью, парнишка отвечал ему крепкой привязанностью. Венька любил майора, но совсем не так, как Гутина. Тут уж сравнений и быть не могло. Марка Веньчик боготворил.
Я любил вечера, когда в землянке задергивалось оконце, зажигался универсальный светильник военного времени – латунная гильза с фитилем, и Веньчик садился на нарки, подобрав под себя ноги, вооруженный мандолиной. Сосин обычно сидел, вытянув ноги в громадных сапогах, подпирая широкой спиной стенку. Марк лежал, подложив руки под голову и глядя в потолок.
Веньчик начинал с импровизации. Это у него здорово получалось: он причудливо переплетал знакомые мотивы и какие-то неведомые мелодии. Мандолина в его руках то грустила, то рассыпалась смехом, то слышались суровые ноты и четкие маршевые ритмы. Потом тихо-тихо наигрывал Венька что-нибудь очень знакомое – «Землянку» или «С берез неслышен, невесом…». Сосин воспринимал это как приглашение: откашливался и негромко начинал петь. Голос у него был теноровый, мягкий, он поднимал песню все выше, выше. Где-то в середине куплета неожиданно вступал Марк. Он вторил басом, будто прикрывал и поддерживал начатое Сосиным.
…Так что ж, друзья, коль наш черед,
Пусть будет сталь крепка, —
выводил майор. И Марк вторил ему:
…Да будет сталь крепка…
И уже вместе, согласно выговаривали они:
…Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука!..
Суровая и нежная песня трогала самые глубокие душевные струны, и, когда певцы заканчивали, я говорил им взволнованно и благодарно:
– До чего ж хорошо поете, идолы.
– Хо-хо, – посмеивался Сосин, – академична капелла в сопровождении заслуженного бандуриста Веньчика Муравьева.
Марк молчал, по-прежнему глядя в потолок. Иногда он так же неожиданно, как вступал в песню, начинал читать стихи:
Свежак надрывается, прет на рожон,
Азовского моря корыто…
Багрицкий властно входил в землянку. Пропадал в разбушевавшемся море непутевый молодой матрос, равнодушная волна несла к берегу арбуз с нарисованным сердцем и выбрасывала его к ногам красавицы казачки, которую любил матрос…
…И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое.
Сосин кряхтел и откашливался.
– Вот ведь чертяка полосатый, – говорил он смущенно, – который раз слышу, а все равно в горле першит.
Венька молчал. Он только чуть трогал струны, и они звучали печально и торжественно.
– Для чего создан человек? – уже окрепшим голосом вопрошал Сосин.
Ровно, без интонаций, Марк говорил:
– Уже четвертый год люди стреляют, колют и режут друг друга. И топчут танками.
– Фашистов надо топтать, – с силой произносил майор, – от этого никуда не уйдешь. Но люди созданы не затем, чтобы стрелять, колоть и резать, а затем, чтобы творить красоту, создавать стихи и песни, от которых хочется смеяться и плакать. Венька, запомни это!
– Аминь! – громовым басом заключал Марк.
…В декабре войска на фронте пришли в движение. Пластуны покинули насиженные землянки и переправились на плацдарм за Вислой. Готовилось январское наступление.
Веньку хотели отправить в тыл, но он категорически воспротивился и заявил, что все равно, куда б его ни отсылали, он убежит и вернется в батальон. И он бы вернулся, в этом никто не сомневался.
Майор и Гутин посоветовались и решили – пусть остается. Только взяли с него обещание, что по первому требованию он будет передислоцироваться в тылы дивизии, где у него уже завелось немало знакомцев. Венька согласился. В первые дни наступления он действительно двигался с тылами, но потом опять прочно закрепился возле Гутина и даже выполнял обязанности связного, проявив себя при этом самым наилучшим образом – о таком проворном, смышленом и находчивом связном другие офицеры могли только мечтать.
В марте пластуны вышли к Одеру и частью сил с ходу форсировали реку. Батальон, где был начальником штаба Гутин, переправился на западный берег одним из первых.
Веньку оставили в тылу, но под утро он каким-то неведомым путем проник на плацдарм и явился в штабной блиндаж. Оглядел его и поморщился: добротный немецкий блиндаж ему не понравился.
Два дня гитлеровцы пытались сбросить пластунов в реку. Атака следовала за атакой, на маленький клочок земли обрушили тысячи снарядов и мин. На рассвете третьего дня с последней лодкой (днем жизнь на реке замирала) прибыл посыльный из штаба дивизии. Имелись сведения, что немцы готовят танковый удар на стык двух батальонов. Надо было срочно перегруппировать противотанковые средства.
Комбаты сошлись на совет, Гутин звонил в сотни. В третью дозвониться не удавалось – провод, проложенный по лощинке, был перебит минами, а ждать, пока его восстановят, начальник штаба не мог.
– Я сбегаю, – предложил Венька.
– Беги, – разрешил Гутин. Но когда мальчишка рванулся к двери, заколебался: – Погоди…
Бежать надо было по той самой лощинке, где связисты никак не могли восстановить кабель. Всего каких-нибудь триста метров – там вообще не было больших расстояний, держались на пятачке.
Колебался Марк несколько секунд. Не раз он посылал Веньку с подобными поручениями и как-то не думал об опасности, а сейчас вдруг испугался.
– Подожди, – сказал он мальчику, – я сам.
Венька смотрел с недоумением и обидой.
– Надо побывать в сотне, – объяснил Марк, – самому посмотреть, как у них там.
И вышел из блиндажа. Пригибаясь, побежал по лощинке, шестым чувством ощущая опасность, падал, пережидая разрывы. И, наверное, думал, что правильно поступил, не послав Веньку. Во всяком случае, в сотне сказал командиру с облегчением:
– Хотел Веньчика к тебе послать, да раздумал…
Потом Гутин пошел обратно. В тридцати шагах от блиндажа его накрыло сразу двумя разрывами.
Когда Марка внесли в блиндаж, он был еще жив. Сумел улыбнуться Веньке и сказать:
– Теперь – все…
Венька не плакал, только весь съежился, лицо его сморщилось, как печеное яблоко, и застыло в страдальческой гримасе. Уж лучше бы он плакал.
Ночью батальоны получили приказ – оставить плацдарм. Свое дело они сделали – привлекли на себя силы противника, а тем временем выше и ниже по течению другие части форсировали Одер.
Выдалось несколько дней передышки, и майор Сосин сам отвез Веньку в армейские тылы. Мальчик на этот раз не противился, не возражал. Он был молчалив, безразличен ко всему, и страдальческая гримаса была на лице его, как маска…
…Все это вспомнилось мне, когда мы сидели с Вениамином Муравьевым на берегу моря, после концерта.
Я проводил Муравьева до гостиницы, попрощался и снова вернулся к морю. Большое, темное, оно лежало под редкими звездами. А в ушах у меня звучало мощное начало Первого концерта.
ПОЕДИНОК
После боев за Дембицу пластуны долго стояли в обороне. На фронте была относительная тишина – только разведчики да снайперы действовали активно. Снайперов за это время в дивизии выросло много. В каждом батальоне и в каждой сотне были свои отличившиеся мастера снайперского дела, а у них учились и шли по их стопам многие другие пластуны.
В батальоне капитана Трофимова самым боевым и знаменитым снайпером был двадцатичетырехлетний сержант Найденов. Насколько он преуспел в своем трудном и опасном деле, можно судить по тому, что даже начальник политотдела, побывав в батальоне, лично с ним разговаривал и даже называл по имени-отчеству – Михаилом Платоновичем. После этого Найденов немного заважничал и стал отпускать гвардейские усы. Парень он был неглупый, так что важность у него быстро прошла, а усы остались, росли они споро, и уж можно бы их закручивать, но эта операция долго не удавалась сержанту – усы топорщились в разные стороны.
На помощь Найденову пришел наводчик противотанковой пушки. Он до войны работал парикмахером и посоветовал сержанту «для оклейки» сильно действующий состав. В результате этой косметической поддержки со стороны артиллерии усы у Найденова завернулись в колючие, загадочно поблескивающие стрелки.
Товарищи подшучивали над сержантом:
– Смотри, Михаил Платонович, демаскируют тебя усы, блестят сильней оптического прицела…
Найденов отвечал:
– Ничего, я на них колпачки имею, на «охоту» иду – зачехляю.
Зачехлял он их или нет – неизвестно, только на «охоте» они ему не мешали. Почти каждый день сержант находил способ досадить гитлеровцам.
Уже наступали холода, ночами подмораживало, и немецкие солдаты, решив утеплить свои траншеи и блиндажи, натаскивали туда сухой соломы. Зажигательными пулями Найденов поджег в одной траншее солому, выкурив оттуда фашистов, и «под шумок» свалил двоих. В другой раз он, выдвинувшись ночью далеко вперед, убил двух гитлеровцев, рубивших в роще деревья для перекрытий. Роща находилась за немецкими траншеями, и гитлеровцы чувствовали себя здесь в относительной безопасности. И вот – на тебе, снайперы и там их достали. Гитлеровцы вышли из себя: целый день вели огонь из минометов и пулеметов по нашим позициям. Стреляли много, но бестолково, и если кому и нанесли урон, так только себе, дав возможность нашим артиллерийским разведчикам уточнить расположение действующих огневых точек.
Из учеников Найденова самым способным и удачливым был ефрейтор Григорий Маркин, подвижной крепыш, весельчак, стрелок отменной меткости. Найденов очень ему симпатизировал и с удовольствием передавал смышленому Грише все снайперские «секреты». О Маркине заговорили уже и в дивизии, личный счет его быстро пополнялся, мастерство крепло, оттачивалось. Найденов даже пошутил как-то:
– Тесновато нам с тобой, Гриша, на одном участке.
И вдруг в один далеко не прекрасный день Маркина ранил немецкий снайпер. Утром этот снайпер подбил зазевавшегося бойца на левом фланге, а часов около двух принесли Гришу.
Найденова в ту пору на командном пункте не оказалось, он пришел позже. И сейчас же его вызвали к командиру батальона.
Капитан Трофимов сидел за столом, сколоченным из шершавых, обгорелых но краям досок. Перед ним лежал разобранный пистолет. В руке комбат держал блестящий ствол пистолета и смотрел через него на огонь ровно и сильно горевшей лампы, сделанной из латунной гильзы. На сухой щеке Трофимова медленно ходил круто желвак.
Найденов доложил о прибытии. Капитан повернул к нему голову, кольнул маленькими, глубоко сидящими глазами и кивнул на табурет у стола:
– Садись.
Сержант сел. Капитан еще раз поглядел на огонь сквозь пистолетный ствол, положил его и всем телом повернулся к Найденову.
– Я вот сидел тут и думал, – начал он, – как же нам дальше быть… – капитан покатал пальцем ствол пистолета, – и выходит, Михаил Платонович, что придется тебя с переднего края временно удалить.
– Это как же – удалить? – привстал Найденов.
– Ну сам посуди, – словно не замечая его волнения, продолжал комбат, – сегодня немецкий снайпер Маркина ранил, завтра, гляди, тебя подстрелят, а я с кем останусь? Да еще и попадет мне за тебя, скажут в дивизии – такого снайпера не уберег…
Найденов не первый день знал своего комбата: капитан был шутник и любил преувеличивать. Но сейчас он, кажется, хватил через край. Сержант побледнел, один ус у него расклеился и ощетинился, но он и не заметил этого. Вскочив с табуретки, Найденов выпрямился и, сделав под козырек, сказал:
– Разрешите, товарищ капитан…
– Что разрешить?
– Завтра на «охоту» выйти… уж тому гитлеровскому снайперу не поздоровится!
– Ишь, как тебе не терпится. А Маркина в медсанбате навестить не желаешь?
– Сначала со снайпером надо разделаться…
– А я бы на твоем месте сначала Маркина повидал…
Капитан встал и шагнул к Найденову.
– Шутки в сторону, – сказал он. – Я тебя затем и вызвал, чтобы посоветовать – сходи к Маркину, расспроси подробно, при каких обстоятельствах его ранило, это тебе очень поможет. Поспешность тут ни к чему, снайпер-то у них появился, верно, матерый.
– Спасибо, товарищ капитан, за совет, – горячо поблагодарил сержант, – я им сейчас же и воспользуюсь.
– Уже темнеет.
– Ничего, не заблужусь. Теперь вечером месяц подсвечивает.
– Ладно, – согласился капитан, – иди сейчас, там можешь заночевать.
До медсанбата было не меньше десяти километров, но что такое десять километров для пехотинца? Часа полтора, от силы два ходьбы.
Стемнело. Однако скоро сквозь небыстро плывущие облака пробился свет месяца и стало видней. Найденов шагал уверенно: дорога знакомая. Сокращая путь, он шел через огороды, прыгая с грядки на грядку, через поля, покрытые мокрой, скользкой стерней. На бугре он остановился перевести дыхание. Одинокая росла тут осина. Ветра не было, но листья ее мелко дрожали, издавая сухой, шелестящий звук, будто кто шептался неподалеку.
«Унылое дерево», – подумал сержант и, отведя глаза от осины, посмотрел вокруг. С бугра видно далеко вперед. В мутном вечернем свете терялись очертания следующего бугра, на который взбегало изрезанное узкими полосками поле. Внизу черной лентой вилась дорога, и на ней поблескивали мелкие лужи. А вправо, уходя в густевший к горизонту мрак, тянулась деревня. Ни огонька в ней, ни звука, дома словно заштрихованы карандашом. Найденов долго смотрел на все это, точно впервые увидел. Да так оно и было. Он привык смотреть на деревья, как на ориентиры, на местность – с точки зрения рельефа ее, на деревни – ища скрытые подступы к ним. А тут окинул землю простым человеческим глазом и увидел ее сиротливой, бедной, но все-таки по-своему красивой и подумал, вспоминая виденное здесь в деревнях: «Плохо еще люди-то живут, плохо… Неужели и дальше так жить будут?» И сам себе ответил: «Нет, не может этого быть. Там, где мы пройдем, люди должны лучше жить. Ведь наши солдаты столько своей крови за это пролили… Только надо гнать поскорее фашистов, чтобы и духу их тут не оставалось…» Сержант поправил автомат за плечами и бегом направился к дороге. «Ночевать в санбате не буду, – думал он, – сегодня же и обратно: до рассвета надо успеть за передний край выбраться».
Медсанбат стоял в маленькой деревушке, и Найденов довольно быстро отыскал хату, в которой лежал Маркин. Но в хату его не пустили. Маленькая хлопотливая сестра категорически заявила:
– Не полагается.
На ее лице с круглыми строгими глазами была написана такая непреклонность, что сержант не стал спорить и отправился на поиски дежурного врача. Дежурный, выслушав Найденова, разрешил. Он вызвал непреклонную сестру и приказал:
– На десять минут пустите к больному.
Сержант хотел сказать, что Маркин не больной, а раненый, но вовремя удержался, вспомнив, что и его в прошлом году величали в санбате больным, хотя у него было осколочное ранение. «Так уж у них заведено, должно быть», – решил Найденов и не стал вмешиваться.
И вот, натянув узенький халат на свои широкие плечи, сержант сидит у постели Маркина. Времени в их распоряжении мало, поэтому разговор друзья ведут раньше всего о деле. У Маркина забинтовано правое плечо. Он бледен, но глаза у него живые, поблескивают. Говоря, он жестикулирует левой рукой.
– …Я первый его заметил, – рассказывает он, – в районе кустов, что против нашего левого фланга. Это, если смотреть от второго блиндажа, на два пальца левей ветряка.
– Знаю, – кивнул головой сержант.
– Ну вот, выстрелил я и вдруг вижу: высовывает он из траншейки лопату и, как на полигоне, помахивает: мимо, мол.
– Лопаткой, значит, помахал? – удивился сержант.
– Да, как на полигоне. Я под эту лопатку еще раз выстрелил и – в ответ получил пулю… Вот и все.
– Ладно, – заключил Найденов, – я завтра посмотрю, что за показчик такой у немцев объявился.
– У меня там две позиции есть, – сказал Маркин. – Одну он уже знает, а другую – нет. Она немного в сторону, от разбитого дерева сорок шагов влево, но запасного окопа к ней оборудовать я не успел.
Сержант молчал, что-то прикидывая.
– Влево от разбитого дерева, говоришь, – сказал он. – Хорошо, найду… Ну, а ты поскорей выздоравливай…
Подошла и тронула Найденова за плечо сестра:
– Пора.
– Ох, и строгая вы женщина, – сокрушенно произнес сержант. – Вам бы старшиной в роте служить… Будь здоров, значит, – повернулся он к Маркину, – ждем тебя в батальоне.
– Желаю удачи, Миша, – вслед Найденову сказал Маркин. – Ребятам привет передавай…
До рассвета Найденов успел разыскать Гришину позицию и по-хозяйски расположиться в ней. Это был небольшой окоп, вырытый в форме полумесяца, остриями обращенного к противнику. У него был широкий, отлично замаскированный бруствер с четырьмя прорезями – бойницами. Правый фланг окопа имел глубину до полутора метров, а левый – на два штыка лопаты: глубже зарыться Маркин не успел.
Сержант устроился на правом фланге окопа. Теперь оставалось ждать рассвета. А ждать пришлось долго, потому что на зорьке пал туман и подниматься стал только часам к одиннадцати.
Терпения снайперу не занимать, и в другое время Найденов спокойно пересидел бы в окопе лишнюю пару часов, но сегодня эта неожиданная задержка тревожила его: фашистский снайпер из-за тумана мог не выйти на свою позицию. Наконец туман поредел, местами подернулся синевой и стал рваться на бесформенные, поминутно менявшие очертания лоскуты. Кое-где проглянуло небо, земля очистилась, и Найденов отчетливо увидел перед собой немецкий передний край: справа рощу – голую, с черными стволами деревьев, с клочьями тумана на ветвях; левей – мельницу с отбитым крылом, а еще левей – ленту невысокого кустарника.
Найденов посмотрел на то место, где Маркин вчера обнаружил вражеского снайпера, и сразу определил: сегодня там тоже кто-то есть. Сержант припал к оптическому прицелу. Тотчас будто прыгнули к нему кусты и упиравшиеся в них гряды с вялой, пожелтевшей картофельной ботвой. В одном месте гряду перерезала темная полоска, и вдоль нее, слегка покачиваясь, короткими толчками передвигался картофельный куст. Вот он остановился, приподнялся, и теперь под ним можно распознать что-то вроде стальной каски.
Сержант, определив расстояние, проверил прицел, но с выстрелом медлил: что-то уж очень беспечен этот гитлеровский снайпер. Он еще понаблюдал за картофельным кустом. Теперь это сооружение двигалось в обратном направлении. Вот оно снова остановилось и приподнялось повыше.
«Ишь ты, – подумал Найденов, – на живца ловит. Ну что ж, попробуем пойти на живца». Он выстрелил. Куст дрогнул, осел немного, и тотчас рядом с ним, словно вытолкнутая из-под земли, выскочила и закачалась малая лопатка: мимо, мол. Не целясь, сержант выстрелил еще раз и отпрянул в сторону. В то же мгновение пуля чиркнула по брустверу чуть правей оптического прицела.
Найденов осторожно вынул винтовку из бойницы и переложил ее в другую, в центре окопа. Тут окоп был мельче, пришлось устраиваться сидя. «Разнообразием тактики немецкий снайпер не отличается, – размышлял сержант, – сегодня повторяется то же, что было вчера. Главный его козырь – лопата, рассчитывает удивить, это во-первых, ну, а кроме того, – по второму выстрелу уточняет цель и бьет. Что же я о нем еще знаю? Ясно, что куст и лопату он показывает в одном месте, а стреляет из другого. А может быть, их двое? Мало вероятно. Судя по тому, как перемещался куст и появилась лопата, двигали ими издали: или за веревку дергали, или шестом толкали – и делал это сам стрелок, сидящий… А вот где он сидит, надо выяснить…»
Найденов стал смотреть в оптический прицел. Картофельный куст оставался в прежнем положении, вправо от него… вот правей, видимо, и прячется немецкий снайпер, там ботва что-то слишком густа и переплелась странно. «Попробуем еще раз», – и сержант послал пулю в самое густое сплетение картофельной ботвы.
На этот раз лопата появилась не сразу, но все же появилась, раза два качнулась и исчезла. Найденов попробовал представить себе, как реагировал на этот выстрел противник. Сначала он, видимо, немного растерялся – пуля прошла где-то близко от его убежища, потом взял себя в руки и решил, что лопаткой помахать все-таки надо; не сделать этого – значит подтвердить, что его нащупали…
Найденов снова перенес винтовку. Устраивая ее на новом месте, он неосторожно поднял плечо, и сейчас же немец выстрелил. Сержант увидел, как из ватника на плече, словно сам собой, вырвался клок ваты. Он еще раз перенес винтовку и стал ждать. Прошло минут двадцать, прежде чем Найденов заметил легкое движение в ботве. Выстрелил и сейчас же получил ответ. Лопата больше не появлялась. «Представление окончилось, – подумал Найденов, – теперь будет серьезный разговор».
Время шло. Тучи заволокли небо, прошел небольшой дождь, и опять засветлело, а поединок снайперов продолжался.
«Дело к вечеру, – досадовал Найденов, – а фашист все еще держится. Правда, лопаткой уже не машет, стрелять стал чаще – нервничает, но ждать, когда он от нервной болезни кончится, мне не с руки…»
Сержант попытался утешить себя, что в крайнем случае завтра сумеет поймать гитлеровского снайпера. И сам же такое утешение отверг: на завтра откладывать нельзя. Завтра этот гитлеровец может уйти на другой участок и там, глядишь, кого-нибудь на свою лопатку подловит. Сержант подумал о том, что будет он рассказывать комбату, вспомнил Гришу Маркина и решил: нет, надо сегодня кончать.
«А что, если?..» Найденов вспомнил старинный пластунский прием: надо вызвать противника на выстрел, привстать, будто пуля сразила тебя насмерть, и, упав, ждать, когда враг откроется. «Рискованно, – подумал сержант. – Может статься, что он успеет еще раз выстрелить, когда я подскочу… Что ж, риск – благородное дело…»
Найденов принял решение: попробовать пластунский прием. Он перенес винтовку в крайнюю левую бойницу. Стрелять придется с левой руки, зато лежа – окоп тут мелкий. Ну, кажется, все готово. Сержант вынул из-за пояса рукавицы, одну из них надел на черенок лопаты и, вздохнув поглубже, точно собирался нырять в воду, стал медленно поднимать варежку над бруствером окопа.
Чвик-к… – пуля рванула с бруствера пук соломы и обрушила в окоп несколько мелких комочков земли. И еще не упала земля на дно окопа, а Найденов уже резко рванулся вверх, выпрямив согнутые в коленях ноги. На мгновение он почти по пояс высунулся из окопа, взмахнул руками и рухнул на левый бок. Тотчас припал к прицелу. Сердце колотилось так, что казалось – сейчас пробьет грудную клетку и уйдет глубоко в землю.
Постепенно успокоилось сердце, ровней стало дыхание. Глаз отчетливо видел и темную полосу поперек гряд, и сплетение картофельной ботвы справа… Лежать неудобно, и уже левая рука болит в локте, и хочется переменить положение, а нельзя – надо терпеть.
Чуть заметно шевелится картофельная ботва в одном месте, приподнимается… выше… выше… выше. И уже виден обрез каски, он поднимается к перекрытию прицела… задержался, не движется… резко падает вниз… Неужели проморгал? Нет, опять видна каска, на этот раз обрез ее сразу перескакивает перекрестие прицела… Немец подносит к глазам бинокль…










