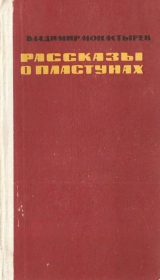
Текст книги "Рассказы о пластунах"
Автор книги: Владимир Монастырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
МЕЧТАТЕЛЬ
Когда в политотделе собирались комсорги, самым невидным среди них был Семен Давин. Помощник начальника политотдела по комсомолу Евгений Валивач в красном бешмете, Володя Ковалевский в шароварах «як сине море», плечистый, плотно сбитый Кошкин в кубанке с малиновым верхом, чубатый красавец Даньшин… Да кого ни возьми, все рослые, сильные, кровь с молоком хлопцы. А Семен Давин и ростом мал, и сложения хлипкого, только глаза у него – большие, темные, всегда задумчивые, словно смотрит он куда-то вдаль.
– Мечтатель, – говорили о нем товарищи.
До службы в армии Давин работал счетоводом. А хотелось ему стать писателем, и по вечерам он писал роман из жизни революционеров. Главным действующим лицом в романе был молодой революционер, влюбленный в дочь капиталиста. Девушка отвечала ему взаимностью, но ее родители хотели, чтобы он перешел в их лагерь. На этой почве в романе разворачивались умопомрачительные события. Герой произносил монологи на три страницы без знаков препинания, героиня нюхала соли и падала в обморок.
Автор имел весьма смутные представления о времени и деталях быта, о капиталистах он знал, что они живут в «красиво обставленных комнатах» и в трудных случаях жизни «нюхают соли», а подпольщики обязательно собирались тайно и почем зря ругали капиталистов и помещиков.
Однако недостаточная осведомленность в деталях быта не мешала автору: он вообще не утруждал себя описаниями, предпочитая диалог и стремительное действие. Писал Давин быстро, увлеченно и самозабвенно, засиживаясь до вторых петухов. Когда очень уж хотелось спать, переворачивал табурет ножками вверх. Сидеть было неудобно, зато сонливость проходила. Но однажды и это испытанное средство не помогло: провалившись между ножками табурета, Семен заснул, уронив голову на край стола.
В таком положении увидела его утром жена. Сначала она ужасно перепугалась: думала – мужа хватил удар. Потом разобралась, в чем дело, и устроила Семену скандал. Люди они были молодые, скоро помирились, и Давин вернулся к рукописи, которая опять стала пухнуть не по дням, а по часам.
В 1940 году Семена призвали в армию. Без печали оставил он контору, где просидел несколько лет, простился с женой и отправился в часть.
Военная служба ему понравилась, хотя и не обходилась она без неприятностей. Семен был мал ростом, сложен отнюдь не атлетически, так что обмундирование на него подобрать не смогли, пришлось ушивать самый малый из имевшихся на складе размеров. А в фуражку ему подложили чуть не целую газетную подшивку, и все-таки она сползала на уши. Удручала его и физическая подготовка, но он не сдавался, храбро карабкался на турник, отчаянно кидался на забор, срывался, падал и опять прыгал до тех пор, пока не удавалось ему зацепиться и перекинуть себя на другую сторону.
– Молодец, – говорил о нем сержант, – этот свое возьмет.
Рукопись Давин привез с собой и отдал ее политруку, а тот отнес комиссару полка. Комиссар взвесил толстую стопку бумаги на руке, покачал головой и заметил:
– М-да, надо же исписать столько. Ладно, оставь, я прочту.
Через неделю он вызвал Семена и сказал ему, с силой потирая свой бритый череп ладонью:
– Читал я твое повествование. Фантазии в нем много. Сколько тебе лет? – вдруг спросил он, впиваясь острыми коричневыми глазами в лицо Семена.
Давин ответил.
– Молод ты еще, однако надо тебе настоящую литературную консультацию организовать. Вот приедет из окружной газеты товарищ, я тебя с ним сведу.
А политруку роты комиссар сказал:
– Парень он шустрый, грамотный, комсомолец, сделаем его замполитруком.
И стал Семен замполитруком, повесил на петлицы четыре треугольника, а на рукав нашил красную звездочку.
Комиссар как обещал, так и сделал – свел Давина с приехавшим из окружной газеты писателем. Беседа у них затянулась часа на три. Семен вышел после нее красный, потный и взъерошенный. Рукопись он положил в чемодан, на самое дно, а чемодан сдал в каптерку. Разговор с писателем оказался настолько радикальным, что охота к литературным упражнениям у Давина пропала.
Осенью сорок третьего года, когда формировалось пластунское соединение, Семен Давин был уже старшим лейтенантом, успел побывать в нескольких частях, рвался на фронт, но ему не везло: из резервных полков никак не мог выбраться. Внешне он мало изменился – остался таким же щуплым, маленьким, каким был в конторе, только черты лица утратили прежнюю расплывчатость, стали суше, резче. Силы у него не прибавилось, но выносливость он приобрел. А вот форму носить так и не научился по-настоящему. В обычное время все на нем сидело терпимо, но стоило ему разволноваться, как сейчас же пряжка поясного ремня сбивалась набок, пистолет переезжал на живот, фуражка сползала на сторону.
А комсомольская работа шла у него хорошо. Был он выдумщик, умел интересно поставить вопрос на собрании, с подъемом провести митинг, сам увлекался, зажигался новой темой, свежей идеей и будоражил всю организацию. Пока формировались и учились пластунские батальоны, его на всех совещаниях в политотделе ставили в пример и даже заставляли делиться опытом.
Другие комсорги ему не то чтобы завидовали, но относились к его успехам скептически: тут, конечно, дело у него движется, а вот когда в бой пойдем, как оно получится – еще неизвестно. Давин не давал повода думать о нем плохо, но уж очень он был все-таки на вид невзрачен, как-то по-граждански вежлив и совсем не замечалось в нем лихости.
В августе сорок четвертого года после стремительного марша, пройдя за неделю 500 километров, пластуны вступили на территорию Польши.
Совсем близко угадывался передний край: по обочинам дороги встречались разбитые машины, от которых еще тянуло горелым железом, подступавший к дороге слева пестрый лесок местами был посечен и порублен артиллерией, на деревьях еще сочились свежие раны. Казаки уже слышали пушечные удары на западе, а под утро, в чуткой тишине, часовые различали пулеметные очереди.
Н-ский пластунский полк остановился на ночлег в маленьком, утопающем в садах городке. Штаб разместился на площади, тут же неподалеку дымили походные кухни. Сотни стали в роще на окраине городка.
Семен Давин медленно, с любопытством оглядываясь по сторонам, шел по одной из тихих улиц. Аккуратные глухие заборы, невысокие, но прочные, отделяли сады от выложенных брусчаткой панелей. Всюду одинаковые, с решетками в верхней части, желтые калитки, всюду за темной зеленью белые фасады домов. Эта одинаковость и благонамеренность заборов и калиток, домов и садов действовала удручающе и Семену не понравилась. Он попытался обстоятельней разобраться, что же, собственно, ему тут не нравится, но сделать это не успел. На белом заборе появилась долговязая фигура пластуна. Казак сначала перекинул обутые в пыльные сапоги с короткими голенищами ноги, потом сел на заборе и легко спрыгнул на панель.
– Какой сотни? – строго спросил Семен.
Пластун обернулся и сверху вниз взглянул на комсорга. Давин узнал Николая Недильку, самого развязного и расхлябанного в четвертой сотне казака. Бешмет у Николая был до половины расстегнут, низко подпоясан ремнем, изнутри его распирало так, что на животе и в боках вот-вот мог лопнуть.
– Яблоки воровал? – ткнул Давин пальцем в раздувшийся бешмет казака.
– Та зачем же воровать, товарищ старший лейтенант, просто зашел и взял трохи, – черные глаза у Недильки смеялись, маленький аккуратный рот растягивался в улыбку.
– Как вам не стыдно, – начал сердиться Давин, – ведь всех предупреждали – у местных жителей ничего не брать.
– А я ничего и не брал, только яблоки. Чего им будет… – кивнул Недилько головой в сторону сада.
– Да еще через забор, – перебил его Семен.
– Так через забор ближе… Да вы не думайте, товарищ старший лейтенант, что я много сорвал, это же не только себе, я и пластунам прихватил… Вот и вас могу угостить, – с невинной улыбкой Недилько достал из-за пазухи, большое яблоко и протянул его Давину. Семен вспыхнул, кобура с пистолетом переехала ему на живот,, он схватил ее и закинул на поясницу, потом, сжав кулаки, опустил руки по швам и гневно крикнул:
– Ах вы… стать смирно!
Недилько опустил руки, в левой он по-прежнему держал яблоко. Улыбка медленно сходила с его лица. От вежливого маленького комсорга, который никогда никому не приказывал, ни на кого не повышал голоса, он не ожидал такой строгости.
Семен Давин шагнул вперед, протянул руку к ремню пластуна и резким движением расстегнул его. Яблоки с частым стуком попадали на панель и раскатились в стороны.
– Приведите себя в порядок, – приказал Давин, отступив на шаг назад.
Недилько разжал левую руку, и еще одно яблоко со стуком упало ему под ноги. Застегнув бешмет и затянув, ремень, он снова застыл в положении «смирно».
– Можете идти, – козырнул ему комсорг.
Пластун с сожалением оглядел лежавшие в пыли яблоки, вздохнул, круто повернулся и зашагал вдоль улицы.
Семен Давин стоял, глядя ему вслед, и с трудом водворял кобуру на место.
Заместитель командира полка по политчасти майор Алемасов, узнав об этой истории с яблоками, сказал Давину:
– Правильно сделал. Только чего же сразу мне не доложил – наказать надо Недильку.
– Не надо его наказывать, – ответил Семен.
– Как это – не надо? Он завтра опять в чей-нибудь сад заберется.
– Не заберется.
– Почему это ты уверен?
– Уверен, – твердо сказал Давин.
– Ладно, проверю, – Алемасов строго посмотрел на комсорга, – если он чего нашкодит, с тебя спрошу.
Но проверять не пришлось: на другой день с ходу пластунский полк вступил в бой.
Давин за день успел побывать в двух батальонах. В конце дня он вместе с четвертой сотней ходил в атаку на гитлеровцев, державших окраину длинного мрачного села. Вместе со всеми он бежал на крутой бугор, размахивая пистолетом и что-то крича. Пустая кобура хлопала его по коленям, кубанка чудом держалась на затылке, открыв белый лоб с прилипшими к нему тонкими прядками каштановых волос.
Окраину села взяли, но мельница на бугре за селом, серая, линялая, с перебитым крылом, осталась у противника. Оттуда всю ночь били из пулемета и автоматов.
Семен немного вздремнул в мелком подвале с цементным перекрытием – такие тут стояли почти возле каждого дома – и ночью пошел дальше вместе с сотней. Мельницу брать не стали, обошли ее и к утру врезались в оборону гитлеровцев километра на полтора. Соседи поотстали, и сотня закрепилась на фольварке, заняв круговую оборону. В стенах сараев, обращенных на запад, пробили дыры, в доме с метровыми кирпичными стенами оборудовали под бойницы узкие, со стрельчатой вершиной окна.
– Вы тут неплохо устроились, – сказал Давин командиру сотни, худому нервному капитану со злыми прищуренными глазами.
– Куда уж лучше, – ответил капитан, – как в мышеловке.
Комсорг пропустил его слова мимо ушей.
– Я, пожалуй, пойду, – Давин потер ладонями помятое, заросшее щетиной лицо. – Надо бланки листовок-«молний» взять – у вас тут ни одного нет… Обстановку узнать.
– И куда же это вы пойдете?
– Сначала в штаб полка.
Капитан свистнул. Они стояли у дверей дома. Отсюда была видна крыша той самой мельницы, которую сотня обошла ночью.
– Там еще противник, – капитан рубанул ладонью в сторону мельницы. – Там – тоже, – и он показал правее, на холмы, поросшие редким желто-зеленым кустарником. – Проводной связи у меня ни с кем нет, так что посидите лучше тут, пока соседи не подравняются. Тут безопасней.
– Возможно, – согласился Давин, – только мне все-таки надо в штаб полка. Если что нужно передать…
– Передайте привет моей бабушке, – разозлился капитан, – старушка, наверное, в раю прохлаждается. В те края вы скорей попадете, чем в штаб, только в рай вас не пустят за упрямство…
– Ладно, передам при случае, – улыбнулся Давин. – А рассердились вы все-таки зря: мне в самом деле нельзя тут засиживаться, – он поправил кобуру, козырнул капитану и пошел от дома.
– Постойте, – удержал его командир сотни. Ему стало совестно, и он мягко оказал: – Если до полка доберетесь, скажите, чтобы патронов подбросили. Пусть в батальон позвонят – у них связь, конечно, есть, – а из батальона нам доставят… Держитесь вон той лощины, она не везде простреливается.
– Спасибо, – Семен подошел, пожал капитану руку, потом быстро опустился в извилистую лощину и скрылся из вида.
Вскоре после полудня он вернулся и привел с собой троих подносчиков с патронами. Четвертого в дороге убило, и комсорг тащил его ящик.
Капитан сидел на кухне, которую он превратил в свою штаб-квартиру. Давин медленно обвел глазами комнату, покосился на черную плиту, на аккуратные полки с посудой, подумал, что, когда начнется бой, здесь будет много черепков. Вытерев рукавом бешмета пот со лба, он верхом сел на табурет и прямо взглянул на капитана, сидевшего по другую сторону большого, чисто выскобленного стола.
– Вот я и пришел, – сказал комсорг. – От бабушки привета вам не принес, а от комбата – пожалуйста, с наилучшим пожеланием. Он сказал, что к 14.00 будет северней мельницы. Очень советовал вам сбить противника с холма, что торчит перед фольварком с северо-запада. Сказал, что удивляется, почему вы этого до сих пор не сделали. Да, да, он так и сказал – удивляется и при этом упомянул вашу бабушку.
– Злопамятный вы человек, – усмехнулся капитан. – Ну да ладно, спасибо за патроны и за привет от комбата.
Через час гитлеровцы атаковали сотню. Им удалось подойти к сараю, который защищал первый взвод. Комсорг поднял пластунов и повел в контратаку.
– Бей их! – неистово кричал Давин. В руках у него на этот раз был не пистолет, а малая лопатка.
Он ощущал себя большим и сильным, и, когда на него бросился рослый немецкий солдат, Давин не уклонился от столкновения. Он видел все с удивительной отчетливостью: и окаменевшие на винтовке вытянутые руки врага, и его застывшее в страшной гримасе лицо, и широкий, с пятнами ржавчины или крови штык. С огромной, как ему показалось, силой ударил Давин лопатой по винтовке, но она почему-то лишь немного отклонилась в сторону, а лопату и его руку отбросило вверх. Штык мелькнул возле плеча комсорга, немецкий солдат по инерции пробежал мимо. И больше Давин его не видел, потому что назад не оглядывался. Прямо перед собой он увидел еще одного гитлеровца. Этот, пригнувшись, бежал на пластуна, который стоял на коленях, опираясь на карабин. По лицу казака широкой полосой текла кровь. И это все отчетливо увидел Давин и сбоку ударил гитлеровца лопатой по шее. Немецкий солдат выронил винтовку, упал на четвереньки и, быстро-быстро перебирая руками, пополз в сторону.
Давин не мог бы отдать себе отчет, сколько длилась рукопашная – пять минут или два часа. Когда атаку отбили, он не сразу пришел в себя. Возвращаясь в сарай, Давин нервно встряхивался. Ни страха, ни боли он не испытывал, только не покидало ощущение неловкости и неудобства, будто он вылез из воды и идет в непросохшей одежде.
По фольварку ударили из пушек. Все вокруг заволокло дымом и кирпичной пылью. Потом опять гитлеровцы попробовали атаковать, но их отогнали и, преследуя, сбили с холма, висевшего над фольварком.
Давин пошел навестить командира сотни. Капитан сидел прямо на полу около телефонного аппарата, не то слушал, не то ждал, уставясь неподвижным взглядом на рябую от пулевых ударов стену. Там уже не было полок с аккуратными рядами матово блестевшей посуды. Только одна пустая полка болталась на крюке, тихо покачиваясь. На полу кучами валялась битая посуда. «Так и есть, все побили», – подумал Семен, наступая на черепки. Он сел рядом с капитаном. Тот взглянул на него безразлично, помахал трубкой и сказал:
– Опять порвало, не успеешь трех слов сказать – рвется! – он еще послушал. – Молчит! – и бросил трубку, точно она обожгла ему пальцы.
В это время в комнату вошел майор Алемасов.
– Здоровеньки булы, – майор откинул носком сапога груду черепков. – Ишь, посуды набили. Держишься? – обратился он к капитану. Командир сотни встал, козырнул и ответил:
– Держусь, товарищ майор.
В это время телефонная трубка стала подавать признаки жизни. Капитан стал на одно колено и поднес ее к уху.
– А ты опять здесь, – посмотрел майор на Давина, садясь на табурет.
– Опять, – извиняющимся тоном ответил Семен.
– Как он у тебя тут комсомольскую работу ведет? – повернулся Алемасов к командиру сотни. Тот отнял трубку от уха, пожал плечами.
– Взвод в атаку он водил, а насчет комсомольской работы не скажу. Может, и вел какую – не заметил.
– Что ж это вы? – Алемасов сдвинул брови.
– Так ведь я, товарищ майор… – начал Давин.
– Ну чего оправдываешься, – улыбнулся замполит, – взвод в атаку поднять – это, брат, тоже комсомольская работа… А Недилько-то отличился, – переменил Алемасов тему разговора. – Вместе с Тагалаковым они дюжину гитлеровцев уложили. Хороший из него снайпер выйдет.
– Надо бы листовку о них написать, – сказал Давин.
– Надо, – согласился майор. – Вот и займись этим делом. Только покороче, но позабористей. К вечеру, как связь попрочней станет, мы ее во все сотни передадим по телефону.
Под вечер бой утих. Только на левом фланге по-прежнему громыхало.
– Это у Новикова, – сказал Алемасов, – они на железную дорогу выходят.
Замполит, командир сотни и комсорг лежали на сухой траве возле отбитого у гитлеровцев блиндажа, куда капитан перенес свой командный пункт. Над ними высоко в голубом светлом небе медленно плыли бело-розовые облачка, нагретая солнцем земля была теплая, ноздри щекотал тонкий запах сена.
– Эх, война-война! – вздохнул Алемасов и лег на спину, подложив руки под голову. – Как это частушка-то поется:
Побывать бы теперь дома,
Поглядеть бы на котят,
Уезжал – были слепые,
А теперь, поди, глядят…
Суровое, твердое лицо его с крупными, резкими чертами обмякло, расплылось с незнакомую Давину улыбку.
– Листовка у тебя хорошо получилась, – повернулся майор к Семену. Лицо его опять стало твердым, – Ты бы о наших комсомольцах в газету написал. Хорошую можно статейку составить. Я тебе факты дам, да и сам ты много видел.
– Написать надо, – согласился Давин. Он лежал на боку, подперев голову рукой. Другой рвал сухие травинки и покусывал их ровными белыми зубами. – Я до войны роман писал, – вдруг сказал Семен.
– Да ну? – удивился майор.
Командир сотни внимательно посмотрел на комсорга и поднял брови.
– Писал, – подтвердил комсорг. – Только ничего не вышло. Меня в сороковом году замполит с одним писателем свел, он почитал и сказал, чтобы я наплевал на этот роман и забыл про него.
– Так и сказал? – спросил капитан.
– Ну, не совсем так, повежливей. Он сказал мне – жизни ты не знаешь, и язык у тебя корявый, так, в общем, не роман, а одна фантазия.
– Так, значит, ты и бросил писать? – поинтересовался Алемасов.
– Бросил, – ответил Давин. – А мечта осталась: написать о людях, об их жизни, так, чтобы всем интересно было. Я про писателей много книг перечитал, все доискивался, как же они писали. Выходило, что все они жизнь хорошо знали, своими руками ее пощупали, испытали много. Вот Максим Горький – сколько он по России ходил, кем только не работал. А я что видел? До войны счетоводом сидел: гроссбух, дебет-кредит, вот и все мои знания…
Давин помолчал. Перевернулся на спину, глядя в высокое небо, сказал убежденно:
– Война кончится, я о войне напишу книжку. Про то, что видел, про людей, как они жизнь любили и как на смерть шли… – голос его дрогнул, он сел и посмотрел в глаза Алемасову. – Как думаете, товарищ майор, сумею написать такую книжку?
Не улыбаясь, Алемасов ответил:
– Думаю – сумеешь.
Полежали еще немного, слушая, как гремит канонада на левом фланге. Первым поднялся Алемасов.
– Пора нам, комсорг, – сказал он, – надо и у других побывать. Пойдем, что ли…
Они простились с капитаном. Командир сотни, стиснув руку Давину, пригласил:
– Заглядывайте к нам, рад буду.
– Приду, конечно, – ответил Давин, – спасибо…
Он догнал уже шагавшего вниз с холма майора и пошел с ним рядом, маленький, угловатый, в мешковатом, запачканном землей бешмете. Капитан смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за строениями фольварка.
НАШ КУРТ
Однажды утром из штабной землянки, где жил инструктор политотдела капитан Фокин, вышел высокий худой человек. По утрам уже подмораживало, а он был до пояса гол и словно не чувствовал холода: стоял, оглаживая ладонями впалый живот и ребра. Руки у него были тонкие, но мускулистые, лицо сухое, глаза выпуклые, с сумасшедшинкой, светлые волосы гладко зачесаны на затылок. Он посмотрел на неподвижные верхушки сосен, разбил носком сапога ледок на лужице и, отойдя на ровное место, начал делать зарядку. Гибкое худое тело его гнулось и резко выпрямлялось, как ивовый прут. Он широко разводил длинные руки, приседал, глубоко дышал. На лице его застыла довольная улыбка, светлые волосы рассыпались и образовали ровный пробор.
Из соседней землянки вышли разведчики майор Косенко и старший лейтенант Гунин. Оба остановились у двери. Стройный, высокий Косенко стоял, уперев кулаки в бока, маленький остроносый Гунин беспокойно крутил головой, точно принюхивался. Светловолосый человек не обратил на них внимания и продолжал приседать, подпрыгивать, размахивать руками.
– Это что за физкультурник ночевал у Фокина? – спросил Косенко.
Гунин неопределенно хмыкнул.
– Даже ты не знаешь? – удивился Косенко.
– Фокин был в политотделе армии, ночью вернулся, – ответил Гунин. – Значит, кого-то привез оттуда.
В это время вышел Фокин. Коренастый, круглолицый, заспанный, он щурился на свет и почесывал волосатую грудь. На нем была теплая нательная рубаха, а на плечи накинут меховой жилет.
– С добрым утром, – кивнул он разведчикам. Обернулся к светловолосому и сказал: – Пустое это дело – руками воздух рассекать, – нагнулся и достал из-под бревенчатого наката двухпудовую гирю с круглой ручкой, – Тебе вот чем надо заниматься, а то грудка слабая и руки, як у горобца жижка.
Фокин повел плечами и сбросил меховой жилет. Легко, играючи кинул он двухпудовик вверх, несколько раз выжал его, потом, крякнув, подбросил гирю так, что она перевернулась в воздухе, и поймал ее за ручку.
– О-о, – восхищенно протянул незнакомец, – сильный человек!
– Пробуй, – Фокин бросил гирю на землю. Светловолосый поднял ее, выбросил вверх, спустил на плечо и попробовал выжать. Худое тело его напряглось, на шее вздулась голубая вена. Гиря оторвалась от плеча сантиметров на десять, а дальше не пошла. Он бросил двухпудовик и дернул худыми плечами.
– Не получился.
Майор Косенко и старший лейтенант Гунин подошли поближе.
– Знакомьтесь, – сказал Фокин, – немецкий товарищ, будем с ним разлагать противника.
– Курт, – коротко представился светловолосый и пожал разведчикам руки. Когда он отошел к умывальнику, Гунин оказал, глянув ему вслед:
– Ишь ты, нашелся товарищ… А ты не боишься, что он тебя ночью пристукнет или на ту сторону утащит? – повернулся он к Фокину.
– Не утащит, я тяжелый, – ответил Фокин. И уже серьезно, в упор смотря на Гунина, отчеканил: – Зря болтаешь, старшой. Курт парень надежный.
Днем Фокин и Курт отдыхали в землянке, а по ночам лазали по переднему краю, выбирая удобные места и организуя через усилитель передачи для немецких солдат. Когда выдавалось у них свободное время, в землянку собирались штабные офицеры – любопытно было посмотреть на Курта. До того живых немцев им случалось близко видеть только пленными или в бою, когда дело доходило до рукопашной. В обоих случаях знакомство было кратковременным и к обстоятельной беседе не располагало.
Курт прилично говорил по-русски, но о себе рассказывать не любил, и офицеры штаба знали о нем немного, то, что сообщил им Фокин. Портовый служащий из Гамбурга, коммунист. Курт и в армии занимался антифашистской пропагандой, но в первый год войны эта пропаганда среди немецких солдат успехом не пользовалась. На Курта донесли начальству, ему пришлось бежать, и он перешел линию фронта. Курт предложил свои услуги нашему командованию и вот уже два года ездит по фронтам, помогает инструкторам по работе среди войск противника, обращается через линию фронта к своим соотечественникам, раскрывая им глаза на истинное положение вещей.
Как-то вечером Косенко и Гунин зашли в землянку Фокина. Капитан сидел за дощатым столом и водил карандашом по карте. Курт лежал на топчане, застеленном солдатским одеялом, сосал сигарету и пускал дым к пузатой электролампочке. Пластуны давно стояли на одном месте, и в штабных землянках появилось электричество, на стенах завелись фанерные полочки, на которых примостились бритвенные приборы, какие-то стаканчики, пепельницы, стопки книг и даже фотографии в рамочках из ракушек. Удивительно домовитое существо человек, даже если он военный. Придет в пустую землянку, бросит на доски соломки, прикроет ее плащ-палаткой, подышит на стекло в крохотном оконце, и, смотришь, землянка приобрела жилой вид. Ну, а как поживут люди тут неделю-другую, обрастает жилье разными крупными и мелкими вещами. И откуда что берется: вроде и багажа ни у кого с собой не было, и жилья на десятки верст вокруг нет, а все равно разная утварь прибывает и прибывает. И когда наступает время уходить на новое место, приходится бросать кучу разных разностей.
Косенко оглядел стены землянки и оказал:
– Обрастаешь, Фокин, только еще ковриков на стенах не хватает.
– Ты, наверное, не видел, как обрастают. К нашему кадровику сходи, у того не землянка – комиссионный магазин. А вообще-то душа уюта просит, так вот хоть полочку по-домашнему повесишь, поглядишь на нее и вроде легче.
– Сам виноват, – усмехнулся Косенко, – плохо разлагаешь противника.
– Вообще это пустое дело – немцев агитировать, – вставил Гунин, – они только одну агитацию понимают, вот, – хлопнул ладонью по кобуре.
– Нет, нет, – горячо возразил Курт, – немецкий солдат делает перемены в своей голова. Пленный кричит: «Гитлер капут!».
– Пленные и раньше кричали: «Гитлер капут!», – заметил Гунин.
Курт энергично покрутил головой, так что распались на обе стороны его светлые волосы.
– Раньше кричал не имейт верил, – проговорил он, – сейчас верил. Большой масса народ имел сле-по-та, – Курт сказал последнее слово раздельно и ткнул указательными пальцами обеих рук себе в глаза. – Сейчас глаза открывайт.
– Чепуха, – рубанул Гунин ладонью воздух. – Мы перед войной читали – в Германии пролетариат организованный. А где он, тот пролетариат? Четвертый год война идет, а они Гитлеру служат. Говорили нам: культурная нация. А что они в России делали? Жгли, вешали, насиловали. Фокин их агитировать вздумал. Как же, сагитируешь их. Вот мы придем в ваш проклятый фатерлянд, раскидаем его к чертовой матери, ото будет агитация – наглядная…
– Нет, нет, нет, – Курт вскочил и даже ногой притопнул. – Гитлер – к чертовой матери, фатерлянд – нет, народ – нет, – глаза у него сверкали, он быстро посмотрел на Косенко, на Фокина, ударил себя в грудь кулаком и крикнул: – Нельзя фатерлянд к чертовой матери! Зачем я жить тогда!
Фокин подошел к нему и, положив руку на плечо, усадил на топчан.
– Ты его не слушай, – сказал Фокин, – у него у самого слепота куриная, понимаешь?
Гунин обиделся и ушел. Потом, когда вернулся от Фокина и майор Косенко, он опять затеял этот разговор.
– Не верю, – размахивал он руками. – Курту этому не верю, все они одним миром мазаны.
– Кто «они»? – спросил Косенко.
– Немцы. Нужда заставила того Курта – он к нам перебежал, случай подвернется – перебежит от нас. Не верю я…
– Заткнись, – строго сказал Косенко. – У тебя и в самом деле что-то вроде куриной слепоты. А я Курту верю, – и пристукнул кулаком по столу. Скуластое лицо его побледнело, на щеках стали заметны мелкие оспины: майор сердился. Гунин взглянул на него и молча полез на свой топчан.
Несколько дней спустя Фокин и Курт отправились на левый фланг соединения. Там линия траншей была сложная, и местами окопы сходились так близко, что по вечерам слышно было, как у немцев играли на губной гармошке. Фокин не стал даже подгонять туда машину с усилителем. Взяли простой рупор и отправились в окопы.
Вечер выдался тихий. Днем прошел маленький дождь, а как стало смеркаться, тучи поредели, расползлись. Небо, черное, беззвездное, словно приблизилось к земле. И точно прорезь, через которую можно заглянуть в иной, ослепительно яркий мир, висел над окопами чистый круторогий месяц.
Фокин и Курт устроились неподалеку от блиндажа, чтобы можно было укрыться на случай обстрела: гитлеровцы обычно сильно нервничали во время передач, открывали огонь изо всех видов оружия, вплоть до полковой артиллерии. Курт прилаживал на бруствере рупор. Фокин поднялся на ступеньку в окопной стене, присматривался и слушал. Подошли Косенко и Гунин. Они уже вторую ночь проводили в траншеях – вели наблюдение, выбирали место для ночного поиска.
– Привет агитаторам и пропагандистам, – негромко сказал Косенко. – Не помешаем?
– Только дорогу к блиндажу попрочней запомни, – ответил Фокин, – а то как начнут нас благословлять, не ровен час, заблудишься.
– Ничего, мы привычные, еще и вам дорогу покажем, – отпарировал Косенко.
У Курта все было готово, но он медлил.
– Давай, – скомандовал Фокин. Он спрыгнул в окоп и стал с ним рядом.
– Ахтунг, ахтунг… – голос Курта, усиленный рупором, показался незнакомым, и, хотя все в окопе ждали начала передачи, первые слова прозвучали неожиданно.
Курт говорил быстро, и Косенко с Гуниным понимали далеко не все из его речи. Но смысл они улавливали. Курт рассказал о положении на фронтах, потом сказал, что немцам пора одуматься и поворачивать оружие против Гитлера и его приспешников. Он сделал паузу, и с той стороны без рупора, но очень внятно кто-то спросил по-немецки:
– Кто это говорит?
Курт назвал себя и добавил, что говорит он от имени всех честных немцев, которые, он уверен в этом, думают так же.
– Ферретер [1]1
Изменник.
[Закрыть], – раздался тот же голос из немецких окопов.
Курт поперхнулся. Его будто что-то ударило по голове, и он на мгновение растерялся.
– Доннер веттер, – вдруг выругался он, ударом кулака отбросил рупор и, прежде чем люди в траншее успели сообразить, что он собирается делать, выскочил на бруствер.
– Я не предатель! – крикнул он по-немецки, грозя кулаком в сторону вражеских окопов. – Гитлер – предатель, – и пошел к немецким траншеям.
Фокин стал на ступеньку, приподнялся над бруствером и крикнул:
– Назад! Курт, назад!
Но тот даже не оглянулся. Он шел к проволочному заграждению, которое было совсем близко от немецких траншей. Кое-где, ближе к нашим окопам, лежала спираль Бруно, в ней были широкие проходы, и Курт угадал как раз один из них и прошел, не споткнувшись.
– Уйдет, – зло сказал Гунин и вытащил пистолет.
– Подожди, – остановил его Фокин. – Никуда он не уйдет. Надо предупредить наших по траншее, чтобы не стреляли.










