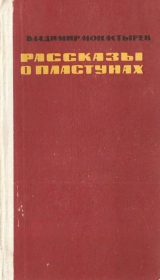
Текст книги "Рассказы о пластунах"
Автор книги: Владимир Монастырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
ТРИДЦАТЬ ТРИ ЖИЛЕТА
По штатному расписанию пластунскому соединению полагалась многотиражная солдатская газета. И она была, выходила три раза в неделю на двух полосах малого формата. Делали ее работники редакции и типографии, которые передвигались в двух специальных машинах, именовавшихся в просторечии «лайбами», ибо они были тяжелы и неуклюжи на вид, что не мешало им, однако, успевать за дивизией по самым безнадежным дорогам. Тут, конечно, самое бы время воздать должное шоферам и прежде всего замечательному водителю Ладо Когуашвили, но – рассказ не о том. О водителях как-нибудь в другой раз, а сейчас, как обещано в заголовке, – о жилетах.
В начале сорок пятого года редакция солдатской газеты оказалась без литработника. И вот в один прекрасный день перед редакторские очи явился и, как полагается, представился невысокий белобрысый лейтенант. У него была фамилия, но ее как-то сразу все забыли и стали звать лейтенанта по имени – Николаем.
Николай был шустрый и разбитной малый. Два года он проходил в порученцах, что наложило отпечаток на его внешний и внутренний облик. Гимнастерочку он носил коротенькую и складочки под ремнем ловко сгонял назад, в петушиный хвостик, сапоги чистил до слепящего блеска и сдвигал их в гармошечку. А лицо у него было серое, плоское, с широко расставленными водянистыми глазами, которыми он смотрел на мир уверенно, даже нагловато.
Проницательный и лукавый Петро Дмитрусев, печатник, знавший все о всех в редакции и типографии, составил себе представление о новом литработнике с первого взгляда.
– Миша, – сказал он секретарю газеты, – ты будешь иметь с ним веселую жизнь.
Давние приятели, Дмитрусев и секретарь редакции, в обычное время обращались друг к другу по имени и на «ты». Когда с газетой была «запарка» (а это случалось нередко) и Дмитрусева приходилось «кидать» на помощь наборщикам, секретарь переходил на официальный тон. Тут уж Петро превращался в ефрейтора Дмитрусева, а Миша становился товарищем лейтенантом.
Поддержав шилом и верстаткой наборщиков, отстучав на своей «американке» положенное число экземпляров газеты, Дмитрусев сворачивал цигарку и подсаживался к секретарю.
– Вот я так иногда подумаю, товарищ лейтенант, – начинал он, поглядывая на собеседника хитрыми глазками.
– Обижаешься? – с нотками раскаяния в голосе спрашивал секретарь.
– Да нет, – пожимал плечами Дмитрусев, – кто бы, может, и обиделся, а я-то знаю вас, товарищ лейтенант. Совести у вас нет и взять негде…
– Ну, завел, – хмурился Миша. – Скажешь старшине, чтобы сегодня тебя в наряд не ставили.
На этом дипломатия обычно кончалась, и Дмитрусев распускал тонкие губы в улыбку: стоять в наряде он любил еще меньше, чем помогать наборщикам.
Когда печатник высказался насчет новичка, секретарь оборвал его, сказав холодно и назидательно:
– Во-первых, товарищ Дмитрусев, вы очень скоры на суждения, во-вторых, много себе позволяете.
Дмитрусев не обиделся. Ухмыльнулся, сдвинул кубанку на висок, вывернул ладони, стал похож на нового лейтенанта.
– Ладно, ладно, – сказал секретарь и не удержался от улыбки.
Предсказания проницательного печатника вскорости начали сбываться.
В газетном деле Николай смыслил немного, писал неряшливо и не очень грамотно. Заметки его приходилось переделывать и сильно править. Занятие это вовсе неинтересное, утомительное и даже человеку спокойному и уравновешенному может надолго испортить настроение. Миша не отличался ни спокойствием, ни уравновешенностью. Поначалу он, правда, сдерживался и ограничивал себя в смысле энергичных выражений. А новичок, увидев свою фамилию на газетном листе, решил, что он вполне зрелый журналист и на замечания секретаря редакции может чихать. Тем более, что принадлежал Николай к той категории людей, которые после общения с генералами лейтенантов уже ни во что не ставят.
– Вот у тебя написано, – ледяным голосом читал Миша, – «Прочитанную лекцию на семинаре агитаторы слушали с неослабеваемым интересом…»
– Ну, и что? – вопрошал Николай.
– А то, что так писать нельзя.
– Почему?
– Потому, что это безграмотно.
– Например?
– То, что я прочел, и есть пример, – кипятился Миша, – какой еще, к дьяволу, нужен пример.
Он объяснял, что надо писать «с неослабевающим», а не «с неослабеваемым», что говорить нужно «лекцию, прочитанную на семинаре», а не «прочитанную лекцию на семинаре». Николай слушал со скучающим видом, полагая, что секретарь к нему придирается.
Миша накалялся.
– А это что такое? – он сверлил своими черными глазами злополучного литработника. – «Снайперы залегают на нейтральной полосе на заранее подготовленных позициях». За-ле-гают! Снайперы – это тебе что, полезные ископаемые? Уголь, никель, железная руда?
– Ну, а как бы ты написал? – снисходительно спрашивал литработник.
– Как бы я написал! – взвивался Миша. – Да уж не написал бы про снайперов, что они «залегают».
– А как же все-таки?
Миша, кипя от негодования, объяснял.
– Так то же будет длинней, – невозмутимо возражал Николай. – Сам же говоришь – надо писать короче.
Секретарь не выдерживал и пулей вылетал на свежий воздух. Николай собирал листки со своими заметками и шел к редактору. Тот считал, что молодому литсотруднику надо всемерно помогать, и молча правил написанное Николаем. Правка состояла в том, что редактор аккуратно зачеркивал строку за строкой и своими словами излагал то, что хотел сказать литсотрудник. Потом редактор нес листки секретарю и все так же безмолвно бросал ему на стол. Это надо было понимать следующим образом: «Черт вас подери, неужели сами не можете справиться с этой пустяковой работой?!»
Однажды вездесущий Дмитрусев подошел к секретарю редакции, наклонился с видом заговорщика и свистящим шепотом произнес:
– Николай ведет дневник.
– Да ну? – удивился Миша.
– Точно.
– А ты откуда знаешь?
– Он его забыл в печатной машине, там сейчас вся наша братия – вслух читают.
Миша пошел в «печатную машину», то есть в автобус, где стояла эта самая машина.
Расположившись с максимальными удобствами, в машине сидели шоферы и наборщики, один из них вслух читал: «Когда окончится война, я поеду к себе домой в Архангельск. Приеду и сразу домой не пойду, а пойду в парикмахерскую, где завьюсь, и, таким образом, буду курчавым…»
– Что это такое? – строго спросил Миша.
– Мечты идиота, – определил Дмитрусев.
Секретарь протянул руку за дневником.
– Мы еще немножко почитаем, – попросил один из наборщиков, – очень смешно.
– Нечего, – оборвал секретарь. – Чужие дневники без разрешения читать нехорошо. Неприлично.
И отобрал дневник – пухлую тетрадь в клеенчатом переплете.
Вернувшись к своему столу, секретарь повертел тетрадку в руках, полистал ее. Не удержался от соблазна и почитал некоторые записи. Все они были нелепы и подходили под определение, данное Дмитрусевым. Миша откинул дневник на угол стола.
Когда Николай вернулся из части, куда ходил за материалом для газеты, секретарь позвал его и, кивнув на тетрадку, сказал:
– Забери свои дневники.
– Кто разрешил? – вскипел лейтенант. – Какое ты имеешь право?
– Право – категория сложная, – ответил секретарь. Он наслаждался волнением и гневом Николая. – Если вы и впредь будете раскидывать личные вещи по машинам и отвлекать своими дневниками наборщиков от работы, у меня найдутся права, чтобы призвать вас к порядку.
Сказано это было с ледяным спокойствием и предельно вежливо – на «вы». Потрясенный этой вежливостью, Николай не нашелся с ответом, забрал тетрадку и поспешил уйти.
Весной пластунские батальоны уже вели бои за Одером. Редакция некоторое время стояла в большом угрюмом селе неподалеку от города Леопшютца. Город был безлюден, в нем все время что-то горело.
Возвращаясь из частей в редакцию, Николай задерживался в Леопшютце и добывал какие-нибудь трофеи. Один раз он подсел к секретарю, огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, достал из кармана сложенный вчетверо лист плотной бумаги. Развернул и, не выпуская из рук, показал Мише.
– Ну и что? – спросил Миша.
– Будто не интересуешься, – усмехнулся лейтенант. Тусклые глаза его масляно поблескивали.
– Из книги вырвал? – в голосе Миши была скорбь.
– Ну, вырвал.
– Зря книгу испортил. Это – Рубенс, «Персей и Андромеда». Оригинал висит в Ленинградском Эрмитаже. Для всеобщего обозрения.
– Ну да? – недоверчиво произнес Николай.
– Сам видел. – Миша вздохнул и отвернулся. – Картинку эту можешь повесить над своей кроватью. Я возражать не буду.
– Не купишь, не дурней тебя, – Николай свернул репродукцию и положил в карман.
Миша подошел к окну. Дом принадлежал, видимо, зажиточному хозяину. На большом дворе добротные хлев и конюшня, стены дома непомерной толщины, окна, как бойницы. В комнатах пузатая мебель, со стен топорщат прусские усы несколько поколений сельских богатеев, коренастых, тупых, жестоких.
Миша несколько раз пытался открыть окно во двор и все безрезультатно. Сейчас он сделал еще одну попытку. То ли злости у него прибавилось, то ли в комнате была очень уж душно и хмуро, только на этот раз рама с треском распахнулась и в глаза ударил слепящий блеск весенних луж, а в горле запершило от весеннего воздуха, от острой смеси запахов тающего снега, навоза, парующей земли.
Раздражение и злость на литсотрудника прошли у Миши.
– Николай, – позвал он, – пойди-ка сюда.
Николай подошел.
– Посмотри, – пригласил Миша, – какая прелесть. Весна!
Лейтенант выглянул в окно, сморщил нос.
– Грязища во дворе, – сказал он, – сапоги что чистишь, что не чистишь – одинаково.
Несколько дней спустя Николай снова отправился в батальоны и вернулся с громоздким чемоданом. Добрую часть пути он тащил ношу на себе, взмок и ввалился в комнату совершенно измочаленный. Не раздеваясь, упал на кровать, полежал минут пятнадцать, раскинув руки, потом как встрепанный вскочил и принялся за чемодан.
Секретарь молча наблюдал за ним из-за своего стола.
Николай открыл чемодан и один за другим стал вынимать из него жилетки. Каждую он встряхивал, распяливал на руках и, оглядев с одной и с другой стороны, аккуратно клал на кровать. При этом считал вслух:
– Одна… две… три…
Жилетки были разноцветные – белые, черные, малиновые, цвета морской воды и яичного желтка, сиреневые и розовые, в синюю крапинку. Чемодан жилетов, тридцать три штуки.
Положив на кровать тридцать третий жилет, Николай победно посмотрел на секретаря.
– Видал?
– Как во сне, – сказал Миша. – На кой черт тебе столько жилеток?
– Зашью в посылку и отправлю домой, – ответил Николай. – Кончится война, вернусь в Архангельск и каждый день буду надевать новую жилетку.
– Завьешься и будешь, таким образом, курчавым, – добавил Миша.
– Ну и что? – Николай снисходительно улыбался, он был настроен добродушно.
– Балда ты, вот что, – Миша выбрался из-за стола. – Кретин и мерзавец…
Миша накалялся с устрашающей быстротой. Сжав кулаки, он двинулся на литработника.
– Но-но, – почему-то шепотом произнес Николай, – не очень-то.
– Люди на передовой кровью умываются, а он жилетки собирает, – Миша медленно шел на Николая, тот медленно пятился. – Тридцать три штуки…
Секретарь сделал широкий шаг и оказался возле груды жилетов, схватил их в охапку и бросился к окну. Прежде чем Николай сообразил, что же он собирается делать, Миша ударом ноги распахнул окно и швырнул жилеты во двор. Ветер подхватил их, они вспорхнули птицами и беззвучно разлетелись по навозным лужам.
– Что делаешь, что делаешь?! – Николай обрел наконец дар речи. Он кинулся на секретаря с явным намерением стереть его в порошок. Но – в эту минуту в комнате появился редактор, и лейтенант замер на полпути.
Редактор подошел к кровати, двумя пальцами поднял два жилета, которые не попали в руки секретаря, пронес их до окна и кинул во двор. Все это он проделал молча. Молча же дважды ударил ладонь о ладонь, отряхивая жилетный прах, и вышел.
Николай поник и больше не кидался на секретаря. Потухшим взором смотрел он через окно во двор. А по двору в это время с деловитым видом расхаживал Петро Дмитрусев. Он мог бы и обойти в разных местах лежавшие жилеты, но не обходил, безжалостно попирая грязными сапогами. И каждый раз, когда сапог печатника опускался на жилет, губы Николая вздрагивали, и казалось, вот-вот издаст он скорбный и негодующий вопль.
После этой истории Николай оставался в редакции не очень долго. О нем иногда потом вспоминали, собираясь в типографских машинах, пожалуй, не столько о нем, сколько о цветных жилетках, которым так и не суждено было поразить воображение архангелогородцев.
ТОЛЬКО НАЧАЛО
1
Школу Василий Прохоров окончил, как шутя говорили курсанты, по первому разряду – ему присвоили звание сержанта. Но с назначением его постигла неудача, так, по крайней мере, полагал сам Прохоров. Назначили его командиром отделения в карантин.
Василий позавидовал товарищам, идущим на отделения в роты, – там они будут работать с солдатами, а в карантине кто? Младенцы, которых надо учить, как заправлять гимнастерку и навертывать портянки.
С тяжелым чувством пришел Прохоров последний раз в школу, чтобы забрать из тумбочки свои вещи и перенести их на новое место. В казарме никого не было, только дневальный, еще не аттестованный курсант из третьего взвода, стоял у дверей под щитом со школьной документацией. Он козырнул Василию и покосился на его погоны. Прохоров тоже отдал честь и не удержался от довольной улыбки. Чтобы дневальный не заметил ее, сержант быстро прошел в спальню. Тут он, согнав с лица улыбку, тихо постоял у своей койки, медленно оглядел комнату, в которой не только каждый плакат на стене, но и каждая трещина в штукатурке были знакомы. Потом открыл тумбочку, достал стопку книг, мыльницу, зубную щетку и порошок. Завернув все это в принесенную с собой газету, Прохоров еще раз оглядел комнату, привычную, обжитую, ставшую родной за год жизни в ней, и ему стало жаль, что кончилось его учение в школе, что он уже не придет сюда после занятий. Вспомнил Василий и о своем неудачном назначении, помрачнел, вздохнул и пошел к выходу.
На лестничной площадке, перед зеркалом, Прохоров задержался – скользнул взглядом по аккуратной шинели: она сидела, как влитая, без единой складочки, с удовольствием посмотрел на новенькие погоны с четкими белыми лычками, потом вгляделся в лицо. Худощавое, смуглое, с дубленной ветрами и солнцем кожей, оно было куда лучше, чем год назад. Тогда оно удручало Василия своей округлостью, неопределенностью и девичьим румянцем. Старший брат дома называл его «светилом», намекая на форму и цвет физиономии. Посмотрел бы он теперь! Только вот во взгляде суровости маловато. Прохоров сдвинул брови, и между ними легла прямая, резкая складочка. «Так лучше», – решил он.
Внизу хлопнула дверь. Сержант поспешно отвернулся от зеркала и сбежал по лестнице к выходу.
Карантин занимал первый этаж в длинной, покрытой розовой штукатуркой казарме. В два ряда, выровненные по шнурку, стояли в ней двухэтажные койки. Часть их была застелена и заправлена, а часть – десятка два – еще стояла без белья. Старшина Звягин указал Прохорову место на крайней из незаправленных коек.
– Тут будет ваше отделение, – показал он, – в шестнадцать ноль-ноль ведем людей в баню. Помоем, обмундируем и – сюда. До шестнадцати вы свободны.
У старшины было усталое и недовольное лицо, он озабоченно потирал ладонью свой тяжелый, с глубокой ямкой подбородок. Василий подумал, что старшина тоже тяготится своим назначением в карантин, и сказал ему:
– Не повезло нам, товарищ старшина, придется новичкам носы утирать.
Звягин из-под густых рыжих бровей посмотрел на Василия колючими глазами.
– Службу служить, товарищ сержант, – резко ответил он, – это вам не в очко играть: повезло – не повезло. Где приказано, там и надо исполнять обязанности. А носы утирать – дело не зазорное, задирать их не надо.
Повернулся круто и вышел в коридор, оставив Прохорова смущенным и растерянным.
2
Красные, распаренные, скользя и балансируя на деревянных решетках, положенных вместо дорожек, выходили в предбанник новобранцы. В углу, отгороженном лавками с высокими спинками, над ворохом белья стоял краснолицый потный сержант-каптенармус. Он выдавал помывшимся новичкам кальсоны с длинными завязками и нательные рубахи. На рубахах тоже не было пуговиц – у горловины болтались насмерть пришитые тесемки.
– Ото получай казацьку справу, – говорил каптенармус, размахивая перед очередным новобранцем парой белья.
– Почему казацкую? – недоумевал молодой солдат.
– А потому, – отвечал каптенармус, – что у казаков на всей форме ни одной пуговицы не полагается, все на крючках да на очкурах…
– Это на чем же?
– На очкурах, говорю. Ну, на шнурках, значит… Давай следующий…
Старшина Звягин неторопливо ходил меж лавок, смотрел, как новички обуваются, учил накручивать портянку, чтобы не потерлась нога, показывал, что надевать сначала, а что потом. Глядя на него, и Прохоров стал помогать молодым солдатам одеваться. В проходе, неподалеку от каптенармуса, он увидел солдата в нижнем белье и не удержался от улыбки. Новобранец был худ и высок, а белье ему выдали не по росту – рукава по локоть, кальсоны по колено. Он стоял и растерянно оглядывал себя, пытался согнуть руки в локтях, они не сгибались.
– Как фамилия? – подходя к нему, спросил сержант.
– Мягких Степан.
– Надо заменить белье, не годится оно вам.
Мягких поморгал бесцветными ресницами и развел руками:
– Я просил побольше, а он не дает, – новобранец кивнул в сторону каптенармуса.
Прохоров прошел вместе с Мягких к каптенармусу.
– Надо заменить ему белье, – сказал он краснолицему сержанту. Тот поднял глаза, опять опустил их и ответил:
– На всех по размеру не наберешь.
– Надо заменить, поищите, – настойчиво повторил Прохоров.
Каптенармус выпрямился, посмотрел на Мягких, почесал затылок и обеими руками полез в ворох белья. Покопался в нем, достал новые кальсоны и рубаху.
– Нате, большего размера нету.
Новая пара белья пришлась Степану почти впору.
– Теперь хорошо, – солидно заметил сержант. Сейчас он представился себе довольно важным и нужным тут человеком, покровителем этих неумелых новобранцев, которые сами еще ничего не умеют, и уже с удовольствием помогал им, давал наставления.
Наконец все помылись, оделись и вышли на улицу. Ожидая команды, курили, разглядывали друг друга, поворачивая, похлопывая по новым шинелям.
Прохоров подал команду, солдаты выстроились в две шеренги. Сержант оглядел их и поморщился. Заправка у всех никуда не годилась: шинели под ремнем собирались складками, топорщились на животе. Вид у новичков был потерянный и жалкий, хотя они старались держаться молодцами и физиономии у них расплывались в улыбки.
– Заправиться, – приказал сержант и, пропустив большой и указательный пальцы обеих рук под ремень, лихо провел от пряжки до хлястика.
Новобранцы неумело повторили показанное движение. Прохоров заметил, что стоявший рядом с Мягких смуглый, плечистый солдат сделал это с большей сноровкой, чем другие, да и выглядел он лучше остальных. Особенно заметна была его подтянутость рядом с длинным сутулым Мягких, на котором шинель болталась, как на вешалке.
Из бани вышел старшина Звягин, остановился на квадратной площадке у порога и оглядел строй. Прохоров подал команду «смирно».
– Вольно, – разрешил Звягин. Он покашлял в кулак, заложил руки за спину и сказал:
– Теперь вы уже солдаты. Конечно, присягу вы еще не принимали, это раз, – старшина вытянул вперед свою большую, шершавую ладонь и загнул на ней мизинец. – И оружия у вас еще нет – два, – он загнул другой палец, – опять же уставов вы не знаете – три… – Звягин подержал перед собой ладонь с тремя загнутыми пальцами, потом разжал их и потряс ладонью, словно ребром ее мелко рубил что-то. – Однако вы уже надели солдатскую форму и должны помнить об этом и не забывать… И надо беречь эту форму, чтобы не было ей раньше времени износу или какой порчи.
Звягин посмотрел на Прохорова и закончил:
– Все, ведите.
Сержант перестроил солдат.
– А ну, с места песню, – крикнул старшина.
– Взво-о-д, – протянул Прохоров. Взвода перед ним не было, но «отделение» звучало бы несолидно. Старшина промолчал, и сержант еще раз протяжно скомандовал: «Взво-о-д, с места песню, шаго-о-м арш!»
Новобранцы недружно тронулись с места, не сразу попали в ногу… Кто-то негромко затянул песню про очи карие, ее подхватили вразнобой.
Старшина сбежал по ступенькам, догнал строй и крикнул:
– Отставить песню… Срамитесь только, ведь вы же теперь в форме, понимать надо…
Прохоров опустил голову: ему от стыда за то, что он ведет такое горе-подразделение, хотелось провалиться сквозь землю.
3
Если бы кто-нибудь раньше сказал Прохорову, что взрослый человек может не уметь ходить, он бы не поверил. А теперь сам убедился: Степан Мягких не умел ходить. Он махал обеими руками сразу в одном направлении – то вперед, то назад, при этом сутулился, в такт шагам кивал головой, постоянно терял ногу и портил весь строй.
– Ты, Мягких, идешь, будто воз везешь, – смеялся над ним Барабин, тот самый смуглый, плечистый солдат, который в строю возле бани стоял рядом со Степаном.
Сержант занимался с Мягких отдельно: отойдет на плацу в сторону и ходит с ним рядом, следя, чтобы солдат руками правильно махал, не гнулся. Степан смущался, потел, краснел, сбивался. Прохорову эти занятия тоже не доставляли удовольствия, он часто оглядывался по сторонам: не видит ли его кто из старослужащих. Походив немного рядом с солдатом, сержант останавливался, а тот, слушая счет, шагал дальше. Но стоило только Степану остаться одному, как он начинал по-прежнему махать руками – сразу обеими в одном направлении.
Самым шустрым и разбитным среди новичков был Виктор Барабин. И шинель на нем сидела аккуратно, и вид он имел бравый, усваивал и запоминал все быстро, с одного раза.
«На этого можно опереться», – подумал сержант и поручил ему заниматься с Мягких. И не ошибся. У Степана с Барабиным дело шло хорошо. Барабин все умел делать весело, с шуточкой, со смешком, и Мягких при нем не так стеснялся. Один раз Прохоров услышал, как Барабин сказал Степану:
– Ты головой мотать брось, а то на жеребца очень смахиваешь. Вот командир полка увидит, как ты ходишь, и в артиллерию тебя сдаст – пушку таскать вместо лошади…
Говорил Барабин серьезно, без улыбки. Степан посмотрел на него своими доверчивыми водянистыми глазами и улыбнулся. Но Виктор сохранил каменное лицо, и улыбка у Мягких погасла.
– Врешь ты, – неуверенно возразил он.
Барабин пожал плечами.
Прохорову было смешно, однако он подавил в себе желание засмеяться и, отозвав Барабина, строго сказал ему:
– Вам поручено заниматься с товарищем, а вы смеетесь над ним: нехорошо.
– Так то в шутку, – улыбнулся Барабин, – он же понимает.
Мягких действительно хотя и не сразу, но понимал шутки своего товарища и не обижался на него. Он первый и громче всех смеялся, когда Виктор в лицах рассказывал, как Степан Мягких, зайдя в канцелярию карантина, докладывал начальнику о своем прибытии, запутался в званиях, назвал майора «товарищ лейтенант-майор», покраснел, взмок и, наконец, безнадежным тоном сказал:
– Ну, значит, пришел я…
Рассказывал Барабин уморительно, и слушатели покатывались со смеху. Даже Прохоров, услышав этот рассказ, не удержался от смеха, хотя у него с этой историей были связаны воспоминания отнюдь не веселые: начальник карантина сделал тогда ему внушение за то, что у него подчиненные не умеют обращаться к старшим. А Звягин этак ядовито заметил:
– Непорядок у нас в отделении, товарищ Прохоров. Выходит, мне тоже придется кое-кому носы утирать.
4
Отделение занималось возле казармы на площадке, обсаженной подстриженными кустами. Прохорова вызвали в штаб, и он оставил за себя Барабина. Возвратясь, сержант остановился за кустами, наблюдая, что делают его подчиненные. День был солнечный, теплый, солдаты сидели и лежали прямо на желтоватой траве. Посредине, по-турецки скрестив ноги, устроился Виктор Барабин.
– А я у цыган родился, под телегой, – доносился его голос, – оттого у меня и характер веселый… – он добавил еще что-то негромко, и солдаты засмеялись.
Барабин выждал, когда наступила тишина, встал и сказал:
– Посмеялись – и будет. Заниматься надо. Поднимайся.
Все встали. Только солдат Ващенко остался сидеть. Он лениво покусывал сухую травинку и снизу вверх смотрел на Барабина.
– Подождем, – сказал он, – погода больно хорошая.
– Вставай, вставай, нечего прохлаждаться, – перебил его Барабин, – оставили меня за командира, значит, слушай, чего я буду командовать.
– А ты дело командуй, – Ващенко лениво поднялся. – Не выслуживайся, все равно никто не видит…
Барабин сжал кулаки и шагнул к Ващенко.
– Повтори, что ты сказал, – он сделал еще шаг.
Ващенко попятился.
– Но, но, – поднял он обе ладони, – тебя за командира поставили, а ты драться.
Прохоров вышел из-за кустов. Солдаты, увидев его, быстро построились. Барабин доложил, что в отделении все в порядке. Сержант внимательно посмотрел ему в лицо. Тот выдержал его взгляд и не опустил глаз. Прохоров сделал вид, будто ничего не заметил, но все время, пока шли занятия, думал, кто же из солдат больше виноват – Ващенко или Барабин – и как должен поступить он, командир отделения.
Вечером старшина объявил, что в заводском клубе – у шефов – будет концерт приезжих артистов, пойдут – по одному человеку из отделения.
В другое время сержант отправил бы на концерт Барабина, но сегодня делать этого не следовало. Прохоров так и не решил, как ему быть: наказывать Барабина за то, что он днем солгал командиру, вроде уже поздно, упущено время, а поощрять тем более нельзя. Сержант решил послать на концерт Степана Мягких – ведет он себя хорошо, в строевой подготовке делает явные успехи. Пусть идет.
Прохоров долго напутствовал солдата, оглядывая его со всех сторон, наконец отпустил.
– Придете, доложите, как у вас там, все ли будет в порядке, – сказал сержант на прощанье.
Вернулся Мягких незадолго до отбоя, возбужденный, довольный. Он вытянулся перед сержантом и, не выдержав, широко улыбнулся, но тотчас овладел собой и громко стал докладывать, что замечаний ему не было, что шли домой они с песнями и водивший их офицер всем объявил за пение благодарность.
Сначала руки Степана были плотно прижаты к бедрам, но потом ладони словно отклеились от шаровар и стали описывать замысловатые вензеля.
– Не размахивайте руками, – строго заметил Прохоров.
Мягких на полуслове оборвал свой затянувшийся рапорт, остатки улыбки сошли с его лица, глаза потускнели.
– Все? – спросил сержант.
– Все, – уныло ответил солдат и отвел глаза в сторону.
– Идите готовьтесь к вечерней поверке.
«Обиделся», – подумал Прохоров, глядя вслед Мягких, который медленно шел к своей койке, опустив голову, покачивая опущенными, как плети, руками – сразу обеими в одном направлении.
5
Когда солдаты улеглись, сержант проверил, как они сложили обмундирование, и тоже лег, но сон не шел к нему. Он смотрел в окно, на черную голую ветку акации, чуть вздрагивающую под ветром, и вспомнил первые месяцы своей солдатской службы.
Вот он с Мишей Асатурьяном идет по раскисшей от осенних дождей пахоте. Густой чернозем громадными комьями налипает на сапоги, и они становятся такими тяжелыми, что впору их волочить за собой, не поднимая. Время от времени Василий приподнимает то одну, то другую ногу, отчаянно трясет ею, пытаясь сбросить грузные комья. Но это не так просто сделать: сапог от энергичных встряхиваний сползает, а грязь на нем держится. И нечем сковырнуть ее – поблизости ни одной щепочки, вокруг, куда ни оглянись, поле, только на западе маячит голая редкая роща. Вот до нее нужно дотянуть провод, дать туда связь.
Солдаты останавливаются, ладонями вытирают со лба пот, переглядываются и, улыбнувшись друг другу, шагают дальше.
Странное дело, провод с катушки за спиной разматывается, а она делается тяжелой. Идти становится трудней: спина ноет, ноги подгибаются, точно из них повынимали кости, пот ест глаза. «Присесть бы хоть на минутку», – думает Прохоров, украдкой поглядывая на товарища. Но тот, нагнув голову, упрямо шагает вперед, тяжело переставляя облепленные грязью ноги.
«Вот двужильный, – завидует Василий, – и усталость его не берет. А я раскис… Ну нет, все равно первый не заикнусь об отдыхе!» И тоже шагает ожесточенно, закусив губу, нагнув голову.
Пашня под ногами прежняя, а идти становится легче. Василий думает, что это – кажущееся облегчение, вот сейчас оно сменится окончательной, свинцовой усталостью. Но окончательная усталость не приходит. Роща приближается, и Василий, ободрясь, смотрит на Асатурьяна.
– Как идем, Миша?
– Хорошо идем, – хрипит Миша и поднимает на Василия глубоко запавшие, но все-таки веселые, черные, как переспелая вишня, глаза.
В роще чисто и не очень сыро, ее будто прибрала заботливая хозяйка. Осень смахнула с деревьев последние листья и выстелила ими землю. Опавшая листва то мягко шуршит под ногами, то влажно всхлипывает. Друзья выбирают место посуше и садятся отдыхать. Асатурьян привалился к дереву, прикрыл глаза.
– Если бы не ты, Вася, – вдруг говорит он, – я бы не дошел, сел бы прямо в грязь отдыхать.
Василий смотрит на товарища. Тот открывает глаза и кивает головой.
– Правду говорю, мне очень хотелось присесть, но вижу – ты идешь, и мне стыдно об отдыхе говорить. Так и дошел.
Прохоров полулежит, опершись на локоть. Он поднимает сухой лист, вертит его в пальцах, усмехается.
– Значит, ты за мной тянулся?
– За тобой, – подтверждает Миша.
– А я тебе завидовал, – говорит Василий. – Мне казалось, что идти больше не смогу, а ты – идешь, ну, и я из последних сил стараюсь… Это там, примерно на середине поля. Потом ничего, обошлось.
Оба смеются и говорят:
– Здорово!
Василий радуется этой маленькой победе: он сумел одолеть свою слабость, и, оказывается, не только он у товарища, но и товарищ у него занимал душевных сил.
– Сержант идет, – говорит Асатурьян.
Василий поднимается навстречу командиру отделения. Встретив его на опушке, докладывает о выполнении задания. Говорит он взволнованно, с жестикуляцией. Командир слушает, чуть нагнув голову, карие глаза из-под приспущенных век смотрят внимательно.
– Не размахивайте руками, – вдруг говорит он.
Василий опустил руки и умолк. Настроение испортилось, шевельнулась в душе обида на сержанта…
Прохоров смотрит, как ветка акации неслышно царапает своими колючками по стеклу, и думает, что вот он тогда обиделся на командира, а сегодня сам сделал солдату такое же замечание. И нельзя было не сделать: какой же сержант промолчит, когда солдат у него перед носом руками разводит.
И Мягких, наверное, обиделся. Шел он, старался – не так просто ему строй дается. Потом благодарность им объявили, пришел в казарму довольный, на душе у него было светло, сегодня он тоже свою маленькую победу одержал и гордился ею.










