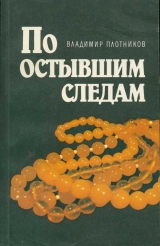
Текст книги "По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]"
Автор книги: Владимир Плотников
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
Фотография
В моей комнате за стеклом книжного шкафа стоит небольшая фотография мужчины лет сорока: зачесанные набок светлые шелковистые волосы, слегка насупленные брови, прямой нос, впалые щеки, разрезанный вертикальной бороздкой упрямый подбородок… Особенно выразительны глаза. В них – ни тени улыбки, и наверное поэтому взгляд их кажется тяжелым, даже страдальческим.
Фотография привлекает внимание всех, Кто бывает у меня. По общему мнению, на ней изображен человек необычной и нелегкой судьбы. Они правы. Это сын русского эмигранта, итальянский коммунист, скрипичных дел мастер Владимир Яковлевич Шевченко, вернувшийся накануне войны вместе с семьей на свою настоящую родину – в Советский Союз. Мне же она говорит гораздо больше. Сын Владимира Яковлевича, Глеб, в детстве был моим другом. Фотографии Глеба у меня нет, и когда вечерние сумерки делают портрет его отца мягче, мне начинает казаться, что на нем изображен мой дорогой Глебка. Все, что связано с ним, я свято храню в своей памяти.
…Осень 1939 года. Новая просторная школа в Лесном, на углу Пустого переулка и Дороги в Сосновку. 56 гудит после перемены. В дверях появляется учительница. Она вводит в класс новичка – скромно одетого, худенького парня. На голове – копна рассыпающихся волос соломенного цвета, лицо тонкое, глаза большие, карие.
– Глеб Шевченко, – представляет его учительница, – приехал к нам из Италии. Помогайте ему, ребята.
Глеба сажают на «Камчатку», на которой я обитаю чуть ли не с первого класса. К моему удивлению, Глеб сам записывает и решает задачи, только во время диктанта задумывается и заглядывает в мою тетрадь. Мне не жалко, я подвигаю тетрадь к нему – пусть смотрит. На переменах мы не расстаемся, я показываю ему школу, рассказываю о ребятах. Неожиданно узнаю, что Глеб живет недалеко от меня. После уроков мы идем домой вместе.
– А кто у тебя родители? – интересуюсь я.
– Мама пианистка, папа делает скрипки. Перед тем как приехать в Союз, мы жили в Фиуме. Мама выступала перед рабочими бесплатно, а отец говорил с ними о политике, он коммунист… Хочешь – зайдем ко мне?
Мы сворачиваем к двухэтажному, обшитому досками серому бараку. Глеб шарит в карманах, достает ключ. Открыв одну из дверей, он пропускает меня вперед. Я вхожу и останавливаюсь в недоумении: по стенам большой с двумя окнами комнаты стоят неубранные кровати, в центре – черный рояль, на крышке которого лежат ноты, надломленная краюха хлеба и скрипка. Подоконники уставлены кастрюлями, чайниками, немытой посудой.
– Чья это скрипка? – спрашиваю я.
– Моя, – отвечает Глеб. – Есть хочешь?
Он бросает портфель, отламывает от краюхи две корки, одну подает мне, и мы уходим гулять.
Рядом с его домом, в сосняке, военный городок.
– Полезем, посмотрим? – предлагаю я Глебу.
– Как? – спрашивает он.
– А вот так…
Я разгребаю под забором песок и, как крот, проползаю на территорию городка. Глеб ползет за мной. Мы прячемся за соснами и долго наблюдаем за часовыми, которые расхаживают около большущих зенитных пушек.
…Приближается ноябрь. В вестибюле школы – объявление о праздничном концерте. Среди его участников – Глеб. Концерт проходит в переполненном актовом зале. Глеб играет на скрипке, играет так, что мне кажется, будто глаза его в это время не видят ничего. Ему долго аплодируют. После концерта Глеба окружают мальчишки и девчонки, спрашивают, охотно ли он занимается музыкой или родители заставляют? Это ему надоедает, он пытается вырваться из кольца и… ругается нецензурными словами. Нет, Глеб не понимает их смысла, он удивленно смотрит на девочек, которые отворачиваются и уходят…
…Глубокая осень. Мы сидим у меня дома и делаем из ваты длинные жгуты. К зиме мама уложит их на оконные рамы, вдоль нижнего края стекол. Когда на смену морозам придут оттепели и ледяные узоры на окнах начнут таять, эти жгуты отведут воду в подвешенные к подоконникам бутылки, избавят от луж на полу. А пока на улице – дождь, сырость. За стволами мокрых деревьев видны Яшумов переулок и старые деревянные ворота у входа в наш двор.
Мы то и дело поглядываем в окно: когда же кончится этот дождь? Наше внимание привлекает лошадь, которая тащит телегу с бочкой керосина. Сбоку от нее, с вожжами в руках, идет мужик в клеенчатом переднике. Он останавливается у ворот, достает медный рожок и дует в него. На улицу бегут люди с бидонами.
– Слушай, – говорю я Глебу, – у нас на чердаке валяется горн. Ты понял?
Через несколько дней мы лезем на чердак, находим горн и, подойдя к слуховому окну, дуем в него по очереди. Из домов выскакивают люди, они смотрят по сторонам и, пожимая плечами, расходятся. А мы снова трубим…
…Весна 1940 года… После занятий мы идем ко мне домой. Мама встречает нас, кормит обедом. И мы делаем уроки. Заканчиваем их в сумерках. Не включая свет, входит тетя Шура, сестра моего отца, садится за рояль, и комната заполняется звуками «Лунной сонаты». Вначале они плывут медленно, грустно, но вот плавная мелодия обрывается, на смену ей приходит буря, смятение, гнев…
…По правде говоря, мы оба любим не только музыку и озорство, но и… конфеты. Больше всего «Бим-Бом». Только денег у нас почти никогда не бывает. Это заставляет идти на крайности… Мы делаем букеты из наломанной возле дома сирени и выходим на улицу. Кому бы продать их? Да так, чтобы за уши не отодрали, к родителям не отвели? Появляются парень и девушка.
– Я предложу жениху, – шепчет Глеб.
Он ждет приближения влюбленных, достает из-за спины сирень:
– Дядя, буки купет…
Парень с любопытством смотрит на него.
– Простите… купите букет, – извиняется Глеб.
Парень опускает в ладонь Глеба несколько монет, и вскоре мы уже хрустим вкусными конфетами.
…Наступает лето. Жизнь идет, как и прежде, но взрослые все чаще говорят о войне, о том, что фашисты собираются напасть на нашу страну. Мы начинаем вооружаться. В потайном месте, в Сосновке, делаем самопалы, льем свинцовые пули к ним, из игрушечных глобусов мастерим бомбы, шнурки для ботинок начиняем серой от спичек и превращаем их в бикфордовы шнуры.
– Ты никому не скажешь? Поклянись, – как-то говорит Глеб и достает из кармана брюк плоский, завернутый в тряпку предмет:
– Браунинг, в подвале нашел. Только, кажется, неисправный – спусковой крючок не двигается…
Он пытается отвести затвор назад. Это ему удается. Я вижу, что бойка на затворе нет, и говорю:
– Брак, не стреляет!
– А как бы его починить? – спрашивает Глеб.
Он досылает затвор вперед и пытается сдвинуть с места спусковой крючок, но у него ничего не получается. Засунув браунинг в карман, Глеб уходит домой, а через некоторое время говорит мне, что его нашел и забрал отец.
…На первом этаже Глебкиного дома несколько комнат занимает женское общежитие. Туда ходят солдаты. Не может быть, чтобы в такое тревожное время их отпускали командиры! С наступлением темноты мы подкрадываемся к окнам, заглядываем в них. Солдаты сидят на кроватях без ремней, в расстегнутых гимнастерках и обнимают девчонок. Глеб барабанит по стеклам и кричит:
– Тревога! Тревога!
Мы прячемся в кустах. Солдаты выскакивают на крыльцо, приводят себя в порядок и бегут в часть.
…Июль 1941 года. Война все-таки началась… Мы видимся реже. Я уезжаю в первую эвакуацию вместе с детским садом, в котором работает мать. Нас размещают в деревне недалеко от станции Угловка, что между Ленинградом и Москвой. Проходит месяц. Немцы продвигаются как раз в этом направлении. Эвакуированные возвращаются в Ленинград, и вот я снова в своем доме. Мне хочется повидать Глеба, однако на улице гроза, дождь льет и льет. Наконец, раскаты грома стихают, появляется солнце. Я выбегаю во двор. Воздух напоен запахами трав и цветов, с кончиков мокрых листьев свисают, переливаясь всеми цветами радуги, капли. Они дрожат, падают, на их месте вырастают и начинают сверкать другие… Откуда-то издалека доносится полонез Шопена. Наверное, это играет мать Глеба. Я тороплюсь, но странное дело: по мере моего приближения к их дому аккорды звучат все тише и тише и умолкают совсем. Я стучу в знакомую дверь, мне никто не открывает: в комнате никого нет…
В августе – вторая эвакуация, на этот раз далеко на северо-восток. Голодно, силы тают с каждым днем, и в школу ходить становится все труднее. Продуктов, которые мы получаем на месяц по карточкам, до войны хватило бы на неделю. В сумерках, чтобы никто не видел, мы с матерью выходим за город и под снегом отыскиваем капустные кочерыжки.
Весной мама пишет в Ленинград письмо, надеясь найти кого-нибудь из знакомых. Я прошу ее узнать о судьбе Глеба. Приходит ответ: Глеб остался в окруженном городе, возил на каком-то складе уголь, а потом исчез. Я не могу поверить, что Глеба нет в живых. Мне кажется, что он просто пропал без вести и когда-нибудь мы непременно встретимся.
После войны я вернулся в Ленинград, поступил в Университет и, окончив юридический факультет, стал следователем.
Однажды мне пришлось побывать в Архангельской области. Закончив работу, я зимним вечером приехал на станцию Плесецкая, зашел в небольшой зал для пассажиров, где у печки грелись несколько* мужчин и женщин, взял билет и в ожидании поезда на Ленинград вышел на перрон.
Прогуливаясь по его скрипучим доскам в стороне от заваленного снегом, плохо освещенного станционного здания, я любовался звездным небом. Вскоре вдалеке послышался протяжный гудок локомотива и почти одновременно с ним – металлический шелест колес. Через несколько минут я уже шел по коридору купейного вагона, отыскивая свое место… Вдруг из полутемного купе меня окликнула женщина:
– Дима!
Я узнал ее сразу:
– Ляля!
– Ты как здесь оказался?
– Возвращаюсь из командировки…
– А я в Архангельске читала лекции. Вот так встреча!
Несмотря на позднее время, мы наперебой стали рассказывать друг другу о жизни, работе и однокурсниках.
– Слушай, сегодня я прочитала потрясающую корреспонденцию, – сказала мне собеседница. Она порылась в кипе пахнущих типографской краской газет и подала одну из них. – На, возьми, потом почитаешь…
Мы проговорили до поздней ночи. Я ушел в свое купе, лег, но, вспомнив про корреспонденцию, которая произвела такое сильное впечатление на мою знакомую, нашел ее и принялся читать. Она была напечатана под крупным заголовком «Пианистка» и занимала три неполных колонки. Автор писал (постараюсь как можно более точно воспроизвести его слова): «Я приехал в далекий сибирский город в ночь на воскресенье и утром пошел побродить по его улицам. Мое внимание привлекла афиша: в Доме политпросвещения концерт артистки… Не буду пока называть ее имени. Оно ничего не сказало мне. В программе – Сезар Франк, Равель и двадцать четыре прелюдии Клода Дебюсси. Трудная, редкая программа. Редчайшая. Я подивился мужеству филармонии – кому из пианистов под силу такой концерт? Купил билет и с любопытством стал ждать вечера.
Нас было в зале 53 человека. Я посчитал. А зал был большой, на пятьсот мест. Перед началом концерта ведущий попросил сесть слушателей поближе и сказал несколько слов о музыке французских импрессионистов. Потом вышла пианистка. Высокая, немолодая женщина. Коротко подстриженные рыжие волосы, решительные движения. Она посмотрела в пустой зал с добродушной грустью, даже чуть виновато, потом так же смущенно сменила качавшийся стул и стала играть».
Когда я прочитал эти строки, в моей памяти возник образ матери Глеба, но я тут же подумал, что это случайное совпадение, и продолжал читать дальше:
«…Она играла, быть может, самую изысканную и поэтическую музыку на свете. «Лодка среди океана», «Долина звонов», «Печальные птицы», «Игра воды». Это Равель. «Следы на снегу», «Затонувший собор», «Девушка с волосами цвета льна». Это Дебюсси. И, сохраняя изысканность и поэтичность, пианистка в то же время была строга, даже холодновата. Такое доступно только большим артистам… Я не знал в тот вечер, что судьба привела меня на концерт пианистки, чьей игрой наслаждался весь мир – Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес, Париж, Вена, Рим…»
И снова я подумал о матери Глеба. Я помнил, как Глеб рассказывал, что она родилась и выросла за границей, там получила музыкальное образование и стала играть. В ее исполнительской манере я всегда чувствовал эту холодноватую изысканность. Но почему она оказалась в Сибири?
Следующий абзац заставил меня заволноваться по-настоящему:
«Отец Веры (мать Глеба звали именно так!) был физиком, математиком, астрономом. Профессор в Сорбонне, потом в Туринском университете. Мать, испанка (Глеб говорил, что в жилах его течет и испанская кровь!), совмещала преподавание литературы в Сорбонне с обязанностями светской женщины. Девочка была предоставлена гувернантке, а вернее – сама себе. Учили ее и музыке, но случайные преподаватели. Она жила на берегу Средиземного моря, в Ницце, и часто убегала с уроков в лицее на симфонические концерты, которые ежедневно давались в одном из казино. Однажды директор казино удивился: к нему подошла девочка и сказала, что хотела бы сыграть с оркестром Концерт Моцарта…»
Я прочитал этот абзац дважды. Не слишком ли много совпадений? Последние мои сомнения исчезли после того, как я пробежал глазами фразу:
«Вскоре такой концерт был объявлен. Партию фортепьяно исполняла двенадцатилетняя Вера Лотар».
Тут я привстал. Сердце мое забилось быстрее. Я еще раз заглянул в газету. В ней черным по белому была напечатана фамилия матери Глеба. Так, значит, она жива! А что же Глеб?
Я торопливо просмотрел корреспонденцию до середины и, не найдя никакого упоминания о нем, решил читать не спеша, чтобы не пропустить ни единого слова. Ведь это была первая подробная информация о семье друга! Первая за столько лет!
Автор писал, что в 1925 году пятнадцатилетняя Вера окончила Парижскую консерваторию. Начались бесчисленные гастроли. Импресарио подавали ее как вундеркинда. Но пришел день, и Вера поехала в Вену, чтобы продолжить образование. Здесь к ней пришло то необходимое для артиста равновесие, которое называется зрелостью. Она гастролировала теперь уже не как вундеркинд, а как талантливая пианистка отличной школы. У молодой женщины было все. Дарование. Школа. Богатство. Слава. Но еще у нее был неспокойный характер. Ей не нравился мир, в котором она жила, «хорошее общество», в котором воспитывалась. И Вера, порвав с родными, вышла замуж за русского инженера-акустика Владимира Яковлевича Шевченко, отец которого эмигрировал из России после 1905 года. Владимир Яковлевич мечтал вернуться в свою страну… Незадолго до войны супруги добились, наконец, советских паспортов и приехали в Советский Союз. Первое время было трудно. К ним относились с подозрением. Когда Вера Августовна получила возможность дать концерт в Ленин-граде, ей не в чем было выступать – все было распродано. Платье для концерта достали в Музкомедии из костюмов к «Веселой вдове». Но первое же выступление все поставило на свое место. Они получили квартиру, работу, они были обеспечены и счастливы…»
«Началась война, – писал далее автор. – Мужа по неизвестным причинам арестовали. Вера Августовна побежала хлопотать за него и больше домой не вернулась. Восемь лет пианистка не подходила к роялю, но каждый вечер устраивала концерт для самой себя. Закрыв глаза, Вера Августовна мысленно проигрывала сонаты Бетховена, фуги Баха, сонаты Шопена… Когда же ее освободили, она пришла к директору местной музыкальной школы, сказала, что окончила Парижскую консерваторию, выступала в разных странах мира, а сейчас просит одного – пустой класс с роялем, где она могла бы запереться на час… Ее приняли за сумасшедшую, но она просила немногого, и ей дали этот класс. Она вошла в пустую комнату, повернула ключ в замке и стояла, прижавшись спиной к двери. Перед нею был рояль. Впервые в жизни ею овладел страх. Она не могла дотронуться до клавишей, потом пересилила себя и… Случилось чудо. Она стала играть. Играть бурно, подряд, обрывая себя. Ей казалось, что Шопена она сможет играть, а Баха не сможет, Баха играет, а Бетховена – не сможет… Окрепнув, она выступала с концертами вначале в Нижнем Тагиле, потом в Свердловске. В шестидесятом году состоялся ее первый концерт в Москве. Имени пианистки никто не слышал, его забыли, но зал был полон – привлекала программа…
Все это теперь уже история… – заканчивал корреспондент свой очерк. – Я сижу в маленькой квартире Веры Августовны. Скромная, покрытая пледом кровать. Плохонькое филармоническое фортепьяно. И женщина – простая, добродушная, немного рассеянная, с крепкими руками и хитроватой улыбкой.
Понимая всю бестактность вопроса, я спрашиваю, не сожалеет ли она о своем зарубежном прошлом.
– Конечно, нет! – объясняет Вера Августовна. – Я ушла из того мира, я не любила его… Не люблю и сейчас.
Она живет одна, муж умер в заключении, сын погиб в блокадном Ленинграде».
Скупые сведения о смерти Глеба исходили на этот раз от его матери. Они оглушили меня, но не верить им было нельзя. Всю ночь я не мог заснуть, а к утру решил, что с возвращением в Ленинград напишу автору «Пианистки» и попробую найти дело, по которому был арестован Владимир Яковлевич. Хотелось сделать хоть что-нибудь полезное для Веры Августовны.
Корреспондент ответил не сразу. Контакты между мною и Верой Августовной он считал нежелательными. Почему? Может быть, боялся, что они отрицательно скажутся на ее здоровье, а может, опасался за неточности, допущенные в корреспонденции… Кто знает! Я выполнил его волю.
Спустя некоторое время я получил возможность ознакомиться с делом Владимира Яковлевича. Оно открывалось анонимным заявлением о том, что Шевченко – фашистский шпион и заслан в Советский Союз с целью сбора и передачи за границу сведений о промышленных и военных объектах Ленинграда. Владимир Яковлевич на всех допросах неизменно отрицал свою вину, рассказывал о том, как в рядах Итальянской компартии боролся с фашизмом, а один из протоколов, написанный собственноручно, закончил словами: «Я коммунист и никогда не изменю ни партии, ни народу». Обвинение в шпионаже пришлось снять. Листая дело, я наткнулся на протокол обыска комнаты, где жила семья Шевченко. В ней, за печкой, был найден браунинг. Тщетно пытался я отыскать описание его индивидуальных особенностей. Не было даже заключения о пригодности браунинга для стрельбы. Зато были показания Владимира Яковлевича о том, что это «оружие» он бросил за печку, отобрав у сына. Им не поверили.
В конверте, наклеенном на обложку дела, я нашел служебное удостоверение Владимира Яковлевича с маленькой фотокарточкой и увеличил ее. Так в моей комнате, за стеклом книжного шкафа, появился дорогой мне портрет.
Грех
От своих криминальных клиентов я довольно часто слышу одну и ту же фразу: «Копаетесь вы в чужих грехах, а соб-ственная-то совесть чиста?» Я отвечаю им, что грешил только в детстве – лазал по чужим садам, дрался, озорничал, – и знаю, что говорю неправду. Один грех, который я совершил, будучи взрослым, не дает мне покоя и поныне.
После окончания Университета я с родителями жил на окраине Ленинграда. Мы занимали одну комнату в коммунальной квартире чудом сохранившегося деревянного дома. Вторую комнату занимала семья пожилой, перенесшей блокаду парикмахерши, третью – главного бухгалтера довольно крупной строительной организации.
Главного бухгалтера звали Верой Петровной. Было ей за пятьдесят, мужа она потеряла во время войны и с тех пор одна растила двух дочерей. Когда мы познакомились, младшая дочь Женя еще училась в институте, старшая – Тоня – работала медсестрой в больнице. Вера Петровна и ее дочери были общительными, веселыми, мы быстро сблизились, стали заходить друг к другу, вместе встречать праздники.
Жили они всегда скромно, одевались просто. Кухня у нас была общая, и я не замечал, чтобы Вера Петровна готовила на ней что-нибудь особенное. Иногда, как правило по выходным, она жарила для девочек котлеты, обычно же варила постные щи или суп с рыбой, а на второе – каши. Денег ей, судя по всему, не хватало, и она занимала их то у парикмахерши, то у моей матери.
Вера Петровна пользовалась уважением в доме не только за то, что никогда не впадала в уныние. Она была членом товарищеского суда, а в соседней библиотеке добровольно занималась реставрацией книг.
Со мной она была особенно приветлива, не раз говорила, в шутку, что хотела бы стать моей тещей и нянчить внуков.
Но однажды, когда я вернулся из города, мать взволнованно сказала: «У нас новости! К Вере Петровне приходили с обыском…» – и потащила меня в комнату. Я не поверил: «У Веры Петровны? Обыск? Что у нее можно искать? Какая чушь!» Но мать продолжала: «Был следователь из прокуратуры, участковый и два дворника. Обыскивали долго, поднимали все, даже паркет, в печку заглядывали, в дымоход, ничего не нашли. Фамилия следователя, кажется, Барковский… Ты не знаешь такого?!»
Как же не знать? Барковский – высокий, кудлатый, живой парень – кончил юрфак двумя годами раньше меня и уже успел отличиться на следственном поприще, распутав несколько сложных хозяйственных дел. И вдруг он в нашей квартире, и, главное, у кого? У Веры Петровны?
Это ошибка, – подумал я. – Надо немедленно найти Барковского, рассказать ему о Вере Петровне, о том, какая она честная, скромная и благородная и как трудно ей жить…» Я готов был осуществить свое намерение, но мать взяла меня за рукав:
– Подожди… Вера Петровна призналась мне после обыска, что допустила большую оплошность: написала заведующей каким-то складом записку и предупредила ее о ревизии. Она сделала это по-дружески, а на складе обнаружили большую недостачу. Кладовщицу забрали, сделали обыск и нашли записку. Оказавшись в тюрьме, кладовщица обвинила во всем Веру Петровну, заявила, что недостающие материалы продавала по ее требованию, а деньги делила…
И тут я стал остывать. По-прежнему не сомневаясь в бескорыстности Веры Петровны, я подумал: «Барковский – опытный, знающий следователь… Он наверняка будет интересоваться жизнью Веры Петровны, вызывать соседей, пригласит и меня. Вот тогда я и скажу. А сейчас зачем лезть? Вера Петровна пока на свободе… Не исключено, что все обойдется».
Я остывал и, остывая, чувствовал, как исчезает во мне тот порыв, которому я готов был подчиниться вначале.
Через неделю я узнал, что Веру Петровну арестовали. И опять мною овладело желание встретиться с Барковским, сказать ему, что Веру Петровну оговаривают, что он зря посадил ее в тюрьму. Но по мере того как это желание крепло, какой-то чужой голос все настойчивее твердил мне холодные, рассудочные истины: «Необоснованно не арестовывают, за необоснованный арест отвечают. Барковский знает это. Тебе он ничего не скажет, а может, и выгонит, потому что нечего совать нос не в свои дела»…И я отказался от своего намерения, понадеявшись, что Барковский сам во всем разберется.
Время шло, а жильцов квартиры он почему-то не вызывал. Только однажды пригласил к себе Женю и Тоню, чтобы сказать им, что Вера Петровна находится в тюремной больнице и ей нужны фрукты.
Через несколько месяцев, когда кладовщица призналась в оговоре, Барковский выпустил Веру Петровну на свободу, сняв с нее обвинение в хищении и взятках. Написание ею записки он квалифицировал как должностное преступление и, закончив следствие, отправил дело в суд. Но до суда Вера Петровна не дожила. Сильные боли в печени заставили ее обратиться к врачу. Она была вновь помещена в больницу и там скончалась…
Хоронили ее всем домом. Проститься с ней пришли сослуживцы, члены товарищеского суда, библиотекари… С тех пор меня преследует мысль, что если бы я действовал по велению сердца, без оглядки, то Вера Петровна не оказалась бы в тюрьме, не заболела и не умерла.







