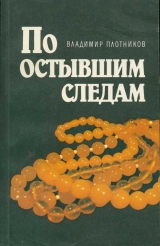
Текст книги "По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]"
Автор книги: Владимир Плотников
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Через год у них родилась дочь, моя внучка, к которой я очень привязался, а еще через год Катя, отказавшись от намерения поступать в институт, объявила, что они хотят жить отдельно. Жена поддержала ее. Я был против. Мне казалось, что, пока они не стали вполне самостоятельными, нам лучше жить вместе со всех точек зрения. К моему мнению молодые не прислушались и дали объявления о размене квартиры. Начались визиты каких-то неизвестных мне лиц, звонки по телефону, переговоры. Это привело к новым стычкам.
В трехлетием возрасте внучка заболела хроническим бронхитом. Врачи рекомендовали вывезти ее к Азовскому морю. Я обещал помочь деньгами, и скандалы утихли.
Как только внучку увезли, жена заявила, что наконец-то дождалась эмансипации, и чуть ли не ежемесячно стала ездить то через Таллин в Ригу, то через Ригу в Таллин, то по восточному берегу Чудского озера, то по западному, не только не согласовывая со мной эти поездки, но даже не предупреждая о них. Придешь вечером домой – ее нет, наступает ночь – нет. Теща знать не знает, где ее дочь. Ходим вместе с ней по комнатам, ломаем головы и ничего придумать не можем…
К тому времени Мария Ивановна заметно сдала: после двух инфарктов она передвигалась по квартире с трудом, все больше лежала, питаясь только тем, что ей приносили.
Когда внучка с родителями вернулась домой и пошла в садик, жена уехала в санаторий, оставив свою мать на детей, которые не могли присматривать за ней, потому что зять продолжал учиться, теперь уже в медицинском институте, а дочь работала в больнице. После санатория опять начались туристические поездки в те же города. Мне приходилось ухаживать не только за своими престарелыми родителями, но и за тещей, а это не могло не сказаться на работе. Я продолжал от случая к случаю топить свое горе в вине, ругаться с женой и дочерью.
Отношения обострялись. Катя стала вести себя грубо не только со мной, но и с бабушкой, которая нет-нет да и одергивала ее. Мне, например, если я с внучкой на руках с кем-нибудь разговаривал, дочь не стеснялась сказать: «Хватит бубнить над ушами ребенка!», а на бабушку кричала: «Иди отсюда! Проваливай!»
К лету молодые задумали опять ехать на юг, теперь уже на Черноморское побережье Кавказа. Они приняли это решение, ни с кем не посоветовавшись, а средств на поездку не имели. План, очевидно, был таков: увезти внучку, поставить дедов и бабок перед свершившимся фактом в надежде на то, что без денег их не оставят, пришлют. Внучке эта поездка врачами рекомендована не была. Я понял, что нужна она только родителям, и сказал, что финансировать ее не в состоянии. У меня действительно не было необходимых для этого средств. Катя в ответ заявила: «Подавись своими деньгами!» Инга промолчала, но в июне, в самое пекло, забыв про свое больное сердце и запреты врачей, первая поехала с внучкой на Черное море. С юга жена вернулась довольная, загорелая. Внучку она оставила приехавшим туда родителям. Как они выкручивались с деньгами, не знаю. Думаю, что влезли в долги, потому что в общем остались поездкой недовольны и больше о подобных вояжах не заговаривали. Мне же за мою позицию в этом вопросе они отплатили тем, что стали вести себя так, будто я вообще для них не существую. Когда я сказал дочери, что такого отношения с ее стороны не заслужил, что всю жизнь отдал семье, она ответила: «Теперь это в прошлом. Работал ты ради собственной карьеры, детей своих обязан был вырастить, а если бы отказался, платил бы алименты…» Вот, оказывается, как все просто. А душа где? Она не в счет…
Осенью, отмечая день рождения зятя, они даже из приличия не пригласили меня к столу, хотя я был дома. Проводив гостей, молодые вновь заговорили о разделе жилплощади. На этот раз в атаку пошел Аркадий, которого подогревали Инга и дочь. Мой грамотный зять назвал меня «собакой на сене» и заявил, что жить со мной они не могут. Я ответил, что у меня он не прописан и говорить о площади ему следует со своими родителями, я же могу обеспечить ею только свою дочь, после того как нормализуются наши отношения.
Мои высказывания оказались доведенными до сведения родителей зятя. Они пожелали приехать ко мне, чтобы поговорить о жилищной проблеме. При встрече я пытался убедить их в том, что отделяться молодым рано, так как самостоятельность их пока только мнимая, а доводы – надуманные. Я говорил им, что Катя и Аркадий никому никакой пользы еще не принесли, а уже стремятся брать от жизни все, что можно взять, что им не стоит никакого труда развалить то, что создано не их руками, поскольку выросли они на всем готовом. Когда я кончил, сватья назвала меня больным, посоветовала лечиться и заявила: «Теперь каждый думает только о себе! Нет ничего удивительного в желании молодых иметь свою жилплощадь». Дав понять, что против меня их настраивает Инга, она посоветовала развестись с ней: «Были бы деньги, женщины найдутся!» Выяснилось также, что свою трехкомнатную квартиру они ради сына разменивать не хотят и рассчитывали на то, что жилплощадью молодых обеспечу я. Мы так ни до чего и не договорились, однако я понял, что сваты заботятся прежде всего о своем собственном благополучии, что там, где можно взять, они возьмут, а перед тем, как отдать, – подумают. Более понятным стало мне и поведение зятя.
На размен жилплощади жене и дочери нужно было получить согласие не только от меня, но и от тещи. Однако с ней на эту тему они вообще не считали нужным говорить. К тому времени Мария Ивановна из комнаты своей уже не выходила: сдавало сердце, непрерывно болели почки, отекли лицо и ноги. Чтобы избавиться от отеков, теща пила лекарство, которое истощало слизистую рта. Твердая пища становилась ей неприятной, ее тянуло на воду, а это вело к дальнейшему ослаблению организма.
Зимой, когда она оставалась дома одна, соседи, жившие над нами, залили нашу квартиру. Мария Ивановна простудилась, слегла и больше уже не встала. Боли в почках усилились, началось постепенное отравление организма мочой. Теща все реже узнавала близких, речь ее становилась несвязной, по ночам она бредила и кричала.
Как-то к нам приехал сын. Он помылся в ванне, взял приготовленное ему чистое белье и, даже не заглянув к бабушке, собрался уезжать. Пораженный его черствостью, я сказал, что устал от бессонных ночей, от стонов и криков и хотел бы, чтобы он хоть чем-нибудь помог в уходе за бабушкой. Василий ответил* что она живет в семье и в его помощи не нуждается. Тогда я сдуру предложил ему взять «любимую» бабку к себе на день-два. Он ухмыльнулся и сказал, что возьмет ее только с жилплощадью. Это наглое заявление окончательно вывело меня из равновесия. Я спросил: уж не собирается ли он таким способом выменять квартиру? В ответ сын, сделав ехидную гримасу, прокричал: «А ты, князек, думаешь, что в отдельной квартире живешь? Ты живешь в коммуналке! Хорошо, что я вырвал у тебя свою долю!»
Через несколько дней жена, беспрестанно твердя о своей эмансипации, уехала в очередную туристскую поездку по Прибалтике. Мать для нее как будто не существовала. Только в день ее смерти Инга отпросилась с работы. Но у постели умиравшей сидел опять-таки я. Два часа теща была без сознания, дышала, как рыба, выброшенная на песок, стонала, потом затихла. Жена отнеслась к ее смерти спокойно, «философски», как она выразилась. Повязав матери на голову белую косынку, она закрыла покойную простыней и стала вызывать врача, чтобы зафиксировать факт смерти. А я в очередной раз напился. На следующий день, утром, Инга сказала мне: «Давай деньги на похороны!» Я ответил, что у бабки были приготовлены для этой цели и деньги, и одежда, и что об этом она неоднократно напоминала. Жена промолчала, но в день похорон, несмотря на мои неоднократные просьбы, не назвала ни морг, откуда должны были увозить покойную на кладбище, ни время ее захоронения. От участия в похоронах я был отстранен. На поминках говорили обо всем – о любви молодых, о прошлых и будущих поездках на Черное море, только не об умершей.
Примерно за месяц до смерти матери Инга, поддерживавшая непонятные отношения с одинокой старушкой, которую звали Агриппиной, стала приходить домой все позже и позже. Из обрывков фраз, которыми жена обменивалась с дочерью, я понял, что это связано с болезнью Агриппины и необходимостью ухода за ней. Потом старушка попала в больницу, и Инга стала навещать ее там. Через месяц после смерти матери она притащила домой несколько туго набитых хозяйственных сумок. В сумках лежали кофты, платья, посуда, шкатулки с бусами и брошками… Я сразу подумал, что старушка умерла. Когда Инга подтвердила мое предположение, я стал совестить ее за то, что она позарилась на это барахло. Утром жена увезла его куда-то, но некоторое время спустя, желая, видимо, еще раз показать свою независимость, объявила, что теперь она обеспечена до конца жизни и может менять туалеты хоть ежедневно. А я почему-то вспомнил Барканова, нелегальную переписку с ним, его так и не унаследованную библиотеку, и жизнь показалась мне грандиозным обманом, игрой, в которой я с самого начала был обречен на проигрыш. Эта мысль стала настойчиво преследовать меня, я потерял сон и вскоре попал в больницу. Пока я лечился, ко мне приходили друзья, сослуживцы, но ни жена, ни дети не навестили меня ни разу.
Выписавшись, я решил взять отпуск и съездить на юг, чтобы хоть немного развеяться. Я посетил Ялту, подходил к дому, где когда-то жила теща, вспоминал все, что было связано с ним, и эти воспоминания еще более бередили мне душу. Ялту я называл теперь кладбищем надежд и думал: «Неужели я действительно ошибся, связав свою жизнь с Ингой? Неужели мои друзья были правы, когда отговаривали меня от этого шага? Почему они смотрели дальше и видели больше, чем я? Зачем столько лет я нес свой крест, на что надеялся, ради чего терпел?»
Через две недели я вернулся в Ленинград, в свой дом, но был встречен хуже, чем встречают в чужом. Попытки заговорить с женой ничего не дали. Она молчала, как будто мои слова были обращены не к ней. Мне тоже пришлось замолчать. Вдруг жена заявила, что хочет развестись со мной, и предложила назвать день, когда я смог бы сходить с ней в загс. Я ответил, что женился не для того, чтобы разводиться, и семью создавал не для того, чтобы она распалась. Инга, не дрогнув, с явным расчетом на то, что ее услышат дочь и зять, громко, холодно сказала, что семьи у меня давно уже нет и восстановить ее не удастся. Мне надо было тогда понять эту суровую правду, а я, как дурачок, продолжал жить остатками надежд на то, что все уладится, все будет хорошо. Мне трудно было перечеркнуть свою жизнь. Ведь она по меньшей мере наполовину была отдана семье, детям, в ней было много плохого, но было и хорошее… Я отказался идти в загс, предложил Инге, если она так уж жаждет поставить крест на семье, подать заявление о разводе в суд. И предупредил, что попрошу судью разобраться в причинах распада семьи. Инга рассмеялась: «Кому это нужно? Кому интересно? Достаточно мне сказать, что я не хочу с тобой жить, и все!» Потом замолчала и не открывала рта до тех пор, пока ко мне не пришел один мой приятель. Ему она рассказала, что я будто бы никому не даю нормально жить, всех притесняю, что дети отказались от меня.
Приятеля слова Инги ошарашили. Он сказал ей: «Ты говоришь об отказе детей от отца с таким удовлетворением, словно добивалась этого всю жизнь!» – и заторопился домой. Уже в дверях он посоветовал мне: «Немедленно разводись. У тебя не дом, а гадюшник. Они тебя в гроб сведут и будут рады».
Спустя неделю Инга и молодые улетели на два дня в Москву. Я пригласил к себе того же приятеля. Мы пили чай, настоянный на крымских травах, и беседовали о моей жизни. Приятель по-прежнему советовал мне развестись, чтобы хоть остаток лет прожить нормально. И между прочим спросил: «Ты считаешь, что Инга никого себе не завела, что в Прибалтику она ездит любоваться архитектурой?» Я поначалу пропустил его слова мимо ушей. А потом подумал: «Действительно, странно… И домой приходит не раньше девяти вечера, и упорно добивается развода». Я гнал от себя эти мысли, а они все лезли и лезли. На память приходили непонятные разговоры, которые Инга вела вечерами по телефону, и подозрительный звонок какого-то мужчины, разыскивающего ее, и букеты цветов, с которыми она приходила с работы, и многое-многое другое…
Вернувшись из Москвы, жена возобновила разговоры о разводе и больше уже не прекращала их. Но о суде почему-то не заикалась, все только о загсе. А меня продолжали грызть подозрения. Я стал заглядывать в сумки, с которыми Инга приходила домой, в книги, которые она читала, и через некоторое время в одной из них нашел конверт с трехдневной путевкой на Валаам. Решение пришло сразу: в день ее отъезда отправиться на речной вокзал и понаблюдать. Я приехал туда до начала посадки, вошел в один из стеклянных павильонов, что на пристани, и принялся рассматривать пассажиров. Инги среди них не было. Объявили посадку. Люди толпой двинулись к трапу, и тут я увидел Ингу. Она шла рядом с сухопарым седым мужчиной и оживленно с ним разговаривала. Всего две-три минуты видел я этого человека, видел издали, но узнал его. Он жил бобылем в нашем микрорайоне, иногда надевал генеральскую форму и выступал в жилконторе с лекциями о международном положении.
Вы не представляете себе, как гадко было у меня на душе, когда теплоход отошел от пристани и мне пришлось вернуться домой. В квартире было пусто: у зятя начались каникулы, дочь взяла отпуск, они увезли внучку на дачу к его родителям и жили там уже несколько дней. Инга плыла на Валаам… Я набрал 09, узнал телефон бюро путешествий, спросил, могут ли взять двухместную каюту лица, не состоящие в браке, и нужно ли при покупке билетов предъявлять паспорта. На первый вопрос мне ответили утвердительно, на второй – отрицательно. И я понял, что все кончено.
Как лунатик, дошел я до гастронома, взял бутылку водки, выпил и сходил еще за одной. На улице темнело. Чтобы как-то отвлечься, я включил телевизор. Смотрел на экран и ничего не понимал. Потом прочитал: «Передачи окончены», – выключил телевизор, лег, но сон не шел ко мне. Выпил еще, поднялся, стал ходить по квартире. Видел, как погасли фонари на улице, как она погрузилась во мрак. Только фары такси и машин «скорой помощи» изредка освещали ее. Иногда в доме что-то бухало, с улицы доносились какие-то крики, потом опять наступала гробовая тишина. А я все ходил, садился, вставал и снова ходил. И только одна мысль была в голове: «Да, все кончено. Что теперь делать?»
Утром я позвонил на работу, сказал, что заболел, вышел на улицу, чтобы освежиться, но, почувствовав, что могу упасть, вернулся, лег и не заметил, как заснул. Проспал я до вечера, испугался предстоящей ночи и, купив еще одну бутылку, выпил ее… С наступлением утра стал бояться, что позвонят с работы или приедут. Из-за этого ушел на улицу и мотался по городу до вечера. Думал, как оправдаюсь на службе, потом забыл про нее. Утром позвонил на речной вокзал, узнал, когда приходит теплоход с Валаама, и поехал на пристань. Видел, как Инга сошла на берег вместе со своим лектором. Приехал домой на метро, стал ждать.
Час проходил за часом, а ее все не было. Вечером Инга объявилась. Я спросил у нее, где она была. Выглядел я, наверное, страшно, потому что она подошла ко мне, притронулась ладонью к моей щеке, вроде даже погладила, и сказала: «На Валааме». У меня все поплыло перед глазами. Схватив ее за плечи, я закричал: «Понятно, для чего тебе нужен развод! Ты всю жизнь лгала мне, никогда не любила, не уважала! Замуж вышла, чтобы в девках не остаться, ленинградскую прописку получить! Ты использовала меня, наплевала мне в душу и хочешь теперь, чтобы я сдох одиноким?!» В ответ она прищурилась и тихо, с презрением сказала: «Идиот…
Между нами давно все кончено… Ты только теперь понял это?» Я оттолкнул ее от себя. Она ударилась головой о стену, стала оседать, затем упала на спину… Поверьте, я не хотел ее смерти, так получилось… Остальное вы знаете…
Допрос был закончен. Шел шестой час утра. Я выключил магнитофон и принялся перематывать ленты, чтобы воспроизвести Круглову его показания. Глядя на вращающиеся кассеты, он долго молчал, потом спросил:
– Как, по-вашему, в чем моя главная ошибка?
– Свое мнение мы сможем высказать вам только в конце следствия, – уклончиво ответил Карапетян.
Тем же утром я арестовал Круглова и, отправив его в следственный изолятор, съездил домой, чтобы успокоить жену, повидать сына, отчистить от грязи одежду, перекусить. Потом вернулся на работу и приступил к проверке только что полученных показаний. Мне пришлось затратить на нее два месяца. В ходе расследования сообщенные Кругловым сведения подтвердились, и когда мы встретились последний раз, он вернулся к больному для него вопросу.
– Знаете, – сказал Круглов. – Я пришел к выводу, что мы с Ингой с самого начала были несовместимы. Нам нельзя было создавать семью…
– Вы правы, – ответил я, – и на перемены к лучшему вы надеялись зря. Теперь придется начинать все с нуля, или с нулевого цикла, как у вас, строителей, принято говорить. Смотрите, не ошибитесь.
На следующий день дело было направлено в суд. К нему я приложил фонограмму допроса, о котором здесь рассказал.
Алиби
Доклад прокурора длился второй час. Пора было делать перерыв, но докладчик – небольшого роста, сухощавый седой человек в очках с позолоченной оправой – как будто забыл о нем. Зал монотонно гудел.
Я сидел в последнем ряду, у самого выхода^, листая только что прочитанную повесть Ж. Сименона «Мегрэ и бродяга», размышлял над тем, для чего автор поставил своего героя в положение заурядного, не способного раскрыть преступление, сыщика. Для того чтобы показать, к каким результатам приводит слепая вера в единственную, основанную только на предположениях, версию? Или для того, чтобы рассказать о нравах и психологии парижских бродяг, добиться доверия которых ему так и не удалось?
Вдруг я почувствовал, что шум в зале стих и, прислушиваясь к докладчику, понял причину этого.
– В расследовании уголовных дел мы за истекшие девять месяцев добились неплохих результатов, – говорил прокурор. – Но некоторые преступления нам так и не удалось раскрыть. Взять, например, крупную кражу часов, фотоаппаратов, транзисторных приемников, изделий из шерсти и других товаров, которую расследовал товарищ Гусько. Приходится удивляться тому, насколько кустарно, примитивно велось следствие по этому делу. Похоже, что следователь не только не стремился установить и изобличить преступников, а, наоборот, изо всех сил старался разрушить доказательства их вины. Вы согласны с такой оценкой вашей работы, товарищ Гусько?
Гусько сидел впереди, у окна, и, как ни в чем не бывало, рассматривал свое отражение в стекле. Я и раньше замечал его за этим занятием в трамваях, в метро, перед витринами магазинов – словом, везде, где можно было найти хоть какую-нибудь зеркальную поверхность.
– Мы с уважением относимся к вашим усам и прическе, – вновь обратился к нему прокурор, – но скажите все же, Гусько, согласны вы со мной или нет?
Услышав, наконец, свою фамилию и поняв, что его о чем-то спрашивают, Гусько встал.
– Так точно! – четко ответил он.
– Полностью?
– Разумеется…
В зале раздался смех.
– Тогда садитесь, – махнул рукой прокурор. – Приятно иметь дело с таким оппонентом. – И, посмотрев на часы, добавил – Для желающих посмеяться объявляется перерыв на десять минут.
Все двинулись к выходу.
– Слушай, смех смехом, – сказал мне Чижов в коридоре, – а преступление-то висит. Не попробуешь ли ты свои силы? Раскроешь – еще одно доброе дело сделаешь. Давай, а?
Магическое «давай» мне приходилось слышать не раз. Начальники любили вдохновлять им своих подчиненных. При этом всегда было ясно, что нужно делать, а вот как «давать» – никто из них, как правило, сказать не мог. Отчетливо понимая, что с заволокиченным делом придется повозиться не один месяц, я выслушал предложение Чижова без особого энтузиазма, но возражать не стал и после небольшого раздумья согласился с ним.
– Вот и хорошо! – обрадовался начальник следственного отдела. – Утром получай командировочное предписание и давай. Гусько уедет туда сегодня, а завтра встретит тебя.
На следующий день после двухчасовой тряски в жестком вагоне пассажирского поезда «Ленинград – Элисен-ваара» я добрался, наконец, до места и еще из окна увидел Гусько. В пальто светло-бежевого цвета и модных туфлях на высоких каблуках, аккуратно причесанный и побритый, с желтым портфелем в руке, он стоял на перроне, не обращая ни малейшего внимания на окружавшую его толпу. Я вспомнил, как однажды прокурор назвал его «фартовым парнем», и подумал, что точнее о нем не скажешь. Встретившись, мы поздоровались и направились к поселку пешком, через лес.
Осень была в разгаре. Над прозрачными кронами деревьев виднелось прохладное голубое небо. Золотая листва шуршала под ногами. Неожиданно нам стали попадаться грибы, и вскоре мы настолько увлеклись, собирая их, что не заметили, как оказались на берегу реки, рядом с маленьким, обшитым вагонкой домиком.
– Это наша «гостиница», – объяснил Гусько. – Кроме нас, здесь не будет никого. Отсюда до поселка минут десять ходьбы, но есть и телефонная связь! Настоял, вчера поставили аппарат.
Он снял замок с входной двери и через крохотную прихожую провел меня в единственную комнатушку. В ней стояли две железные кровати, старенький канцелярский стол и несколько ветхих, обитых клеенкой стульев.
– По собственному опыту скажу – жить можно, тепло даже зимой, а работать придется по выбору – либо тут, либо в милиции, – успокоительно заметил Гусько. – Пока же займемся жарехой.
Он принес дров, затопил плиту, потом подошел к окну.
– Посмотрите, – подозвал он меня. – Видите на берегу рубленый дом? Это магазин. Чуть дальше, над ним, – отделение милиции, еще дальше – жилые дома поселка, исполком, почта, клуб, парикмахерская. Левее, за лесом, – комбинат.
– Магазин охранялся? – спросил я.
– Нет. Днем там полно народу, а ночью над входом в отделение милиции горит лампочка. Она освещает магазин, правда слабовато.
Не желая тратить время попусту, я попросил у Гусько дело и занялся чтением, попутно делая выписки. Оно открывалось заявлением заведующей магазином Васильевой от 2 декабря. Я кратко записал его содержание: «Утром пришла на работу вместе с продавцами. Замок на входной двери был исправен, контрольна цела. В зале беспорядка поначалу не обнаружили. Потом заметили, что исчезли все наручные часы и фотоаппараты. Стали смотреть внимательней. Не нашли еще десяти транзисторных приемников, семи шерстяных кофт, двух чемоданов. Увидели, что нарушена выкладка духов и одеколона. Часы, фотоаппараты и приемники исчезли с паспортами, поэтому сведений об их номерах не осталось. Сбегала в милицию, вернулась в магазин и стала думать, как же проник преступник? Тронула вторую дверь, в пристройку для тары. Она оказалась открытой, врезной замок взломан. В пристройке было выбито стекло».
Далее шло донесение о применении служебно-розыскной собаки: «На место прибыли в 12 часов. Собака от пристройки повела вдоль реки, потом к противоположному берегу, но посередине, где выступала вода, след потеряла». К донесению прилагалась схема.
«…Протокол осмотра места происшествия. Осмотр проводился Гусько 2 декабря, начат в 21 час, окончен в 22 часа. Присутствовала Васильева. Следы обуви возле пристройки оказались занесенными снегом. В двух метрах от нее, у дерева, обнаружены два осколка стекла, соответствующие по размеру пустому проему во фрамуге. Изъяты. Опылены порошком. Выявлены следы пальцев рук. Папиллярные узоры неразличимы. От земли до фрамуги – два метра. Внутри пристройки, под фрамугой, – стол. Дверь из пристройки в торговый зал приоткрыта. Ригель врезного замка чуть выступает. На нем горизонтальные царапины. Замок тоже изъят. Васильева указала места, где лежали похищенные товары. Они зафиксированы на фотоснимках и схеме».
«…Показания проводника собаки. Он видел на снегу следы двух человек. Одни – характерные для кирзовых рабочих сапог примерно 41-го размера, без индивидуальных примет, по-видимому, новых, вторые – от резиновых, примерно 43-го размера, с рисунком «елочка» и стоптанными каблуками. К реке вели следы кирзовых сапог. Собака шла по ним. Других не было».
…Справка от 3 декабря. Гусько собрал актив поселка, рассказал о преступлении, попросил оказать ему помощь.
За ней – датированные 3 декабря показания Голованова, 43 лет, рабочего, дружинника: «Вчера вечером зашел сосед – кочегар Дверцов. Был навеселе, стал хвастаться тем, что несколько дней назад, в кочегарке, слышал разговор между кочегаром Мошкиным и плотником Храпцовым. Говорили о магазине, о том, что он не охраняется и его можно легко обчистить. С ними был кочегар Горобец. Заметив Дверцова, разговор прекратили, угостили водкой, Храпцов ушел, а Мошкин и Горобец остались на вахте».
За показаниями Голованова шли протоколы допросов Дверцова и Горобца. Дверцов целиком отрицал их. Горобец вел себя уклончиво: да, он действительно дежурил с Мошкиным, выпивал с ним и Храпцовым в кочегарке, видел там Дверцова, но никакого разговора о магазине и о том, что его можно обокрасть, не слышал.
….Допрос Коровина, шофера 27 лет, ровесника Мош-кина и Храпцова, живущего в общежитии в одной комнате с ними, в прошлом рязанского тракториста: «1 декабря, близко к полуночи, разбудил Храпцов и позвал на «дело». Идти отказался, но заснуть уже не смог. Через час в комнату снова зашел Храпцов, на этот раз вместе с Мошкиным, которого вечером забрали в милицию. Оба были пьяные, по пояс мокрые. Мошкин был обут в резиновые сапоги не своего размера, а Храпцов, как всегда, в кирзовые. Разбудили Боярского. Стали угощать одеколоном «Белая ромашка» и шоколадными конфетами «Ласточка». Затем Мошкин ушел. Храпцов лег спать, а утром, когда все заговорили о краже, дал понять, что магазин «заделали» они».
…Показания Мошкина: «1 декабря после работы выпил и сильно захмелел. Был отправлен в милицию, для вытрезвления, помещен в камеру, где находился до утра. Ни в какой краже не участвовал, да и участвовать не мог. Узнал о ней после того, как выпустили. Резиновых сапог не имел и ни у кого не брал. За три дня до кражи дежурил вместе с Горобцом в кочегарке, видел там Храпцова, выпивал с ними, однако о магазине не разговаривал, намерения обокрасть его не высказывал».
Мошкин выдвигал алиби: как это, сидя в милиции, под охраной, можно совершить кражу?! Попробуйте докажите.
…Протокол допроса Храпцова был тут же. «Никакого разговора о краже, – заявлял Храпцов, – во время выпивки в кочегарке никто не вел. Вечером 1 декабря я одновременно с Боярским лег спать, ночью не просыпался и из комнаты никуда не выходил». Оглашенные ему показания Коровина он расценивал как оговор.
…Интересными оказались показания каменщика Боярского, 25 лет: «1 декабря лег спать около 23 часов, одновременно с Храпцовым. Коровин уже спал. Ночью проснулся от шума. Свет в комнате не горел. Спросил ходившего: «Ты же ложился спать, а теперь опять ходишь?» Ответа не расслышал и вновь заснул».
…Помощник дежурного по милиции сержант Кукин, или «дядя Вася», как называли его в поселке, утверждал, что всю ночь с 1 на 2 декабря пьяный Мошкин провел в камере, и если выходил из нее, то не более, чем на несколько минут, по нужде.
…Через неделю после первого допроса Коровин был допрошен вторично. Он начисто отказался от своих показаний, объяснив это тем, что раньше оговаривал Мошкина и Храпцова. Причины оговора на допросе не выяснялись.
Во время третьего вызова Коровин вернулся к первоначальным показаниям и пояснил, что отказаться от них его принудили Мошкин и Храпцов, которые постоянно, как правило без свидетелей, угрожали ему убийством. Только однажды эти угрозы слышал рабочий Малюгин, он жил в соседней комнате и приходил тогда за чаем.
…Далее шли очные ставки. Коровин уличал Мошкина и Храпцова и в краже, и в угрозах убийством, уличал стойко, последовательно, но на следующий день опять заявил, что оговорил их. В дальнейшем он уже не менял эту позицию.
Не дала результатов и проведенная, что называется «под занавес», очная ставка между Головановым и Двер-цовым. Каждый из них повторил то, что говорил ранее.
Вторая половина дела состояла из инвентаризационных описей, характеристик и разного рода справок. Перелистав их, я поморщился:
– Сколько времени потрачено на собирание этих справок! Не лучше ли было поглубже да поосторожней проверить показания Коровина, посидеть подольше с Боярским, допросить Малюгина? А инвентаризационные описи вы смотрели?
– Нет, – ответил Гусько.
– Зря. Из нескольких сотен строк в них имеют значение две. Коровин говорил, что его угощали одеколоном и конфетами, не так ли? Посмотрите – «Белая ромашка» и «Ласточка» в магазине действительно были!
– Мало ли что говорил Коровин! Мошкин-то сидел во время кражи в милиции! – ухмыльнулся Гусько. – А если Коровин сам совершил ее и оклеветал своих товарищей? Кражу могли, кроме того, инсценировать с целью сокрытия недостачи работники магазина, она могла быть делом рук неизвестных нам лиц и так далее. Я проверил параллельно все версии. Нас, кажется, этому учили?
Я почувствовал, что мы говорим на разных языках, и подумал: «Бедный Мегрэ, бедный комиссар парижской уголовной полиции! Как жалок ты рядом с твоим ученым коллегой!»
Гусько между тем оживился:
– Может, перекусим? Жареха готова. Ладушки?
Он поставил на стол сковородку с грибами, потянул носом воздух и, крякнув от предвкушаемого удовольствия, провел кончиком языка по черной ниточке усов:
– Прелесть! Неплохо было бы по стопарю пропустить!
Пока я думал, как отреагировать на это предложение, Гусько сунул руку в портфель, вытащил из него бутылку водки и, подбросив ее, поставил на стол:
– Столичная! За удачу.
Мы выпили и навалились на жаркое. Насытившись, Гусько откинулся на спинку стула, поправил кок надо лбом:
– Честно говоря, не думал, что ты такой доступный…
– Почему же?
– Да так. Много о тебе слышал, но никогда бы не поверил, что с тобою можно вот так, запросто, выпить… Хочешь на валторне поиграю?
– Где ты взял ее?
– В местном клубе.
Он достал из-под кровати валторну, продул мундштук и, положив пальцы на клапаны, извлек из нее несколько печальных звуков:
– Узнаешь?
– Пока нет..
– Ну как же? Вальс из Пятой симфонии Петра Ильича…
– Спасибо, что подсказал.
– Выходит – разучился. Редко играю… Служба…
Гусько засунул валторну под кровать, вновь взял портфель, порылся в нем и показал мне фотокарточку:







