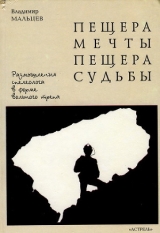
Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"
Автор книги: Владимир Мальцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
И самый любопытный эпизод этой истории с камином заключался в том, что мазохизм тоже заразителен. Возвращаясь в лагерь, мы дошли до развилки между нашим вариантом (стометровой узостью) и самаркандским (пятиметровым отвесом), и присели отдохнуть. И тут черт меня дернул предложить не ползти, а спуститься по этому же репу. Правда, не дюльфером, а несколько более щадящим способом – «коромыслом», при котором веревка наматывается в два оборота вокруг растянутых в стороны рук. С главным аргументом, что пять метров – не двадцать пять. Впрочем, пяти тоже хватило за глаза. Ощущение презабавное.
* * *
Неотъемлемую особенность экспедиций того времени составляла война с вечно ломающимся светом. Собственно, эта война не тогда началась, и поныне отнюдь не закончилась – надежных фонарей для спелеологического применения как не было, так и нет. Но период начала восьмидесятых проходил под знаменем максимального применения опыта из других пещер, на самом деле совершенно непригодного в Кап-Кутане, что порой доводило ситуацию до совершенного абсурда.
Основная мода заключалась в применении относительно дешевых и емких геофизических батарей 145У и 165Л. К тому же не нуждающихся в корпусе с контактами – они выпускаются исходно залитыми в толстый слой эластичной смолы и снабжены не прижимными контактами, а достаточно длинными проводами. Смотал три штуки изолентой, прикрутил провода, положил в карман и пошел. В Снежной – так. В Оптимистической – так. В сотне других больших пещер – тоже. В Кап-Кутане же изломанные узкие лазы их немедленно разбивают. Причем нет такого места на человеческом теле, чтобы прикрепленный к нему блок не бился бы об камни.
Именно тогда появилось определение «электробычок». Означающее фонарь, вроде бы и электрический, вроде бы и работающий, но дающий примерно столько же света, сколько сигаретный окурок (бычок). Последние дни любой экспедиции проходили исключительно при свете электробычков. Многие пытались брать до двух десятков полудохлых батарей, соединять их вместе и запитывать налобник не от компактного блока в кармане, а от несомой в руке авоськи с батарейками, но это не помогало. Бычок – он всегда бычок.
Все это характерно не только для геофизических батарей. Никакие сухие батареи долго не выживают при постоянном долбеже, и потребовались годы, чтобы прийти к пониманию того, какими батарейками лучше пользоваться и к какому органу их привязывать. Причем – главное понимание заключалось в том, что все это строго индивидуально. У кого-то наиболее болезненная часть тела – затылок, и для него оптимальны маленькие батарейки, висящие на эластичной ленте на затылке. Кто-то, пролезая через любой шкурник, оберегает правую подмышку – там и нужно устроить карман для блока. И так далее.
Проблемы со светом не ограничиваются стойкостью батарей. Контакты в фонарях от влажности и кислот в воздухе пещер быстро окисляются и начинают шалить, а с рефлекторов облезает амальгама. Многие фонари после первой недели пребывания под землей приходят в такое состояние, когда никакими заменами батарей и чистками контактов их нельзя заставить работать нормально. И зависит это даже скорее не от системы фонаря, а опять-таки от индивидуальных особенностей спелеолога. У некоторых ни один фонарь не работает из принципа. Так, Степа Оревков всегда издали определим по потрясающей тусклости электробычку. Хотя тратит чуть ли не больше всех времени на переборку и чистку света. А Вятчин даже ввел свои взаимоотношения с фонарями в систему – обвешивается пятью бычками с разных сторон и гордится тем, что хоть один из них всегда светит именно в ту сторону, в которую нужно, а если есть потребность посмотреть вдаль, так на то есть напарник с мощным светом. Стучание фонарем по ближайшей стене или по собственной голове в надежде сбить с контактов окислы и грязь – один из наиболее развитых инстинктов спелеолога. Равно как и переборка фонаря на каждом перекуре, когда зажигается свеча, имеющаяся в кармане у каждого. Некоторые связывают проблему с тем, что в нашей стране фонари бытовые, а вот западные невероятно дорогие фонари, выпускаемые специально для спелеологии, работают надежнее. Черта с два. Законы физики одинаковы, материалы тоже, а мелкие детали конструкции роли не играют. В любой пещере любой страны громкий стук фонарей об стены – непременный атрибут подземных экспедиций. Равно как и традиционные издевательства над «high technology», пускаемые в ход, когда оказывается, что прижимная пружина для батарейки поржавела и ослабла, и в роскошно изданный фонарь приходится вбивать подобранный с полу камень.
Примерно то же самое можно сказать и о карбидных лампах, вошедших в моду за последние годы. Пока можно идти пешком или лезть по веревке, они обычно работают, но когда приходится ложиться на пузо и ползти вниз головой – все становится еще хуже, чем в электрическом случае.
Большинство журналистов, повествующих о пещерах, в действительности никогда в них не были, а пишут с рассказов спелеологов, для которых борьба со светом настолько в крови, что является чем-то само собой разумеющимся и не заслуживающим никакого внимания. Наверное, именно поэтому у нас в свое время установилось длительное сотрудничество с Алексеем Сергеевым – единственным журналистом, начавшим разговор о пещерах с того, что перво-наперво нужно самому слазить посмотреть. И написавшим с первой же попытки единственную за последнее десятилетие статью, от которой спелеологов не тошнило. Начинающуюся живописанием того, как он по мокрой глине вниз головой проскользнул во вход, и на этом фонарь немедленно потух.
* * *
Вообще журналисты под землей заслуживают особого рассмотрения. Сами спелеологи, из-за природной лени и привычки жить в свое удовольствие, чрезвычайно редко пишут что-нибудь кроме научных статей. А без доступных широкой публике печатных изданий просто невозможно создать в обществе атмосферу понимания ценности и уязвимости мира пещер, без которой пещеры не сохранить. Для человека с улицы, пещера – нечто, находящееся вне его мира и никаких эмоций не вызывающее. Если он не читал про пещеры и не видел фотографий, ему глубоко плевать на их судьбу. А она зависит от каждого. Будет ли пацан, залезший в попавшуюся ему в лесу дыру, крушить сталактиты на сувениры или просто полюбуется, во-первых зависит от того, был ли хоть один разговор о пещерах в его доме, и во-вторых – в его школе. И именно поэтому спелеологам, если они действительно влюблены в подземный мир, без помощи журналистов не обойтись.
И главная проблема здесь возникает как раз в том, что для журналистов, людей в массе достаточно образованных и начитанных, пещеры априорно являются чрезвычайно привлекательным и благодарным объектом, к которому под маркой пресловутой таинственности подземного мира можно прицепить любое количество измышлений. А читатель проглотит и не поморщится. И весьма нелегко найти такого журналиста, который не будет гнаться за дешевыми сенсациями. Такого, который с немалыми трудами действительно войдет в тему. А таких на удивление мало. Зато если удастся найти – он сразу станет полноправным участником любой, в том числе самой сложной экспедиции, и по возвращении напишет действительно любопытный и серьезный материал.
К тому же популяризация пещер – палка, как и водится, о двух концах. С тем же Кугитангом высокий уровень популярности помог избавиться от самоцветчиков, но создал и не менее опасное явление. Бестолковость экспедиций начала восьмидесятых привела к тому, что многие группы, не удовлетворенные результатами, свернули любую поисковую и раскопочную активность в регионе. Зато стали пользоваться популярностью Кугитанга как приманкой для новичков. Начитавшиеся газетных материалов про сумасшедше красивые пещеры, туристы косяками бежали в те спелеосекции, которые поднимали Кугитанг в качестве флага, реально действуя при этом в совсем других районах. А те пытались привить этим толпам любовь к пещерам, вывозя их чуть ли не сотнями слоняться с фотоаппаратами по Кугитангу. Своеобразный вариант коммерческого туризма, в котором в качестве платы выступают укоренившиеся в спелеологии новички, а также дотации со стороны профсоюзов. А массовый коммерческий туризм в не оборудованных специально пещерах несет им такую же верную гибель, как и неприкрытая разделка на сувениры.
* * *
Наверное, я не вполне прав, но всерьез считаю, что любое посещение человеком необорудованной пещеры приносит ей тот или иной ущерб в любом случае. Если спелеологическая группа не прилагает усилий к минимизации этого ущерба и к компенсации его новыми открытиями или новым знанием в какой-либо еще форме – ей следует немедленно бросить спелеологию, ограничившись туризмом в оборудованных пещерах.
И единственный способ сохранить уникальную пещеру – создать заповедник с научным стационаром. Способный регулировать посещаемость пещеры, балансировать неизбежно наносимый ей ущерб с текущими темпами новых открытий и появления нового знания. Накапливать собираемую спелеологами уникальную информацию и не допускать потери даже малой ее толики. Координировать действия различных групп. И при этом – управляться в равной степени как государственными чиновниками, так и собственно спелеологами. При крене в ту или другую сторону подобные системы нежизнеспособны.
Примерно такая организационная схема использована в комплексах наиболее уязвимых пещер мира, как, например, в том же Карлсбадском Национальном Парке в США. И действует более или менее неплохо. И чрезвычайно много сил, как моих, так и других спелеологов, было положено для «пробивания» чего-либо в этом роде именно на описываемом переходном этапе.
* * *
Вернемся к исследованиям. Несмотря на нежелание пещер идти, наиболее стойкие группы не сдались, продолжая тратить массу времени на поиски, раскопки и научные исследования. При этом во многом сменился сам стиль спелеологии – выработался некий особый стиль, характерный только для пещерной системы Кап-Кутан. Например, практически отмерло само понятие группы или команды как замкнутого постоянного коллектива. Возникло нечто типа ассоциации исследователей Кап-Кутана, в которой выделилось несколько исследовательских программ со своими лидерами. И только на стадии планирования каждой конкретной экспедиции формировалась команда – присоединялись те, кого устраивали сроки и ведущая программа. Часто вместе со своими более мелкими программами.
А главное – появилось достаточное понимание пещер, чтобы начиная с 1984 года они начали идти. И именно этот год я считаю годом рождения той специфической кап-кутанской спелеологии, которой в огромной части и посвящена эта книга.
СЛОВО О СЕПУЛЬКАХ
Сепульки – играющий значительную роль элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Интеропия (см.).
Станислав Лем
Продолжая фразу из эпиграфа, заметим – а также спелеологов. Объяснить, что это такое, без предварительной подготовки не так просто, поэтому для начала поговорим о спелеологическом жаргоне в более общих чертах.
Естественным образом, как и всякая другая группа по интересам, спелеологи имеют свой собственный жаргон. Обойтись без его использования в данной книге невозможно, поэтому рассмотрим его хотя бы частично. Тем более, что по моему представлению, он весьма интересен и сам по себе.
Спелеологический жаргон, как и большинство других, имеет довольно много заимствований из морского, альпинистского, армейского и еще нескольких. Естественно, в творческой доработке. Кап-Кутанский жаргон является одним из вариантов эволюции базового спелеологического, причем преимущественно в сторону развития абстракций. Предметом нашей особой гордости является то, что некоторые (правда, немногочисленные) понятия перешли ту грань, за которой они являются не просто элементами языка, а скорее уже средствами объемлющего метаязыка. Собственно, это та же грань, которая разделяет настоящий русский мат, являющимся метаязыком в полном смысле этого слова, и мат американский, представляющий собой просто набор слов со строго физиологическим смыслом. И – та грань, за которой о жаргоне нельзя говорить как о наборе специальных терминов, а скорее как о системе понятий, по необходимости порождающих термины.
Тем самым простой словарь терминов, типа приводимого во многих книгах про морские путешествия, занял бы весьма много места, а кроме того – совершенно не обеспечил бы понимания сути. Я попробую на примере всего нескольких понятий, вышедших на уровень метаязыка, изложить главные принципы формирования Кап-Кутанского жаргона, а те его элементы, которые не вошли в метаязык, оставшись просто техническими терминами – пояснять по тексту.
* * *
Наипростейшим понятием, с первого дня даже входящим в мироощущение любых участвующих в наших экспедициях иностранцев, является понятие плюшки. Исходно оно возникло в спелеогруппе Михаила Переладова еще до того, как они занялись Кап-Кутаном. Согласно их концепции тех времен, еда подразделяется на «базло» (то, что едят), «жизло» (то, что пьют), «грызло» (то, чем перекусывают на выходе) и «плюшки» (остальное). Первые три понятия отмерли, а четвертое развилось, и как! Еда в подземных экспедициях строго рассчитывается по энергетической ценности, весу, быстроте приготовления, надежности хранения и прочим параметрам с не меньшей придирчивостью, чем в тяжелейших альпинистских экспедициях, а потому выверена по порциям и не всегда вкусна. Основное назначение еды только в поддержании функций организма, и не более. Но – без приятных мелочей, в том числе гастрономических, жизнь скучна, а спелеологи – люди веселые. Так что питания строго по раскладке просто не бывает. Любой же продукт, который можно съесть или выпить, но при этом не входящий в рассчитанную продуктовую раскладку, по определению является плюшкой. Например, кусок колбасы или бутылка пива.
Происхождение плюшек разнообразно. Так, по пути от Москвы до Туркмении (3 дня в поезде) весь состав экспедиции питается плюшками, взятыми из дому. На обратном пути – плюшками, купленными по дороге, а также оставшимися от расплюшенных модулей. Что это такое? Очень просто. Продуктовые запасы, вместе с топливом, светом и кое-чем другим, упаковываются в специального назначения сепульки (см.) по норме 6 человеко-дней. Такая сепулька называется модулем жизнеобеспечения или просто модулем (см.). Обычно, по причине растяжения суточного цикла, какие-то из компонентов модуля остаются не съеденными. Как только основная часть закладки модуля заканчивается, остаток «расплюшивается», то есть объявляется плюшками. Целые оставшиеся модули либо базируются (см.), либо расплюшиваются в момент выхода из пещеры. Несъедобные элементы расплюшенного модуля (например, свечи или топливо) также по аналогии считаются плюшечными, то есть сверхнормативными. Обобщая далее, получаем, что плюшкой является также любой запасной предмет. Например, плюшечные носки.
Плюшкам не чужд дуализм: несмотря на свое определение как предметов дополнительных и необязательных, они законным образом входят и в расчетную продовольственную раскладку. В росписи стандарта, что должно быть заложено в каждый модуль, имеется место для плюшки с допустимыми весовыми границами. В этом случае автор каждого конкретного модуля закладывает по своему усмотрению нечто, должное являться приятным сюрпризом для всех. Отсюда еще одна ипостась понятия плюшки – как приятного сюрприза. В частности, любой предмет или явление, обладающее более приятными свойствами, чем оно следует из его внешнего вида, плюшисто.
Следующим универсальным понятием является понятие базирования, у истоков которого стояли спелеологи группы Александра Морозова, исследовавшие пропасть Снежную на Кавказе. Эта группа вообще основала стиль неспортивной и неторопливой спелеологии, который (правда, с существенной адаптацией) и явился единственным приемлемым для пещеры Кап-Кутан. Естественно, многие методы и традиции этой группы перекочевали к нам. Экспедиции в Снежную были регулярными и длительными, что с очевидностью привело к необходимости оставлять между экспедициями склады снаряжения и не съеденных модулей. Отсюда и взялся этот термин, и, как очень быстро выяснилось, он оказался не просто синонимом слова «заскладировать», а вместил в себя гораздо более широкое и интересное понятие.
* * *
Термин «забазировать» в равной степени охватывает как складирование предметов, так и их потерю. А заодно – и преднамеренное выбрасывание. Очевидно, что заскладированные вещи не всегда находятся, а если и находятся, то далеко не всегда в пригодном к употреблению виде. Что менее очевидно, обратное тоже верно. Например, когда Чарли Сэлф первый раз участвовал в нашей экспедиции, он решил не поверить информации, что в Кап-Кутане жарко, и взял утепленный комбез. [7]7
В той же идеологии, так как теоретически оптимальная одежда для лазания по пещерам есть специальной конструкции комбинезон, любая верхняя одежда, используемая в пещере, будь то свитер с джинсами или плавки, все равно будет комбезом.
[Закрыть]Собственно, в чем-то он был прав. Жарких пещер мало, а жара – понятие относительное. Чарли ранее дважды прислушивался к подобной информации о других пещерах, брал легкий комбез, и попадал впросак. На этот раз получилось наоборот. Даже в тонком хлопчатобумажном комбезе сепуление (см.) обходится человеку в пару литров пота, а тут подбитый мехом. Бедняга. К счастью, вечером зашел в гости Андрей Вятчин, экспедиция которого как раз завершалась, и рассказал в числе прочего о том, что забазировал на помойке свой начавший кончаться комбез. Естественно, мы его разбазировали. Вообще, с помойки очень часто приходится разбазировать предметы, попавшие туда как случайно (выносящий помойку взял не ту сепульку), так и преднамеренно (не хватило света, а севшие и забазированные батарейки, если их скрутить по десятку, еще денек поработают). С базированием «методом потерь» все еще проще. Под землей света маловато, все нужные предметы равномерно обмазаны грязью, и потому базируются с легкостью. Несмотря на все ухищрения к тому, чтобы каждый предмет был на виду. Все вещи как бы живут своей собственной жизнью, и базируются (разбазируются) по своему усмотрению.
Способы базирования предметов плавно переходят друг в друга. Предмет, забазировавшийся в лагере, запросто может разбазироваться на помойке. Самозабазировавшийся предмет без зазрения совести может разбазироваться через год, а то и два, несмотря на тщательную приборку площадки лагеря. Причем в самом неожиданном месте, хотя чаще просто на складе. При генеральной уборке (после выноса лагеря) каждый участник процесса самостоятельно назначает место базирования любого найденного предмета – склад или помойка. Вне зависимости от того, понимает ли он, что это за предмет.
* * *
Вот и дошли до сепулек. Естественно, термин украден у Лема, причем, когда он впервые стал применяться в спелеосекции Московского энергетического института, то относился только к пионерским рюкзачкам-колобкам, накупленным в качестве транспортных мешков к штурму пещеры Географическая на Кавказе.
В наше время сепулькой называется любой предмет, перемещаемый по пещере как отдельное место багажа. Спелеолог не может иметь на себе ни рюкзака (ни в одну щель не пролезет), ни сумки, ни даже чего-либо объемистого в карманах. На себе он имеет кроме одежды только налобник (головной свет), [8]8
Всякий осветительный прибор называется просто светом – ручной фонарь, головной фонарь, свеча, спички и др.
[Закрыть]а все остальное, вплоть до сигарет, идет отдельными сепульками такого размера, который позволяет вписать их в любые узости, и такого веса, при котором их можно передавать друг другу одним пальцем (иначе в заклинивающих щелях сепуление невозможно).
Специально изготовленные сепульки, они же транспортные мешки в базовой спелеологической терминологии, представляют из себя цилиндрические мешки диаметром 15–20 см и длиной 50-100 см, изготовленные из прочной и скользкой непромокаемой ткани, снабженные несколькими ручками и лямками. Сепульку можно волочить за любой конец, нести за боковую ручку подобно чемодану, одевать через плечо или пристегивать к веревке. На подходах к пещере сепульки просто пристегиваются резинками от эспандера к раме с лямками от станкового рюкзака. Внутри сепулька обычно выстилается пенополиуретаном или поролоном для более мягкого взаимодействия с острыми выступами стен, и, в случае ожидаемой воды, комплектуется герметичным вкладышем. Существуют сепульки особого назначения. Маршрутная сепулька есть маленький мешочек для сигарет, компаса и запасного света, носимый на запястье или пристегнутым к поясу. Впрочем, на сложных участках он все равно передвигается отдельно. Стратегические сепульки предназначены для передвижения негабаритных грузов, например спальных мешков, и имеют увеличенный размер, а, так как свято место пусто не бывает, и значительный вес.
Особую роль играет Дед-Морозовская сепулька. Это – безразмерный мешок из парашютного капрона, находящийся при транспортировке лагеря изначально в кармане последнего в цепочке. По мере сепуления в нее собирается все, что вывалилось из карманов идущих впереди, или из порвавшихся сепулек, или было забазировано на перекурах. По завершении сепуления происходит раздача. До изобретения Дед-Морозовской сепульки любое длительное сепуление начиналось с одним числом сепулек, а заканчивалось с существенно большим. Отдельными сепульками доезжали запасные света, кружки, луковицы, мышеловки. Такая мелкотравчатость страшно затрудняла выяснение на каждом перекуре дежурного вопроса, не забазировалось ли чего по дороге. Подсчет количества сепулек на контрольных шлюзах только дезориентировал, ибо на каждом шлюзе оно увеличивалось. Ввод в эксплуатацию Дед-Морозовских сепулек изменил ситуацию качественно.
Понятно, что с вводом такого определения сепульки, процесс передвижения в случаях, отличных от тех, когда весь багаж как в турпоходе переносится на себе в одну ходку, автоматически стал называться сепулением. И сразу – термин разросся в самостоятельное понятие, приобретя три основных смысла и десяток помельче. Во-первых, сепулением стали называть выход с исключительной целью переноски груза (заброска или выемка подземного лагеря, или навесок, или склада подводной снаряги). Во-вторых, процесс переноски груза в несколько ходок. В-третьих, способ передвижения груза, связанный с передачей его по цепочке. Последний вариант с легкостью обобщается на многое, и просьба, скажем дать прикурить, обычно выражается в форме «сепульнуть спички». Все три основных значения легко распознаются по контексту, и никакой путаницы не возникает. Глубина и охват понятия о сепулении особенно полно ощущаются на засепуливании подземного лагеря – когда люди еще не акклиматизированы, багажа куча, а все до единой ипостаси, смыслы, и оттенки понятия сливаются воедино.
* * *
Пожалуй, я для примера детально опишу засепуливание подземного лагеря в зал Варан в пещере Кап-Кутан Главный, одно из самых тяжелых в стандартном ассортименте. Поезд прибывает в Чаршангу ночью. Часа четыре поспать обычно можно, но не больше. Поутру находится и арендуется грузовик, добрасывающий экспедицию практически до входа в пещеру. Сепульнуться от грузовика до входа занимает от силы полтора часа, поэтому к 10–11 часам утра мы уже у входа. Готовится завтрак, перепаковываются сепульки. Все, что не будет нужно на подземном лагере, упаковывается отдельно и готовится к базированию. Дать себе денек на акклиматизацию и отдых нельзя – силы еще есть, а после нормального сна их не будет пару дней. Расслабиться и начать акклиматизацию можно будет только на лагере.
Следующая фаза – до Большого Завала. Это легко и просто, а потому – это еще не совсем пещера, хотя и темно. Во-первых, пешком. Сепульки можно нести на станках, поэтому двух ходок обычно хватает. Во-вторых, сухо и прохладно. После того как самоцветчики пробили в пещеру несколько штолен, в некоторых участках пещеры резко нарушился микроклимат, воздух стал суше и прохладней. Как здесь. Вместо нормальных 20–22 градусов – около 15, да и влажность не выше 30 %. Прямо курорт. Поэтому до привала на Большом Завале доходим практически не вспотев. Несмотря на то, что это около километра по пещере, причем с суммарным перепадом высот около ста метров. Большой Завал пока служит барьером для дальнейшего распространения нарушений микроклимата. Граница, в фольклоре называемая экватором, проходит метров на пять ниже перевала и чрезвычайно резка. Один шаг – и нормальные условия превратились в баню. Вот теперь мы в пещере.
С завала есть несколько ходов, наш – крайний левый, ведущий на нижние этажи системы. Найден он был чрезвычайно забавным образом. Как-то в 1981 году поехала в Кап-Кутан группа подмосковных катакомбенных романтиков-алкоголиков, возглавляемая неким Рассоловым по кличке Аленушка. Прослышав о том, что главная галерея Кап-Кутана заканчивается в зале Медузы глиняной пробкой, взял Аленушка лопату, принял порцию, и отправился копать. Большой завал расположен в гигантском зале, не просвечиваемом совершенно. В любую сторону видны лежащие глыбы размером от метра до десятков метров и тропинки между ними, натоптанные туристами. Короче, покрутился Аленушка вокруг глыб с полчасика, уперся в стенку, решил, что уже пришел в зал Медузы (до которого еще метров 600), и начал искать, где бы покопать. Некоторым людям везет. Он немедленно наткнулся на воронку, из которой, как ему показалось, тянуло ветерком, и копнул. Открылась щель, из которой и в самом деле дуло. Так было найдено одно из крупнейших и интереснейших продолжений пещеры.
От воронки начинается первый сепулькарий длиной 210 метров, называемый Сучьи Дети в честь первооткрывателей, заставивших своими действиями всех остальных спелеологов лазить по этому садистскому шкурнику. Сепулькарий по определению – транспортная тропа в узостях, где приходится строить передвижение весьма своеобразно. На каждом этапе весь состав экспедиции распределяется между очередной парой последовательных мест с объемом, достаточным для складирования всех сепулек. Если количественный состав группы позволяет, сепульки могут просто передаваться с рук на руки от накопителя до накопителя, но чаще каждому приходится обслуживать метров по пять сепулькария и мотаться эти пять метров туда-обратно с каждой сепулькой. Последнее особенно неприятно, так как сепулькарий Сучьи Дети славен своими шариками. Это такие гипсовые конкреции, имеющие размер и форму грецких орехов, чрезвычайно жесткие, и растущие только на полу в узких проходах. С точки зрения кристаллографии и эстетики они весьма интересны, но до изучения их достоинств руки не доходят. Потому что воздействие этих шариков на локти и колени совершенно поразительно. Не-спелеологу трудно понять глубокий образный смысл такого понятия, как зубная боль в коленках. И никакие наколенники не спасают. С помощью тех же шариков они будут на второй день просто оторваны вместе с соответствующими частями комбеза. Сепулек обычно бывает по 4–5 на человека, так что уже на четвертом – пятом шаге сепуления люди переключаются на автопилот и дальше практически перестают что-либо соображать. Все внимание уходит на оборону своих локтей и коленей.
На сепулькарии Сучьи Дети обычно устраивается от 11 до 16 шагов сепуления. На первом же есть каскад узких вертикальных колодцев глубиной около 15 метров. Нижний выкат каскада устроен так, что принимающему приходится таскать каждую сепульку метров восемь по очень неудобному лазу с острым продольным ребром на полу. Дабы не принимать на голову камни и сорвавшиеся сепульки. И это ползание вырубает его на пару часов полностью. Поэтому – он пропускает остальных вперед, и до конца сепулькария получает позицию Деда Мороза. Из последующих шагов сепуления – четыре с шариками. Причем длинных, и тем самым неудобных.
Ползая по шарикам, воспеваем славу красноярцам, разок просепулявшим лагерь на Баобаб. Красноярцы – совершенно особая порода спелеологов, с особыми традициями и особыми методами. Суровый народ. Одним словом, сибиряки. Одна из их особенностей – использование в качестве сепулек своеобразных алюминиевых ящиков восьмигранного сечения, так называемых першингов (по аналогии с американскими ракетами средней дальности). Впрочем, на гробы оно похоже несколько больше. Утверждается, что они немногим тяжелее обычных тканевых, а застревают меньше. Собственно, это их дело, но остальным тоже хорошо – после просепуливания красноярцев с першингами шарики значимо пообтесались и теперь достают уже меньше.
Часа через три выходим из сепулькария в зале МГРИ. Большой перекур. Здесь – развилка. Часть группы уйдет на лагерь в зале Баобаб, являющийся базовым для исследования Б-подвала и некоторых других продолжений. До него всего метров двести пешком. Поэтому часть этой команды, кто покрепче, помогут сепуляться нам, а остальные поставят лагерь. Количество груза уменьшается и за счет того, что часть модулей базируется здесь же на развилке. В первую очередь идут личные сепульки, снаряжение и дней на пять модулей. Остальные подтащатся в ходе экспедиции.
Следующий перегон – метров 200 несколькими ходками на полусогнутых. История этого участка пещеры тоже достойна пера. Северная стенка зала МГРИ несколько лет подряд считалась непроходимым завалом. Многие искали хотя бы копаемую щель, тратя на это кучу времени. Наконец, Олег Бартенев ее нашел: 150 метров удивительно костоломного прохода, во многих местах которого можно проползти только на выдохе, и – большой зал. Естественно, первая реакция – оттопографировать периметр зала. На чем Бартенев и свалился обратно в зал МГРИ. Пешком. По проходу, нигде не уже двадцати метров и нигде не ниже полутора. Просто в зале МГРИ этот проход расположен под потолком и замаскирован глыбами. Причем на той стенке, которая кажется не завальной, а сплошной. То есть – в том самом единственном месте, в котором его никто не искал по причине полной бессмысленности.
За концом пешей пробежки маленький (шагов на семь) сепулькарий по завальному участку, не особо даже и узкому, но весьма костоломному. В самом хитром месте участка – маленьком очке [9]9
Совсем узкие места в пещере подразделяются на очки – короткие узости, в которые нужно только вставиться, и уже там, и шкуродеры или шкурники – длинные узости, в которые нужно тискаться. Более сложные узости имеют и специфические названия – так, шкурник с мокрой глиной – уже не шкурник, а клизма.
[Закрыть]в потолке коридора – разбираем пробку. Северный район пещеры, в котором предполагается работа, относится к числу немногих, чрезвычайно интересных как минералогически, так и эстетически, чрезвычайно хрупких, и потому подлежащих жесткой охране. Один из методов сохранения – маскирование прохода искусственным завалом и искажение карты этого участка, что здесь и применено.
Следующий перекур. Уже часов восемь как в пещере. Начинается самый занудный сепулькарий через лабиринт Свинячьего Сыра. Сыр есть уже вполне научное определение весьма специфического по внешнему виду и способу образования типа лабиринта. С шанцевым инструментом, расширяя дыры, в нем можно ползти в любую сторону просто по азимуту. С каждой точки видно не менее пятнадцати таких дыр во все стороны. Вместе с тем маршрут приемлемой степени шкурности весьма извилист и длинен. Сепулькарий Свинячьего Сыра имеет длину около трехсот метров. Хороших накопителей мало, и почти нет мест, где можно присесть на перекур, а те, что есть – немедленно забиваются сепульками. Практически все привалы происходят в позе лежа. Единственное удовольствие в том, что каменистый пол кончается довольно скоро – на четвертом шаге сепуления. Дальше пол покрыт мягкой пылью, пролезающей куда угодно – даже в герметичные сепульки с фотоаппаратурой. Главное свойство, определившее название «Свинячий», уже не наблюдается. В начале северной эпопеи поверх пыли лежал тонкий слой окислов марганца – тонкого черного порошка. И все первопроходцы вылезали обратно совершеннейшими неграми, углекопами, или просто в по-свински грязном виде. Постепенно на главных тропах окислов марганца не осталось – стерли, и теперь досаждает только самое пыль. Хотя на входном участке приходится и просто тяжело. Первый шаг сепуления проходит по изломаннейшим лазам, в которых часть спелеологов вклинивается в совершенно непотребные щели в полу и пропускает сепульки над собой посредством шевеления свободного пальца руки, задницы и свободной ступни одной ноги. Для этого приходится основательнейшим образом вспоминать анатомию, каковые воспоминания автоматически облекаются в словесную форму и служат дополнительным поршнем для сепульки. После пропуска каждой стратегической сепульки приходится достаточно долго соскребать со стен налипшие матюги, чтобы не застряла следующая, а уже с ней пускать их в повторный оборот, надстроив дополнительный этаж.








