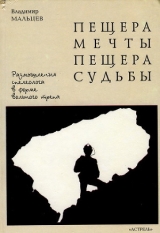
Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"
Автор книги: Владимир Мальцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
* * *
Что ищут – вопрос существенно более сложный. Причем тривиальный ответ, что ищут в основном себя, не годится совсем. Как должно быть совершенно понятно из вышенаписанного, спелеологи – люди себя-то как раз нашедшие. Второй универсальный ответ, что ищут новые ощущения, не годится тоже. Пещеры – штука хоть и очень разнообразная, но отличия достаточно тонки, чтобы восприниматься на уровне ума, реже чувств, но никак не ощущений. Пещеры могут вызвать приятные новые ощущения всего восемь раз – при первом попадании в вертикальную пещеру, обводненную пещеру, лабиринтовую пещеру, красивую натеками пещеру, красивую кристаллами пещеру, подводную пещеру, ледяную пещеру, новую пещеру. Неприятные – еще в паре случаев. Обычно именно по исчерпании ресурса новых ощущений и уходят из спелеологии «просто романтики». Оставшиеся – подразделяются на несколько типов. Сколько-то лет назад был весьма популярен бессмысленный спор о том, является ли спелеология спортом или наукой. Отсюда первые два типа спелеологов становятся понятны сразу. Опять же не будем вдаваться в спор о том, взаимоисключающи они или взаимодополняющи. У разных спелеологов – по-разному.
Наиболее известный и популярный вариант – спортивный, родившийся сравнительно недавно как «вывернутый наизнанку» альпинизм. Причем логика его появления очевидна. Во-первых, непокоренные горные вершины поисчезали, а покорение новых склонов старых вершин уже удовлетворяет не всех. Во-вторых, у альпинистов появилась специализация, и – некоторые специальности, не пользующиеся особым спросом в горах, оказались незаменимыми в пещерах. Например – работа на веревках. В горах практически всегда рядом есть хорошая надежная скала, и веревки, кроме как для страховки, используются скорее как исключение. В пещерах же скала обычно покрыта толстым слоем скользкой глины, или ломается и крошится руками – словом, никак не подходит на роль хорошей надежной опоры. Все передвижение по вертикали происходит с использованием веревки (или троса, или тросовой лестницы) как основной опоры. То есть на веревке проводятся не минуты, как в горах, а десятки часов, что предполагает использование гораздо более развитых технических средств работы с веревкой – всевозможных обвязок, самохватов, спусковых устройств, средств навески.
Серьезное отличие вертикальной спелеологии от альпинизма еще и в том, какое несусветное количество снаряжения приходится применять. Отсюда некоторая дополнительная обстоятельность. Серьезный штурм требует километров основной веревки, не считая всяких соплей [1]1
Кусок веревки длиннее 5 метров называется концом, короче – соплей.
[Закрыть]для оттяжек. То есть утащить все это на себе в один заход все равно невозможно, и это в еще большей степени сдвигает баланс между скалолазным талантом и техникой в сторону техники. Хотя со скалолазанием тоже не все очевидно. Чуть ли не единственный скалолазный прием, применимый (и широко) в пещерах – хождение «в распор», среди альпинистов считается чуть ли не высшим пилотажем.
В вертикальной спелеологии имеется целый ряд технических школ – техника с тросовой лестницей и веревкой, с двумя веревками, металлическим тросом и веревкой, единственной веревкой. Каждая школа имеет совершенно особые требования к индивидуальному снаряжению, технике подъема и спуска, организации навесок. Например, в технике SRT [2]2
Используется единственная веревка, являющаяся одновременно и рапелью, и страховкой.
[Закрыть]все определяется заботой о веревке, которая не должна ни в одной точке тереться о стену. Организуются десятки и сотни всевозможных оттяжек, что занимает чуть ли не половину всего штурмового времени, а в индивидуальном снаряжении спелеолога на первый план выходит его приспособленность к бесконечным перестежкам через все эти оттяжки. В технике лестницы с веревкой требования к индивидуальному снаряжению минимальны, расход времени на обработку колодцев тоже, зато гораздо важнее, чем во всех других техниках, индивидуальная натренированность. На веревке или тросе пристегни человека, научи перестегиваться, и – он пойдет, хоть и медленно. На лестнице – более, чем тридцать метров сплошного пролета пройдет только человек, действительно умеющий с ней работать.
К слову. При выборе технической школы иногда возникают и весьма неожиданные аргументы. Каждому приходилось видеть на фасадах зданий людей, выполняющих ремонтные работы с веревок, безо всяких люлек. Занимаются этим, как правило, именно спелеологи, зарабатывающие деньги на очередную экспедицию, и альпинистской эта техника называется по чистому недоразумению. И естественно, что снаряжение используется именно свое привычное – опять же дополнительная тренировка получается. Так вот как-то раз при наших таких подработках из очередного окна высунулась рука с ножницами и перекусила веревку Степе Оревкову. К счастью – страховочную. Имевшую место быть только потому, что наша команда SRT не признает.
Спортивная спелеология не исчерпывается спелеологией вертикальной. Имеется сразу два варианта подводной спелеологии. Один из них – штурм сифонов (залитых под потолок участков пещеры) с целью нахождения новых сухих участков, второй – исследование пещер, затопленных полностью, именно как целиком подводных пещер. Любой из этих вариантов еще более техничен, чем вертикальная спелеология, причем часто с ней и сочетается. Акваланги, не говоря уж о всяком вспомогательном снаряжении – вещи и тяжелые, и взрывоопасные, и доставка их, скажем, на километровую глубину, как в кавказских экспедициях недавно погибшего Владимира Киселева – задача чрезвычайно сложная и трудоемкая. Двойная сложность – и пещера, и подвода, двойная оторванность от мира, тройная опасность, четверной уровень необходимой технической подготовки, выделяют спелеоподводников в некоторую особую касту даже среди «сухопутных» спелеологов. Причем касту, для которой характерно и то, что все три главных особенности склада характера оказываются возведенными в квадрат. Что создает серьезные трудности, если штурм сифона вдруг оказывается успешным – открывается новое сухое продолжение. На этом подводники теряют всякий интерес, так как всерьез считают ныряние в сифон самым важным делом во всей спелеологии. А протаскивать их силами «сухопутную» штурмовую команду за сифон возможно далеко не всегда – собственно, оно возможно только в случае совсем несерьезного сифона.
Забавно, но само слово «спорт» в применении к спелеологии принципиально неверно. Спорт подразумевает какое-то соревнование, а с ним-то и тяжеловато. Две команды в одной вертикальной пещере в одно и то же время просто не могут оказаться – всенепременно запутаются друг у друга в навесках и проводах. В одном и том же сифоне – тем более. А через неделю и водопады посильнее или послабее, и на заброску вертолет достать удалось – словом, условия уже совершенно другие. В том же альпинизме вполне возможно естественно и органично устроить соревнования. В пещерах – нет. Любое соревнование с начала и до конца искусственно, хотя поиск возможностей их организации идет с того самого момента, как по чьей-то ошибке было произнесено слово «спорт». И вполне активно. И по ориентированию в лабиринтовых пещерах (чего в реальной спелеологии не бывает – или карта пещеры есть, или ее нет), и по лазанию по лестницам и веревкам, подвешенным на поверхности, и по скорости топографической съемки, и по обычному скалолазанию. Словом, по всему, что не имеет прямого отношения к спортивной спелеологии, ибо за отсутствием стратегии и тактики штурма спелеология исчезает, а остаются лишь выдранные из контекста отдельные ее технические элементы.
Попытки устроить соревнования «на натуре» тоже были. Например, по типу альпинистского чемпионата, в котором каждая команда заявляет на год десяток штурмов высокой сложности, а по итогам оценивают результат с учетом как стратегии, тактики и техники, так и нахальства (в смысле предварительно заявленных первопрохождений). И тоже не прошло. Это годится для профессионального спорта, а спелеологи – таки любители. Или с прохождением эталонных пещер на время, что оказалось настолько чуждым самому духу любой спелеологии, что отмерло само собой очень быстро.
И наконец, спелеологи спортивного толка склонны видеть в других командах своих соперников, без чего не может быть никакого спорта, даже в меньшей степени, чем спелеологи научного или первопроходческого толка. Словом, спортсмены-спелеологи на самом деле никакие не спортсмены, а просто технари. В самом высоком понимании этого слова.
* * *
Следующее по известности место занимает спелеология научная. Как самое логичное из видимых со стороны оснований для залезания человека под землю.
И смысл здесь есть, да и не малый. Пещеры действительно часто представляют собой большой научный и даже научно-прикладной интерес. Обычно их исследование может пролить свет на гидрогеологию горного массива, немного реже в них можно найти редкие или даже новые минералы. Чистые и стабильные условия образования минералов приводят к появлению всякой кристаллографической экзотики. Подземные ледники никак не менее интересны, чем горные или антарктические. Стабильный мягкий климат позволил пещерам послужить «убежищем» для некоторых животных на время ледниковых периодов, и часть популяций так и адаптировалась к пещерам, утратив зрение и окраску. О некоторых медицинских фокусах я уже немного писал, а вообще-то их гораздо больше, и преинтересных. А, скажем, для какой-нибудь археологии – так пещеры и просто сущий клад. Словом, сплошная наука на любой вкус.
Более того. Среди спелеологов велик процент людей, имеющих отношение к науке, причем самой разнообразной. А пещера, недогружая каналы восприятия, очень сильно стимулирует мозговую активность. И как результат – вечерний треп на подземном лагере изобилует совершенно парадоксальной чересполосицей из обсуждения бытовых проблем, планов на завтра и научных идей. Любых, и со всевозможными взаимопереходами. От медицины до космологии. Вплоть до подведения строгой физико-математической теории под известную теорему-хохму о том, что бутерброд падает маслом вниз – и немедленной постановки статистического эксперимента теми, кто оных выкладок, которыми был исписан весь глиняный пол, не мог понять. А главным образом такая «спонтанная» наука кренится в сторону медицины. Опять же из-за недозагрузки информационных каналов. Вторым следствием которой является то, что практически каждый начинает обостренно чувствовать все процессы в своем организме, становясь тем самым сущим кладом для попавшего в экспедицию врача с исследовательской жилкой. А всегда имеющиеся под рукой физики, математики и системные аналитики с исключительным азартом подключаются к интерпретации оных наблюдений, доводя дело до полного абсурда.
При всем том научная спелеология распространена гораздо меньше, чем это может показаться со стороны. Серьезные занятия любой наукой – вещь трудоемкая и дорогая. Не зря же народная мудрость гласит, что наука есть способ удовлетворения собственного любопытства за государственный счет. Спелеология – наука по преимуществу любительская, где никакого государственного счета нет в помине, а энтузиасты научных исследований за собственный счет хоть и встречаются, но не в таких уж больших количествах.
Почему государство не финансирует исследований, тоже, в общем-то, понятно. И вполне закономерно. В исследовании пещер тесно переплетаются весьма далекие друг от друга научные отрасли, и это совсем не вписывается в структуры и классификации науки академической. То есть вписать их, конечно, можно, но просто нерентабельно – потраченные на это время и силы любой спелеолог с гораздо большим удовольствием потратит на пещеры.
Прикладная же наука, где со всем этим проще, часто может дать деньги, но настолько однобока и коммерциализирована, что от предлагаемых проектов уже бегут сами спелеологи. Изучить на данных большой и красивой пещеры ту же гидрогеологию горного массива интересно и полезно, но если за исследованиями стоит сформулированная цель, скажем, перехватить туннелем подземную реку и отвести ее на турбины электростанции – это уже получается нечто чуждое природе спелеолога. А это – самый безобидный из вариантов, причем в нашей стране практически не встречающийся – гидротехническое строительство опирается на проекты подешевле. У нас гораздо чаще деньги под исследовательские проекты в пещерах выделяют военные, которых не интересует ничего, кроме утилизации пещер под всякие склады, геологические ведомства, сводящие все к добыче сувенирно-камнесамоцветного сырья, туристические фирмы, пытающиеся найти новые коммерческие маршруты. Словом – все те, кто за исследование и утилизацию одного аспекта интересности пещеры готовы заплатить уничтожением всех остальных аспектов, а то и самое пещеры. К чести спелеологов, случаи их подключения к таким проектам единичны. Обычно они как раз занимаются разрушением подобных проектов, одному из примеров чего посвящена вся следующая глава.
Я ни в коем случае не утверждаю, что научная спелеология совсем не поддерживается со стороны. Поддерживается, и немало. Иначе ее не было бы совсем. Но отнюдь не в той мере, в которой она могла бы давать исследователю средства к существованию, не говоря уж об обогащении. А именно в той, когда он, вкладывая в исследования некоторый свой собственный минимум финансирования, получает помощь, позволяющую расширить фронт работ. И такая помощь приходит с самых разных сторон и в самых разных формах.
Обращаясь к опыту моей собственной команды, попробую для примера перечислить, какую помощь мы имели для своих исследований, большей частью геологических, гидрогеологических и минералогических. Моя команда в первой половине восьмидесятых официально была зарегистрирована как спелеологическая секция ВИМСа – Всесоюзного Института Минерального Сырья, а параллельно имела представительство в Геологическом (тогда оно называлось Горным) научно-техническом обществе. Идея здесь была такая: если наша программа исследований включена в план деятельности Геологического общества и оно на эту тему сочиняет бумагу директору ВИМСа, то у того, как одного из учредителей Общества, появляется формальное основание к тому, чтобы позволить очередную поездку в пещеры провести не в отпускное, а в рабочее время. Конечно, без оплаты проезда и командировочных, но и этого уже немало. Естественно, формальное основание не играло бы никакой роли, не имей директор ВИМСа А. Н. Еремеев доброй воли к оказанию подобной помощи. А регулярные наши доклады и вечера со слайдами вполне компенсировали институту такие расходы. Институтская помощь на этом тоже не ограничивалась. Остальное, хоть и не было завязано на прямые деньги, но было еще важнее. Возможность бесплатного пользования кинофотоаппаратурой, безвозмездная помощь различных лабораторий в проведении разнообразных анализов – все это в сумме вносило гораздо более существенный вклад. И опять же это было не все. Большая часть команды работала в других организациях, не только геологических – и везде, куда мы обращались за какой-либо разумной помощью, мы ее получали. Когда видят, что люди делают хорошее дело за свой счет и не ожидая отдачи, помогают все, и с удовольствием.
Раз дошло даже до полного анекдота. В начале восьмидесятых любое использование копировальной техники в нашей стране было обставлено сотнями разнообразных запретов и драконовских правил, вплоть до уголовной ответственности за несанкционированное размножение любого листочка, а любые крупномасштабные карты являлись государственной тайной. Карты пограничной зоны – вдвойне. В день отъезда очередной экспедиции мы обнаружили, что нас подвели – необходимые два десятка экземпляров рабочих карт пещеры Кап-Кутан и поверхности над пещерой отпечатаны не были. Прокачав возможности быстрого (за три часа до поезда) решения проблемы, нашли единственный вариант – пойти в ближайшее отделение милиции, за полчаса объяснить, кто мы, чем занимаемся, что за карты нам нужно размножить и зачем – и уговорить милиционеров размножить их на собственном ксероксе. Что и удалось, причем очень просто.
Конечно, встречаются и более непосредственные варианты частичного финансирования, особенно в последние годы – некоторые научные фонды стали иногда давать гранты под спелеологические исследования. Но это пока скорее исключение, чем правило, и это даже хорошо. Спелеология – чуть ли не последняя из наук, до сих пор оставшаяся на любительском уровне, и потерять ее статус как чудесной отдушины для энтузиастов было бы просто жалко.
Теперь о том, что есть спелеолог научного толка. Как правило, это не узкий специалист, а скорее универсал энциклопедического толка. Пещеры разнообразны, и в них могут быть тесно взаимосвязаны такие, казалось бы, далекие друг от друга вещи, как, например, биология и минералогия. Конечно, энциклопедизм – скорее пожелание, чем данность, в чем читатель убедится, встретив по ходу дальнейшего повествования примеры того, как недостаток именно энциклопедизма тормозит на годы понимание важных закономерностей. Но в любом случае широта познаний и взглядов, существенно большая, чем это принято в обычной науке, весьма и весьма характерна для всех спелеологов.
Спелеолог научного толка обычно «наследует» в качестве острия своих интересов основную специальность в обычной науке. Но не всегда. Скажем, тот же я, будучи специалистом в геостатистике (один из математических методов подсчета запасов на месторождениях) и в конструировании программного обеспечения профессионального геологического назначения, в пещерах занимаюсь гидрогеологией, геохимией, минералогией и даже немного микробиологией. Хотя то, что последнее время предпочитаю сводить все воедино и на основе этого планировать и раздавать следующему поколению спелеологов новые направления исследований – именно наследие «поверхностной» специальности по конструированию больших программных систем.
Довольно часто наукой в спелеологии успешно занимаются и те, кто наверху не имеет к науке никакого отношения. Известны даже случаи, когда в серьезных научных изданиях публиковались хорошие статьи школьников. В спелеологии пока довольно просто найти «отвилки», требующие чуть ли не нулевого начального уровня знаний и за которые пока просто никто не брался. А несколько месяцев вдумчивой аналитической работы с литературой могут в таком случае вывести на передовой уровень даже полного новичка.
* * *
Весь спор о противостоянии или слиянии науки и спорта в спелеологии имеет своей подоплекой следующую ипостась спелеологии, которую можно рассматривать как самостоятельную, но которая пронизывает и научную, и спортивную спелеологию. Это – спелеология первопрохождений, эра которых в пещерах не только не закончилась, но находится в самом разгаре, и без которой не было бы ни спортивной, ни научной ветвей.
В быту обычно считают, что первопрохождения – один из атрибутов научной спелеологии, но это далеко не так. Просто инстинкт первопрохождения присущ человеческой природе, и во многом именно на нем и держится романтизм. Ощущение, что ты попал туда, где не ступала еще нога человека – одно из самых сильных. Поэтому первопрохождениями пытаются заниматься практически все – и спортивные команды, и научные, и эфемерные романтические. Разве что кроме команд глазетельно-фотографического спелеологического туризма.
С первопрохождений в абсолютном большинстве случаев начинается даже самое знакомство со спелеологией. Пацану, увидевшему узкую дырку на берегу реки и с большим трудом просочившемуся в нее на десяток метров, и в голову не придет, что там уже до него кто-то был. Для него это – новый, таинственный, неисследованный, его собственный клочок земли, не уступающий по привлекательности никакому необитаемому острову. Еще важнее то, что, скажем, какой-нибудь островок в ближайшем пруду может быть реально нехоженым, но он лишен таинственности, так как виден глазу во всех подробностях. Крошечная пещерка – не видна, и определяет ее моральный перевес именно это. И во многих случаях пацан, в реальности не совершив никакого настоящего первопрохождения, но прочувствовав это ни с чем не сравнимое ощущение, заражается навсегда.
Конечно, пример из предыдущего абзаца слишком идеален, чтобы встречаться часто. Более распространенный вариант относится к более старшему возрасту и каким-нибудь катакомбам – заброшенным несколько сот лет назад разработкам известняка, песчаника или чего-нибудь в этом роде. Катакомб много по всей Европе, зачастую они имеют вполне значительные размеры и запутанность, а иногда осложнены завалами, прососами воды с поверхности и прочими быстродействующими геологическими факторами до такой степени, что становятся практически неотличимы от природных пещер. И даже могут сформировать над собой рельеф поверхности, характерный для каких-нибудь высокогорных карстовых плато, а не для нашей средней полосы. И все это – вблизи городов, где молодежи в максимальной степени нечего делать. Вполне естественно, что «исследование» катакомб там, где они есть, становится весьма популярным, а отсутствие или недоступность их карт опять-таки создает климат первопроходчества. Не буду утверждать, что катакомбенное времяпровождение во всех случаях именно таково. Отнюдь. Исследование того, чем занимаются группы подростков и молодежи, проводящие свое время в ближайшей катакомбе обычно дает весьма интересные, неожиданные и подчас ошеломляющие результаты, вполне заслуживающие отдельной книги. Например, какая-нибудь группа (истинный факт) свободно может устроить в каком-нибудь отвилке самую настоящую кузницу, отковать там самые настоящие рыцарские доспехи и носиться в них по штрекам, лязгая железом, рассыпая фонтаны искр и пугая всех остальных. Или устраивать такие же средневековые застолья. Не говоря уж об виртуозной и не вполне безопасной пиротехнике в адрес друг друга, дающей в замкнутых объемах вполне сногсшибательные результаты. Утешает то, что в массе своей эти развлечения гораздо безобиднее развлечений аналогичной публики ночью в ближайшем парке. Элемент романтизма, принудительно вносимый обстановкой, как-то вытесняет элемент агрессивности, да и расход энергии на ползание вполне достаточен.
Среди самих спелеологов первопрохождения, как я уже отмечал, есть непременный атрибут практически всех ветвей. Но в то же время – достаточно широк круг спелеологов, для которых первопрохождения составляют основной смысл жизни. Именно первопроходческая спелеология на бытовом уровне ошибочно смешивается со спелеологией научной. Это очень разные, хотя и полностью совместимые течения. Единственное очевидное сходство спелеологов-научников и спелеологов-первопроходцев – легкое презрение к спелеологии спортивной. Оба эти типа спелеологов расценивают технику, равно как и встречающиеся в пещерах сложности, адекватно. Не как самоцель, а как средства и препятствия, первые из которых нужны для преодоления вторых. И не более. Менее очевидное, но гораздо более важное сходство – понимание неизбежности вреда, причиняемого пещере любым посещением. Именно это понимание (впрочем, иногда интуитивное) и порождает спелеологию, в основе которой лежит тезис об обязательной компенсации разрушающего воздействия хотя бы привносом нового знания. То есть – либо научную, либо первопроходческую.
Для спелеологов-первопроходцев нет разницы между пещерой второй или шестой категорий сложности. Если интерес требует дойти до дна – они дойдут, причем без единой аварии. Пещеры – не горы. Они достаточно стабильны и предсказуемы, и единственная реально существующая опасность – опасность внезапного паводка, при котором уровень воды может за минуты подскочить на десятки метров. При правильном планировании техники, стратегии и тактики экспедиции, не ставящем целью скоростную заброску и скоростное прохождение, все остальные опасности исчезают сами собой. Да и паводки в абсолютном большинстве пещер не достанут, если планировка экспедиции предусматривает возможность быстрой эвакуации с аварийным комплектом жизнеобеспечения в не затопляемые участки. Однако все это никак не исключает необходимости технической подготовки. И научные спелеологи, и первопроходцы изобретают новую технику, устраивают всевозможные тренировки и так далее. Но четко понимают, что это – необходимо, но вспомогательно.
Вероятно, именно из-за этого аварийность среди спелеологов научного и первопроходческого толка исключительно низка по сравнению со спелеологами спортивными. Те себя еще в тренировочных лагерях настраивают, что любой колодец, любая узость, любая подземная река есть серьезная сложность, в борьбе с которыми и обретается смысл жизни. И естественно, выработав такую психологию, впоследствии, при попадании в нештатную ситуацию в том же колодце, тихо помирают от переохлаждения, даже не пытаясь бороться. Такие примеры известны десятками, но нет ни одного подобного примера среди не-спортсменов.
Конечно, имеется одно исключение, где без спортсменов ни ученые, ни романтические первопроходцы не сделают ничего. Это сифоны. Подвода опасна реально и не прощает даже малейших ошибок, как ни настраивайся психологически.
Но самая приятная особенность спелеологии первопрохождений – миротворческая. Если пахнет первопрохождением – в одной экспедиции мирно и без взаимных издевательств соберутся и «научники», и «спортсмены», и «туристы». И все будут относиться с великим пиететам к областям интересов друг друга. Спортсмены даже сходят на пару лекций по методике описания пещеры, а научники – на пару тренировок. И дружно потащат пару километров веревки в район, где максимальная ожидаемая глубина пещер – сотня-полторы метров.
* * *
Наиболее же массовый тип спелеологов – туристы. Не спортивные туристы, к которым по официальной классификации относятся спелеоспортсмены, и не туристы коммерческие, а туристы «дикие» – просто любители природы, избравшие полем деятельности пещеры. Которых не интересуют ни наука, ни техническая сложность, ни новые пещеры. А интересует посетить побольше известных и красивых пещер, всласть пофотографировать, пообщаться друг с другом. Словом – никакой разницы от любых других туристов подобного сорта – хоть водных, хоть горных, хоть каких. И довольно часто они могут одновременно заниматься различными типами туризма.
Разбираться с типами туристов и их побудительными мотивами посещения пещер – занятие неблагодарное абсолютно. Турист – человек своеобразный, и для того, чтобы выяснить, что в реальности им движет, нужны утонченные методы исследования. В приложении к пещерам мне этого не удалось ни разу, но просто в турпоходе – однажды удалось, и результат меня ошеломил. В качестве наживки для ловли душ использовалась ворона, подобранная моей женой в состоянии птенца, и категорически отказавшаяся покидать хозяев. Так и пришлось брать ее с собой на все вылазки в тайной надежде, что где-нибудь в лесу она одумается и улетит. На удивление, реакция окружающих, особенно других туристов, на ворону была разнообразна, глубока и открывала в людях такие черты характера, наличие которых даже заподозрить было невозможно. Вот одна из зарисовок. Вокзал города Тверь. У скамейки лежит куча рюкзаков, хозяева которых пасутся вокруг. На спинке скамейки сидит Машка и хитро поглядывает на всех прохожих. Останавливается старушенция с рюкзачком, минуту или две смотрит на ворону, после чего осведомляется:
– Слушай, подруга, ты что – ручная?
– Карррр!
– А я вот нет! – гордо заявляет бабуся и дефилирует дальше.
Я упоминаю туристов не только потому, что их просто много. Туристы есть неотъемлемая и вполне равноправная часть любой ветви спелеологии. Практически любая команда, затеявшая серьезный и трудоемкий проект, привлекает к нему таких туристов, которые, опять же из романтизма, с удовольствием участвуют в проекте на вспомогательных ролях. Без них не было бы возможно полное прохождение ни одной крупной пещеры, да и экспедиции были бы гораздо скучнее. Не говоря уж о том, что туристы – основная питательная среда для пополнения состава «серьезных» спелеологических групп.
Впрочем, есть некоторый подвид туристов, польза от которых для спелеологии в общем случае равна нулю, сколько усилий к обратному ни прилагается. Это – кинофототуристы. Как и в любых необычных местах, в пещерах фотографируют практически все, и многие – неплохо, но для некоторой части людей фотографирование пещер становится смыслом жизни. Я не хочу сказать, что они бездари – обычно очень даже наоборот, но хороших съемок пещер у них не получается практически никогда. Пещера статична, и фотография большей частью отражает психологический настрой автора. Легко снимать, если идут исследования, или первопрохождение, или даже спортивный штурм. Совсем нелегко – когда происходит безделье. Конечно, всякие тонкие состояния души на фотографии тоже передаваемы, но для этого нужны студия и оборудование, а не природа, в особенности – если природа технически сложна и недружественна. Самое смешное, что все они это прекрасно осознают, выдвигая всякие теории о необходимости свежести восприятия и соответствующего планирования съемок. Но признаваться не хотят. И искусственно создают подобие штурмовой обстановки, снимая в новых для себя пещерах, которые принципиально посещают без карт и проводников. И только таким образом получают что-то приемлемое.
Собственно, их легко понять. Как уже можно заключить из написанного, спелеологи практически во всех случаях – люди, которым органически необходимо признание. А пещеры не предоставляют практически никаких возможностей для наглядной демонстрации своих достижений ни во время экспедиций, ни после. Кинофотоматериалы – единственное, чем можно похвастаться вне чрезвычайно узкой аудитории спелеологов. И полная концентрация на кинофоотодеятельности – это просто линия наименьшего сопротивления. По понятным соображениям особого уважения не вызывающая.
* * *
Наконец, последний тип спелеологов, довольно близкий к предыдущему, но и сильно от него отличающийся, это те, для кого пещеры просто стали образом жизни. Вот не может человек без того, чтобы раз или два в год забраться под землю, и все тут. Причем все равно, в какой компании, даже в одиночку. И все равно, зачем – хотя бы просто недельку там пожить. Хотя от участия в серьезных интересных экспедициях такие спелеологи тоже не отказываются. В моей команде чуть ли не половина переменного состава экспедиций и четверть постоянного состоит именно из таких.
Возможно, я даже не совсем прав, и это не отдельный тип спелеологов, а слегка постаревшие представители научного и первопроходческого течений. Может быть. Спелеология становится образом жизни для многих, а более узкие интересы могут и видоизменяться. К тому же для некоторых людей имеется фактор просто физической зависимости от пещер. Например, для меня. До начала занятий спелеологией я здоровьем совсем не отличался. Даже более того. Врожденная бронхиальная астма удерживала меня в больницах по два-три месяца в году, и большинство врачей твердо обещали мне инвалидность годам к сорока, а если не буду придерживаться правильного образа жизни – то и раньше. Я понял все по-своему, в семнадцать послал врачей подальше, и начал лазить по пещерам. Сейчас мне как раз без ерунды сорок и есть, рюкзак килограмм в пятьдесят-шестьдесят для меня не проблема, стометровый колодец тоже, пара километров ползком тем более. Но если сумма подземного времени за год составляет меньше трех недель, здоровье и форма теряться начинают немедленно и катастрофически. И не один я такой даже в моей собственной команде.








