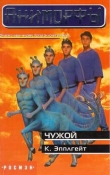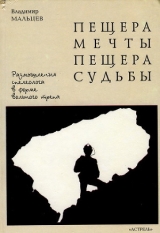
Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"
Автор книги: Владимир Мальцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Что же касается стучания головой о потолок, то, как показывает практика, человек без каски уже на второй день обретает что-то типа дополнительного глаза на затылке и практически перестает соприкасаться с потолком. Конечно, без каски оно чуть больнее, но ударов, хоть сколько-то опасных, просто не бывает, а пещерные красивости остаются много целее. Спелеолог в каске сносит их без счета, а спелеолог без каски больше дорожит своей головой, и просто об них не стучится. Конечно, кроме особых случаев. Есть даже такой анекдот-загадка, слегка адаптированный к Кап-Кутанской тематике:
Что такое дзинь-дзинь-мяу-мяу? – Трамвай котенка переехал.
А что такое дзинь-дзинь-гав-гав? – Жена с работы пришла.
А что такое дзинь-бля-дзинь-бля? – Первопрохождение.
Последняя часть загадки чрезвычайно точно описывает звуки при первичном обследовании заросших геликтитами лабиринтов. Как ни пытаешься обползти все кусты и ничего не сломать, но – пока тропа не накатана, ежесекундно что-нибудь ломается. С мелодичным звоном. Который сопровождается сочным матом только на первых метрах, а далее проходит под аккомпанемент устало вставляемого основного неопределенного артикля русского языка. Вообще на прохождении таких лабиринтов всегда стоит вопрос – идти или не идти. Красоту уничтожать всегда жалко, поэтому если нет достаточной уверенности в том, что впереди есть что-то большое, и что нельзя обойти менее хрупкой дорогой, то лучше не идти. В некоторых ситуациях мы даже преднамеренно оставляли не пройденными явные продолжения, не имеющие других путей проникновения в них – просто потому, что не хотелось ломать растущий в проходе куст уникальной красоты.
Разрушаемые при первопрохождении натеки есть главный источник материала для минералогических исследований. Практику отбора даже аналитического материала путем преднамеренного разрушения мы извели полностью. Но это не касается троп первопрохождения. Вероятно, мы упустили одно из самых значимых минералогических открытий только потому, что слишком поздно поняли золотое правило первопроходца – забота о сохранении пещерных красот есть в частности и забота об их сохранении для науки. Если уникальный непонятный кристалл висит сбоку – пусть себе висит, пока не появится надежных методик неразрушающей диагностики. Если же он растет на тропе, где неизбежно будет стерт в порошок животами ползущих – забота о его сохранении заключается именно в том, чтобы его отломать. Есть в экспедиции минералог – можно вынести, нет – надо забазировать там же рядом с тропой. Или на лагере. Это уже второй вопрос. Главное, что нельзя допустить повторения того, что произошло с крошечными ярко-зелеными кристаллами в шкурнике у зала Водопадного – у нас не было достаточно тары для выноса, и мы их оставили на полу, с жутким трудом всю экспедицию пробираясь над ними в распоре под потолком. Что само по себе нетривиально, учитывая ширину прохода без малого метр и высоту сантиметров шестьдесят. Единственный маленький образец, пробирка под который нашлась, в Москве решили перед анализом вымыть – он слегка запылился. И кристаллы немедленно и без остатка растворились. В следующую экспедицию мы ехали с уверенностью в том, что открытие на подходе – нужно только взять еще один образец, ведь мы этот участок пола сохранили. И это оказалось невозможным – через месяц после нас туда попала команда Фроловой из Красноярска. Хорошая, между прочим, команда, с великим пиететом относящаяся ко всему, что в пещере растет. Но кристаллов не стало – не заметили и заползали. Это не их вина – целиком наша. Нужно было убрать с тропы.
Между прочим, первопрохождение само по себе – ерунда. Топосъемка в красивых залах и лабиринтах – гораздо большее мучение, чем собственно первопрохождение. Они за счет всевозможных красивостей и так имеют сложную и обычно не просматриваемую конфигурацию, поэтому носиться как тому, кто с компасом, так и тому, кто с концом рулетки, приходится вполне изрядно. А тут еще и натеки, которые нельзя сшибать и пачкать, но которые совершенно вмертвую цепляются за комбез, рулетку и особенно за шланг гидронивелира, озера, в которые нельзя наступать – словом, хоть бабочкой порхай. На третьем или четвертом часу такого развлечения видеть все эти красоты уже не хочется, а хочется, наоборот, добраться до чего-нибудь, где будет на что без ущерба натекам умостить свой грязный зад, куда плюнуть, и чтобы глаза отдохнули от всей этой заковыристой хреномотины. Вери блятифул!
Что еще хуже – это когда через красивые места надо тащиться за водой. В отличие от топографического набора, канистра с водой еще и весит изрядно – пуд с гаком. Тропа, по которой налегке можно нормально идти или ползти не сшибая ничего вокруг, может превратиться в практически непреодолимое препятствие, если в руке имеется такой нарушающий равновесие предмет. Самое же безобразие именно в том и состоит, что это неизбежно – основные озера и водокапы неразрывно связаны с красивыми местами. Причем именно того типа, где и без канистры ходить нелегко – скользко и покато. Практически все питьевые источники связаны с водой, поступающей из каньонов, а ее под каньонами достаточно для формирования натеков «обычного типа» – сталактитов, сталагмитов, покровных кор. Все это имеется в больших количествах, гладкое, скользкое и мокрое. Озера же в сухих участках пещеры, где растут гипсовые кристаллы и возможны удобные и не скользкие тропы, наполняются конденсирующейся на стенах влагой, насыщенной солями магния подчас до полной несъедобности.
Разумеется, все это совершенно серьезное возмущение паскудным поведением натеков держится только до очередного перекура. После пяти минут отдыха оно улетучивается как дым, и уже опять тянет выбраться на обзорную точку и продолжить отдых там. В молчаливом созерцании.
СТОЯНКА HOMO SAPIENS KAPKUTANIS
Стоят на пригорке два быка – старый и молодой. Внизу пасется стадо коров. «Слушай, друг, – говорит молодой старому, – а давай быстренько спустимся с пригорка и оплодотворим вон тех двух симпатичных телок?» – «Нет, мы спустимся медленно-медленно, и не уйдем, пока не оплодотворим все стадо».
Анекдот
Приведенный анекдот является чуть ли не самым популярным в спелеологической среде, к тому же – во всем мире. Спелеологи – люди обстоятельные, основательные и неторопливые, российские спелеологи – вдвойне. Спелеологи, исследующие Кап-Кутан – втройне.
Есть еще один анекдот, точнее загадка. Пещера Жан-Бернар, на плите над большим колодцем горит два огонька – что это такое? Ответ – два французских спелеолога готовятся к спуску. Второй вопрос – та же пещера, та же плита, горит три огонька – что такое? Шесть польских спелеологов готовится к спуску. Третий вопрос – та же пещера, та же плита, горит четыре огонька – что такое? Один русский спелеолог готовится к спуску. Кап-Кутанские спелеологи Жан-Бернар обычно не посещают, иначе в четвертом вопросе фигурировал бы еще как минимум примус с чайником и слышался бы стук кувалды.
* * *
Как театр начинается с вешалки, так и спелеология начинается с подземного лагеря, и все особенности спелеологической команды ярчайшим образом проявляются именно в лагере. Рассмотрим его повнимательнее. Особенностью Кугитанга является то, что поставить лагерь на поверхности возле входа, равно как и внутри в непосредственной близости от входа, практически невозможно. Причина в дикобразах, устраивающих логова в пещерах, а точнее, в их паразитах. Живущие на дикобразьей шкуре аргазиды (аргасовы клещи) имеют малоприятную способность иногда выпадать, и при попадании в сухую пыль – сохраняться в ней годами. Пока кто-нибудь теплокровный не забазируется поблизости. С голодухи им и человек годится, а укус у них – ох, какой неприятный. Они впрыскивают под кожу что-то типа желудочного сока, и язва не заживает пару месяцев. Мало того. Они еще и распространяют клещевой возвратный тиф – болезнь наподобие перемежающейся лихорадки, в приступах колотящую человека так, что хоть закусывай носовой платок, чтобы зубы не поколоть. Если не перебить первый же приступ лошадиной дозой широкоспектрального антибиотика типа левомицетина, возможны рецидивы с тяжелыми осложнениями. Поэтому даже если район работ экспедиции недалеко от поверхности, лагерь ставится подземный, причем обязательно дальше зоны привходовой сухости. Когда район исследований далеко от поверхности, лагерь волей-неволей приходится подтягивать к нему. Даже если это всего полтора часа ходу, ежедневные упражнения по передвижению в позе ползком вызывают такую зубную боль в коленках, что на третий день уже ничего не хочется.
Базовый подземный лагерь наших экспедиций в Кап-Кутане, если не расположен по необходимости в неудобном месте, поражает своими размерами. Обычно он занимает площадь никак не меньшую футбольного поля. Центральное место занимает, естественно, столовая, или «жрательный холм» – возвышение, вокруг которого в позе древних римлян возлежат спелеологи, возвратившиеся с выхода, или только что проснувшиеся. На нем проводится за чаем и анекдотами чуть ли не четверть всего времени. К столу принято переодеваться. На самом деле одежда для ношения в лагере отнюдь не чище комбезов – пещерные глина и пыль вездесущи, но это – одна из немногих традиций, связывающих нас с цивилизацией. Кроме того, тренировочный костюм и свитер просто приятнее пропотевшего комбеза. Вероятно, сама возможность такого времяпрепровождения, начисто отсутствующая в вертикальных пещерах спортивного типа, во многом определяет специфику Кап-Кутанской спелеологии.
* * *
Вторая примечательная часть лагеря – кухня. Так как понятие дежурства по кухне обычно отсутствует, ею обычно занимаются имеющиеся в составе конкретной экспедиции гурманы. Единственные обязательные атрибуты – развешанные на потолке сепульки (для спасения их от мышей), сохнущие комбезы, помойка, гексогазы и запас воды в канистрах. Помойка совмещается с кухней из вполне практических соображений – освободившиеся продовольственные сепульки используются для выноса помойки наверх, и поэтому накопление отходов вполне органично происходит именно там, где ожидается появление тары под них. Гексогазы – это горелки под «сухой спирт», обычно называемый в обиходе гексой (начальная часть его официального химического названия) и по ряду соображений используемый в качестве горючего. Конструкция гексогазов может быть различна. Иногда это просто очаг из трех камней, а иногда – весьма сложная металлическая конструкция. Создание оптимальной конструкция гексогаза – чтобы не воняло – весьма популярная задача для обсуждения за ужином, но почему-то абсолютно неразрешимая технологически. В частности, именно неразрешимость этой задачи и делает кухню чуть ли не самым неаппетитным местом в лагере. Кроме единственной точки – тщательно выбираемого камня, на котором во время стряпни располагается повар, и на который хоть как-то попадает запах пищи. Во всей остальной кухне воняет исключительно смесью помойки с гексой, которая при всех своих энергетических достоинствах и удобстве пользования пахнет ну просто омерзительно.
Обычно рядом с кухней располагается огород. Так как лук во влажных условиях имеет обыкновение прорастать, проросшие луковицы мы обычно втыкаем в холмик глины, и собираем с них урожай «зеленого» лука, который без света получается отнюдь не зеленым, а светло-желтым, но при этом имеет вполне нормальный вкус.
В принципе палатки в Кап-Кутане не нужны, поэтому наличие или отсутствие палатки есть индивидуальное дело каждого. Централизованное лежбище тоже не обустраивается, разве что для особо желающих. Остальные оборудуют себе индивидуальные купе в уголках лагерного зала, и располагаются согласно своим привычкам и вкусу. Обычно рядом со спальным местом вылепляется из глины несколько полок под снаряжение. В отличие от многих команд спортивной ориентации, в нашей среде никогда не было понятия общественного снаряжения. Каждая кастрюля, каждый конец веревки, каждый компас имеют своего хозяина и живут либо на месте применения, либо на полках хозяина. Это отнюдь не означает невозможности пользования ими без разрешения хозяина, но отчасти гарантирует, что каждый элемент снаряжения останется в исправности и не будет потерян. Этот сверхиндивидуалистический подход был в свое время введен в спелеосекции МГУ Владимиром Антоновым и послужил одной из причин его конфликта с секцией, закончившегося изгнанием. Мы были одной из немногих групп, оценивших идеи Антонова в полной мере и взявших такой подход на вооружение безоговорочно, причем с существенным расширением.
Учитывая размеры каждого спального места и темноту, оборудование его стационарным освещением, достаточным для обозрения всех полок, важно. Освещение на лагере преимущественно свечное, поэтому обычно на каждом месте устраивается десяток импровизированных канделябров. Некоторым и этого оказывается недостаточно. Так, участник двух наших экспедиций Виктор Шаров, к каждому элементу своего снаряжения, находящемуся в лагере, привязывал «моргалку» с часовой батарейкой и светодиодом. От фотоаппарата до ложки. Зрелище сотни моргающих со всех сторон огоньков вокруг Шаровской лежки буквально убивало гостей лагеря наповал. Собственно спальные принадлежности тоже весьма разнообразны. Для подстилки кто-то любит надувной матрац, кто-то пенополиуретановый коврик, у кого-то с давних времен сохранился самодельный наборный коврик из кусочков пенопласта, являющийся, по-моему, вершиной мазохизма. Как правило, коврики с течением времени усиливаются противоударными поролоновыми вкладышами из съеденных модулей. Спальники возможны любые, но достаточно большие, чтобы вместить в себя кроме своего хозяина все то, что он хочет к утру высушить – сменные носки, фотоаппарат, сигареты, и т. п. Других способов сушки практически нет.
Естественно, рядом с каждым лагерем организуется туалет. К счастью, глины пещеры Кап-Кутан переполнены микрофлорой и микрофауной, обеспечивающими полное разложение закопанного туалета от двухнедельного лагеря всего за 3–4 года. В большинстве других незатопляемых пещер это составляет проблему, иногда порождающую анекдотические ситуации. Так, просто перечисление методов, перепробованных для организации туалетов в пещере Lechuguilla в США, заняло бы целую страницу, а описание бедственных последствий оных – существенно больше.
Во избежание чрезмерно сильного запаха туалет перекапывается раз в два-три дня. Иногда с ним бывают связаны совершенно замечательные воспоминания. Так, в экспедиции 1988 года Дмитрий Малишевский обустроил свое спальное место до разметки туалета, и получилось, что оно находится на, так сказать, незарастающей народной тропе. Засепуливание лагеря в тот раз шло как всегда с непросыпу, выглядело на первый взгляд легким, а в результате – практически все на заброске перегрузились, взяли не свой темп и сдохли. Дмитрий потом в течение нескольких лет при всяком удобном случае рассказывал, давясь от смеха, как мимо него всю ночь бродили члены экспедиции, пытающиеся совладать с абсолютно негнущимися ногами и спросонья бормочущие под нос все, что думают об этих ногах, об этой пещере и об этой заброске. В другой раз Степа Оревков, возмущенный непривычно сильной вонью, три раза за одну ночь вылезал из спальника и перекапывал сортир. После чего то, что пахло, обнаружилось у него именно под подушкой. Хотя оно явно осталось от какого-то прошлогоднего туриста, почва для издевательств была хороша. Особенный же восторг у всех вызвало происшествие, имевшее место в 1986 году. Из туалета лагеря в зале Варан вылез совершенно живой и здоровый скарабей. Этот лагерь – самый глубинный из используемых, и просто из-за удаленности от ближайшей поверхности туда даже мыши никогда не забирались. Гипотеза же о том, что жук мог запросто добраться до Варана на своих двоих (впрочем, шести) – исключалась полностью. Можно понять, с каким удовольствием на вечерних трепах обсуждался вопрос, в чьем желудке приехал этот огромный жук и в каком качестве.
* * *
Если кто-либо находится на своем спальном месте и не спит, это практически всегда означает, что он ремонтирует снаряжение. Любопытно на этом проследить, как за годы занятий спелеологией у нас изменился сам стиль в экипировке. В начале мы, экономя подземное время, регулярно устраивали субботники по ремонту снаряжения, устраивали чуть ли не комиссии по проверке готовности к выезду. Уже через несколько лет половина работы по ремонту проводилась в поезде, который от Москвы до Чаршанги идет трое суток с гаком. Вагон, в котором ехали спелеологи, приобретал вид мастерской – везде разложены самого невероятного вида предметы, тряпки и инструменты, кто-то зашивает комбез, кто-то напильником доводит самохваты, кто-то перебирает фотоаппарат. Как-то раз некто из соседнего вагона, возвращавшийся под хорошей мухой из вагона-ресторана, минут пятнадцать в остолбенении смотрел на эту картину, после чего без единого слова ушел, а еще минут через десять так же без единого слова принес откуда-то рваный башмак, впрочем, выглядевший гораздо приличнее наших, и протянул его Володе Шандеру.
Постепенно пришло понимание, что пещера – мир замкнутый и не любящий излишнего перемешивания с внешним. Снаряжение установилось с тем предельным уровнем сложности, на котором оно еще полностью ремонтопригодно на месте, за короткое время, и исключительно силами своего хозяина. Многие вообще стали по приезде домой просто откладывать сепульку со снаряжением в угол, принципиально не трогая ее до следующей экспедиции. Между прочим, такой подход иногда дает совершенно сногсшибательные результаты. Так, когда Андрей Марков подсунул мне в экспедицию свою прошлогоднюю батарею для вспышки, естественно, полностью севшую, мы на месте смогли не просто решить проблему, но решить ее на уровне изобретения. Купленные в ближайшем кишлаке тридцать семь 9-вольтовых батареек «Корунд» после сборки их в одну 330-вольтовую батарею оказались совершенно уникальным источником питания для вспышек, по всем параметрам превосходящим эту паршивую «Молнию» на один-два порядка.
Еще один неочевидный плюс описанного стиля заключается в том, что со временем все мы обросли женами, детьми, барахлом и порядком в квартире. Поиск в обстановке порядка любого предмета из пары сотен, необходимых в экспедиции, превращается в пытку, способную отбить всякую охоту к спелеологии. Кроме того единственного варианта, когда имеется выделенное место, где все пещерное лежит в привычном беспорядке одной несортированной кучей, сваленной после предыдущей экспедиции. Собственно, отсюда и происходит приведенный в начале главы анекдот. Если уж со времени последней экспедиции возможности проверить свет не было, то нужно для вящей гарантии взять пару запасных. А еще пара – сама найдется в какой-либо сепульке, в которую при сборах было недосуг заглянуть.
* * *
Не стоит воспринимать вышенаписанное как оду в честь беспорядка, анархии и натурального хозяйства. Глубоко продуманный выбор снаряжения и тщательный уход за ним необходимы, но должны соответствовать реалиям подземной жизни. Попробую пояснить это опять же на примере фотоаппаратуры. Классическая притча – как Лев Кушнер потратил месяц, оборудуя свой новый фотоаппарат дополнительными дальномерами, веревочками, связывающими все его детали так, чтобы ни одна крышечка не смогла потеряться, и много чем еще. По возвращении домой он вполне естественным образом обнаружил, что шторка затвора застряла на второй подземный день, и все пленки пусты. У меня долго происходило примерно то же самое – любой фотоаппарат и любая вспышка тихо и незаметно дохли. В попытках это преодолеть мы начали строить на штативах целые орудийные башни [19]19
И вообще ассоциации с военно-морской тематикой появляются в подземном фотографировании в самых разных местах. Так, в начале-середине восьмидесятых было очень популярно ставить и показывать полиэкранные слайд-фильмы. Это когда под фонограмму с магнитофона идет синхронный показ слайдов с двух-пяти проекторов, каждый из которых обслуживает либо все экранное поле, либо его часть, и имеется специальный пульт, позволяющий на каждой части экрана плавно замещать картинку с одного проектора картинкой с другого. Такая техника позволяет с помощью только слайдов использовать множество режиссерских и монтажных приемов, доступных только в кино, и некоторые, недоступные даже кино.
Так вот управление таким показом является точной копией управления огнем на военном корабле начала века. В задачу людей, обслуживающих проекторы, входит следить за резкостью и правильным позиционированием поля показа, а также переставлять слайд в момент выключения лампы. А непосредственное управление лампами происходит с центрального пульта. То есть – строго то же самое, как когда расчет в башне перезаряжает орудия и наводит на цель, а командный пункт только дает целеуказание и сигнал на выстрел.
[Закрыть]из трех-пяти фотоаппаратов. В надежде получить приличный снимок хотя бы с одного. Сепульки с фотоаппаратурой достигли размеров чуть ли не межконтинентальных ракет. И совершенно без толку. Мы открывали новые районы пещеры, все более тяжелые по заброске и все более агрессивные по микроклимату. Новые скорости истребления аппаратуры вполне компенсировали увеличение ее количества. Последние годы я беру с собой единственный фотоаппарат, не более двух вспышек, и забот не знаю. Мой ремнабор и навыки позволяют оживить сдохший Зенит-19 (как ни странно, самый надежный из отечественных аппаратов) за час-два даже после его падения в глубокий колодец. Не говоря уже о мелочах типа переюстировки объектива [20]20
Операция, за которую ни один здравомыслящий человек без специально оборудованной мастерской не возьмется.
[Закрыть]или замены сдохшего поджигового конденсатора во вспышке. Главное – перед каждым фотовыходом проверить всю аппаратуру и провести профилактический ремонт. При выполнении этого условия никакая предэкспедиционная наладка просто не нужна. Именно педантизм в подобных вещах и составляет ту самую основательность, которая есть sine qua non спелеологии в Кап-Кутане.
Разумеется, исключения из правила о тотальной персонализации снаряжения, есть – как и из любого правила. И некоторое количество снаряжения все-таки остается общественным, готовится к экспедиции в общественном порядке, и живет в выделенном месте лагеря. Это – топографический инструментарий и материалы, аптечка, а также ремнабор общего назначения. Для этого снаряжения выделяется специальная полочка вблизи жрательного холма.
* * *
Подземная жизнь пронизана совершенно необычной разновидностью гедонизма. В самом деле, если люди забираются на недели, а то и на месяцы, в абсолютно нечеловеческую и абсолютно некомфортную обстановку, умение наслаждаться мелкими деталями быта приобретает совершенно первостепенную важность и придает всей подземной жизни особую пикантность. Не следует понимать, что это сродни идее влезть по уши в дерьмо и наслаждаться приятными мелочами. В пещеры нас влечет совсем другое, но экстремальность условий отменить нельзя, а потому ее тоже стоит превратить в источник удовольствия. В результате вырабатываются весьма интересные традиции. Я уже рассказывал о понятии плюшки. В частности, кофе отличается от чая тем, что чай – жизненно необходимый напиток, а кофе – плюшка. Поэтому никому и в голову не приходит, что кофе можно варить в кофейнике на всех. Каждый желающий возьмет таблетку гексы и сварит кофе себе сам, и по именно тому способу, как он любит.
В 1985 году произошел любопытнейший случай, прекрасно иллюстрирующий богатые возможности по украшению жизни путем вылавливания приятных аспектов даже из аварий. Посередине засепуливания одного из самых дальних лагерей в зальчике, где устроили очередной перекур, вкусно запахло. Как оказалось, одна из девушек захватила в предвидении своего дня рождения бутылку изумительного самодельного ликера. Конечно, поосновательнее ее завернув. Бутылку это не спасло. Далее была картина, которая должна испортить аппетит любому из не-спелеологов. Из сепульки были извлечены пропитанные ликером носки (к счастью, свежие), и выжаты в чью-то каску. Декретом по экспедиции день рождения был перенесен на сейчас, и содержимое каски было торжественно по кругу выпито. Между прочим, как результат такой психологической разгрузки, засепуливание лагеря в той экспедиции было чуть ли не самым легким из всех.
Кстати о спиртных напитках. Строгой классификации, являются они продуктом, плюшкой или витамином, так и нет. У нас не сложилось традиции употреблять их много, но по вечерам в минимальных количествах это вещь абсолютно необходимая. После пятнадцати – двадцатичасового выхода снимать стресс волей-неволей приходится, а лучшего средства, чем 25–50 грамм, не придумано. Больше не стоит. На следующей же рюмке наступает обратный эффект, а напиться все равно не выйдет – не позволит тот же стресс. С этой точки зрения крепкие напитки могли бы рассматриваться как продукт или витамин. Вместе с тем тщание к их отбору говорит о том, что их скорее нужно отнести к плюшкам. Это никогда не водка – обычно самодельные настойки или, скажем, заспиртованные фрукты, или что-либо в этом роде. Не исключены, впрочем, хорошие сорта коньяка или виски – как и все остальное, это дело индивидуального вкуса, и заготавливаются они также индивидуально. Естественно, что после выхода на поверхность отношение к напиткам сразу меняется, но это уже предмет особого разговора.
Та крайняя степень индивидуализма, которая принята в нашей команде, имеет прямое влияние и на некоторые другие аспекты жизни в лагере. Так как мы все-таки ездим отдыхать, категорически недопустимо мешать отдыхать другим. Как известно, в условиях пещеры (в отсутствии природных ориентиров времени) человек почему-то автоматически переходит с 24-часового суточного цикла на существенно более протяженный. На эту тему ставилось множество экспериментов, но почему это так, никаких разумных объяснений нет. Собственно, длина суточного цикла весьма индивидуальна. Одни остаются на 24-часовом, другие выходят на 30-часовой, а некоторые – даже на 50-часовой. Если в экспедиции всего одна рабочая двойка или тройка, ее члены настраиваются на какой-то единый цикл, но если несколько – циклы «подкоманд» могут здорово разойтись. Особенно это заметно между разными лагерями, но и в пределах одного лагеря является скорее правилом, чем исключением. Возвращаясь на свой лагерь после выхода (а тем более приходя на чужой) и застав кого-то на жрательном холме, наиболее естественной формой приветствия является вопрос, вечер у них, или утро. Очевидно, что при таком разброде будить кого-либо абсолютно непопулярно, и потому непопулярны любые шумопроизводящие приспособления. Ни радиоприемники, ни гитары, ни магнитофоны в наших экспедициях практически не встречаются. Это отнюдь не означает, что все это запрещено или что мы, скажем, не любим музыку. Наоборот. К примеру, Степа Оревков всегда берет с собой флейту. Тем более, что в теплом и влажном микроклимате пещеры ее тембр существенно улучшается. Иногда гитары тоже бывают, особенно если в команде есть значительная часть молодежи, но играют на них либо в то время, когда спящих нет, либо вдали от лагеря.
Очевидно, что вышеизложенный принцип имеет еще целый ряд любопытных следствий. Так, длинные сутки вместе с отсутствием традиции друг друга будить, порождают своеобразный эффект – у каждой рабочей группы процесс утреннего вставания, завтрака, сбора и ремонта снаряжения перед выходом занимает часы. Тот, кто встает первым, варит чай всем и кофе себе (если сварит завтрак, то до пробуждения остальных он уже остынет). Постепенно подтягиваются остальные. Вечером происходит то же самое. Многие думают, что за счет сокращения времени на еду длинные сутки дают возможность тратить больший процент времени на выходы, но это абсолютно не так. Если себя не насиловать, процент продуктивного времени остается ровно тем же, возможно даже слегка меньшим. Несмотря на то, что при оптимальной длине суток на сон приходится несколько меньший процент времени.
* * *
Важнейшим моментом в организации любой подземной экспедиции является добывание в ее состав хотя бы одного человека, резко отличающегося от остальных. Примерно в каждой второй-третьей экспедиции оно удается, и такая экспедиция вспоминается долго и с величайшей приятностью. Это совсем не означает, что нужен, скажем, армейского типа козел отпущения, над которым все могли бы издеваться. Пещера – среда общения, внешняя по отношению к человеку, а потому – предоставляет гораздо более богатые возможности для извлечения всеобщего кайфа из нестандартного человека, чем любая из искусственно созданных сред типа работы, армии, корабля, и многих других. Обычно он занимает экологическую нишу типа профессора Паганеля. Не представляю, как такое может в реальной жизни получаться, но – получается. Приведу только один пример, ярчайший во всей нашей истории. Коля. Я его полностью уважаю и очень люблю, а потому фамилию называть не буду. Дабы на работе не засмеяли. Слова «Коля пошел за водой» стали классикой. Попал он в нашу экспедицию 1984 года по своей инициативе, потому что профессионально занимался вопросами охраны редкой фауны, а мы имели одной из целей экспедиции пещеру Провал, в которой живут слепые гольцы. Тем самым он, как человек со своей научной программой, имел несколько привилегированное положение. Довольно быстро выяснилась его полная неспособность к ориентации, как на поверхности, так и в пещере, а также умение живописать на досуге свои анекдотические приключения без тени улыбки.
Итак, о воде и Коле. Базовый лагерь стоял в зале Гуров в Кап-Кутане Главном, где до ближайшей воды нужно пройти 250 метров по галерее, потом повернуть в обвальном зале в боковушку и пройти еще 100 метров по прямой до зала Готический. Каждое утро Коля, привыкший к быту профессиональных экспедиций, просыпался первым и с нечего делать (за отсутствием своего большого парка снаряжения, нуждающегося в ремонте) брал канистры и упиливал за водой. В течение следующей пары часов публика поочередно просыпалась и обнаружив, что Коля пошел за водой, приходила к выводу, что чай еще не скоро, и ложилась спать дальше. Еще через часок кто-нибудь, обычно Женя Войдаков, совсем потерявши терпение, шел в обвальный зал, ловил мотающегося между глыб Колю, находил в другом углу оставленные им для ориентира канистры, и вместе с ним набирал и приносил воду.
Раз перед выходом попросили Колю сбегать ко входу в соседнюю пещеру Промежуточная и принести забазированную там сепульку с аппаратурой. Зная его особенности, заставили вызубрить маршрут наизусть: выйти из пещеры (однозначно, 300 м), идти по дороге от входа, пока она не поднимется из каньона на плато (однозначно, 1 км), спуститься в соседний каньон от этого места (300 м, просто), с середины склона проидентифицировать тракторную дорогу, спускающуюся в этот каньон с другой стороны, выйти на нее. А она через 100 метров без вариантов упрется во вход, около которого и лежит сепулька.
Вернулся Коля часов эдак через десять и с грустью сообщил, что не нашел он той пещеры. Приведу диалог дословно.
– Это как?
– Да так, ребята. Вышел я из нашего каньона. Вижу, по плато идет дорога. Я по ней и пошел. Иду-иду, нет пещеры. Вспомнил про соседний каньон. Подошел к нему, посмотрел вниз. Стенка – ух! Ну ничего, я спустился (не могу прокомментировать, как – стена в этом месте – полуторастометровый отвес, абсолютно неприступный без специальных навыков и снаряжения – авт.). Пещеры нет, дороги нет. Пошел вверх по каньону. Иду-иду, нет пещеры. Решил, что не туда спустился. Посмотрел наверх. Стенка – ух! Ничего, поднялся. Вижу, дорога идет по плато (та же самая – авт.). Пошел вверх. Иду-иду. Вокруг снег стал лежать (забрался с высоты 900 м до высоты 2500, почти до перевала – авт.). Тут понял, что заблудился окончательно, и повернул назад.