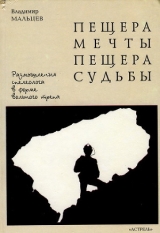
Текст книги "Пещера мечты. Пещера судьбы"
Автор книги: Владимир Мальцев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 26 страниц)
Итак, для дальнейшего продвижения просматривалась единственная возможность – спуститься метрами восемью ниже на следующий балкончик и обойти зал вокруг по узкой наклонной полочке – на той стороне примерно на нашем уровне чернела арка в следующий объем, и полочка туда, казалось, доходила. Вот здесь и пригодилась лестница – чтобы навеситься до того балкончика, да и веревка – чтобы попытаться организовать хоть какую-то страховку на полочке.
Совершенно не понимаю, почему в течение пары последующих лет, пока не были развернуты мощные горные работы и вся эта часть пещеры не была оборудована деревянными лестницами и балконами, никто с этой полочки не улетел. Скальных крючьев не было, а без них устроить из веревки хотя бы элементарные перила не удавалось. Полочка закруглялась, и была узкой, покатой и скользкой, а зал – достаточно велик, чтобы идущие в связке сдернули друг друга и долетели до низу прежде, чем веревка, привязанная у конца полки, успела бы натянуться. Когда мы в 1988 году после многолетнего перерыва опять воспользовались этим входом (к тому времени в пещеру было пробито еще два), оборудование, выстроенное самоцветчиками, уже сгнило и порушилось, и мы попробовали идти по старинке. После того как в колодец улетело две сепульки и чуть не улетел один человек, пришлось потратить почти сутки на битье крючьев и навеску всевозможных перил – жить-то хочется. А всякие антраша, считавшиеся в молодости нормой, теперь уже выглядели разновидностью русской рулетки.
* * *
За полкой случилась развилка. Тот объем, по которому мы до сих пор шли, несмотря на внушительные размеры, оказался не главной галереей пещеры, а небольшим боковым притоком. Главная галерея проходила здесь – с мощными глиняными холмами, намытыми когда-то прежде протекавшей рекой, с такими объемами, что хоть на подъемном кране разъезжай, и – пустая. Как в Кап-Кутане. То есть без единого натека.
Сначала нам не повезло. Привычка в любой пещере по возможности двигаться по течению подземной реки привела в единственную часть пещеры, полностью лишенную всяких украшений. Но оригинальную. Колоссальных размеров зал, начавшийся сразу за развилкой, противоречил всем нашим представлениям о том, что в пещерах бывает, а чего не бывает. Обычно, если объемы маленькие, то они и есть маленькие, а если уж большие, то по всем направлениям большие. Сама идея зала с плоским, растрескавшимся, как такыр в пустынях, глиняным полом, и плоским же потолком высотой всего три-четыре метра, полностью противоречила его длине мало не в двести метров и ширине за полусотню. Кончался зал не менее дурным образом – плавно растекаясь лабиринтом трубообразных ходов диаметром от метра до полутора, полностью вымазанных полужидкой глиной недавнего паводка. Так что, потратив пару часов на блуждание по этим залу и лабиринту, мы протрубили отбой и переключились на верхнее течение реки.
Между прочим, что интересно, так это откуда берутся паводки. В некоторых частях пещер системы Кап-Кутан и, в частности, в нижнем течении Промежуточной, они, несмотря на полную и безнадежную сухость пещеры, все-таки регулярно бывают, хотя ни одному спелеологу не довелось увидеть их живьем. Тот лабиринт труб, в который мы попали при первопрохождении, уже лет через пять был полностью замыт глиной и от него остался единственный узкий проход в южные районы пещеры, исследование которых началось только спустя десятилетие. И даже этот проход на моей памяти перекрывался глиняными пробками дважды. По всей видимости, паводки не связаны с катастрофическими дождями – группа Голованова была в Промежуточной сразу после дождя, учинившего в каньоне самый большой сель за четверть века, но под землей было сухо. Возможно, воду «вышибает» с обводненных нижних этажей при возникновении в них глиняных пробок, но так это или нет – пока тайна, которую пещера охраняет как-то особо ревностно.
* * *
Путь вверх по реке остался в моей памяти навсегда. Вообще-то я материалист до мозга костей и не верю ни в какие сверхъестественные штучки, но в том, что мы за пять часов смогли пройти все полтора километра главной галереи, не запилившись ни в один тупик, а на обратном пути умудрились сбиться с дороги ровно четыре раза, и все четыре с точным попаданием в четыре самых красивых из боковых залов, была какая-то мистика. Впоследствии я сталкивался с подобным только дважды, и оба раза – на таких же эпохальных первопрохождениях. Это какое-то совершенно особое эмоциональное состояние, делающее интуицию абсолютно безошибочной, близкой к предвидению.
Итак, вперед. Втроем. Слава Маркарянц. Я. И Хаким – студент Душанбинского университета, проходивший у нас практику. Рабочим такие развлечения уже надоели, и, воспользовавшись возвратом на развилку, они двинули на выход. Пить бурду, которую они считают чаем. Ближайший зал оказался опять же более чем оригинальным. Заваленный почти под потолок каменными блоками, единственным способом передвижения по которым были прыжки козлом с камня на камень (пренеприятнейшая акробатика, если ею заниматься в темноте) – зал явного продолжения не имел. По всему периметру уходили щели вниз, и то, что мы сразу попали в правильную – из области той же удивительной интуиции. В особенности – потому, что этой щелью мы откровенно ушли с главной галереи. И правильно сделали. Потому что на следующем участке главная галерея проходит по мерзейшим подвалам, пройденным только восемь лет спустя, а найденный с первой попытки обход – объемистыми коридорами.
Сразу под щелью – сюрприз. Гипсовые цветы – антолиты, чуть ли не метровой длины, висели по всему потолку, и пришлось здорово изворачиваться, чтобы не посшибать их головами. И в нескольких метрах за ними – зал, который мы назвали Долгожданным. За те самые гипсовые люстры, практически везде уже уничтоженные, которые мы так надеялись найти. И что это были за люстры! В известных пещерах только концевые кристаллы люстр были прозрачными. Здесь же они были как будто целиком выточены из единого куска хрусталя. И – висели не где-то наверху, а здесь, рядом. Любой кристалл можно было потрогать, любую грань можно было просветить фонарем. Это был даже не музей, каким выглядела входная галерея со своей геликтитовой полочкой, а – дворец.
Следующий зал, с большой развилкой, несколько озадачивал. Налево – монументальная арка, за которой луч фонаря терялся в очередном огромном объеме, направо – галерея ничуть не меньше, но – засыпанная почти под потолок щебенкой, в которой мощный древний поток прорыл извилистый каньон. А на самой развилке стояли три гипсовых даже не сталагмита, а черт его знает чего такого, но только по размерам и форме эти предметы являлись абсолютно натуралистично вылепленными унитазами. Просто грех было бы не использовать их по назначению, тем более что нас как раз и было трое.
Опять к теме интуиции. Посовещавшись на развилке, мы пришли к единогласному выводу, что каньон – это дорога в Кап-Кутан, там мы были, и это неинтересно, а вот путь налево обещает нечто новое. Туда мы для начала и пойдем. Про Кап-Кутан, конечно, было сказано шутки ради, но вот как объяснить, что в итоге кратчайшим путем туда именно и оказался этот каньон…
* * *
Зал Снежный с его глыбовыми завалами, припорошенными гипсом. Зал Круглый, по которому в поисках дальнейшего прохода пришлось заложить три круга. И в котором уже на обратном пути нашелся еще один проход, а в последующие годы – один за другим еще четыре. С растущими то здесь, то там группами медово-желтых совершенно прозрачных сталагмитов с человека ростом и толщиной, издающими при ударе кулаком низкий и чистый колокольный звон. Зал Белой Стены с теряющимися в темноте готическими сводами, покрытыми совершенно белой натечной корой. Тупик. Полный, глухой и очевидный.
Тупик? Да быть такого не может. Интуиция твердит, что нет здесь никакого тупика. Так. Смотрим еще раз. Зал не очень большой. Четыре затыкающиеся щели вперед слишком малы для того, чтобы из них могла выходить река, промывшая эту колоссальную галерею. Наверх. Похоже, что там, в темноте, скрывается какой-то верхний этаж. Все равно веревок нет. И большая часть пола – ровная глина. Не похоже это на котел под водопадом, всегда отмытый дочиста от всего, что мельче крупных глыб. Левая стена. Щель, похоже, идет к каньону, но по ней большого потока явно не было. Кстати, как мы умудрились без отрисовки топосъемки на расстоянии более километра от входа определить близость к каньону – тоже до сих пор удивляюсь. Пещера была через три года вскрыта штольней именно в этой точке, и длина штольни оказалась всего тридцать метров. Так. Вот это уже интересно. Похоже, что проход дальше под правой стеной, и он замыт глиной. Повнимательнее посмотреть, можно даже лечь на пузо. Ага! А ведь под стеной есть-таки горизонтальная щель. И не до конца замытая. И ведь всего в метре впереди потолок опять повышается!
Подкопали. Проползли. Гроб. Натуральный. В самом прямом смысле. Зал размером с большую комнату, очень строгих очертаний, без всякого убранства, с очень ровным глиняным полом, с одним входом и одним выходом таких габаритов, что только ползком. А посередине – один-единственный камень. По размерам и форме точно соответствующий саркофагам египетских фараонов. И настроение навевает соответствующее.
Зал Склеп. Хорошее название. Жизнеутверждающее. И не затасканное. Перекур. С перекусом. Несмотря на всевозможные ассоциации, зал удивительно комфортен – вся его архитектура настолько строга и совершенна, что глазу просто не на чем остановиться, и автоматически возникает состояние отдыха. И достаточно мал, чтобы не давить, но достаточно велик, чтобы не возникало чувство стесненности.
* * *
Между прочим, на перекуре вполне приличествует степенно порассуждать о названиях пещер и залов. Например о том, что во всякой околоспелеологической возне распространилось такое отношение к названиям, что и буддийского монаха взбесит. Пожалуй, только треть спелеологов умеют уважительно относиться к названиям, которые дают залам, и даже пещерам, первооткрыватели. Найти в пещере один новый зал, и после этого переименовать всю пещеру – теперь чуть ли не норма. В результате некоторые пещеры известны под двумя, тремя, или даже пятью названиями, а что уж тут говорить об отдельных залах! Более того. Периодически создаются какие-то общественные и полуобщественные комиссии по наименованиям – и разражаются целыми сериями рекомендаций на тему того, какие названия желательны, какие нежелательны, а какие подлежат обязательной замене.
Бред, господа. Давайте просто уважать друг друга. А также – местное население. Если пещера на момент начала исследования ее спелеологами имеет местное название – оно должно быть сохранено. И если пещера, или новый ее зал, получают название от первопроходцев – это их право, и право священное. Никто не вправе заниматься переименованиям без согласия тех же первопроходцев. По счастливой случайности названия, которые мы дали залам Промежуточной, остались в обращении все. Чего совсем нельзя сказать о других пещерах Кугитанга, да и не только Кугитанга. Так, например, известнейшая из оборудованных для туризма пещер бывшего СССР – Анакопийская Пропасть – с момента оборудования получила новое название – Новоафонская Пещера, а в момент возникновения первых трений между Грузией и Абхазией все до единого ее залы тоже получили новые названия. Разумеется, абхазские. А на Кугитанге, например, пещеру Геофизическая, пытались переименовать не то пять, не то шесть раз, вместе со всеми ее залами.
* * *
Следующий зал не просто поражал. Пожалуй, ничего равного ему не было найдено на Кугитанге ни до того, ни после того. Уже во входной галерее пещеры мы видели совершенно поразительные геликтиты, но то, что росло в зале Цветочном, ни с чем не шло ни в какое сравнение. Много позже были найдены целые лабиринты узких коридоров, заросшие чем-то подобным, но здесь потолок целого зала, размером чуть ли не в стадион, был густо покрыт ковром снежно-белых и оранжево-красных извивающихся и ветвящихся геликтитов, длиной подчас в пару метров, то растущих ровным слоем, то сплетающихся в многометровые клумбы. И потолок этот был не где-то на границе видимости, а всего на высоте двух-трех метров, то есть виден во всех своих деталях, причем отдельные клумбы спускались практически до полу. И если бы только геликтиты… То тут, то там среди них спускались сталактиты, покрытые причудливыми кораллитовыми кустами. А на полу – блестящая натечная кора, на которой тоже росли всевозможные кусты, и – блестели озера. Не одно, и не два, а десяток.
Сейчас от Цветочного не осталось ничего. Основные горные работы были развернуты спустя три года именно в этом зале, и все великолепие потолка, не растащенное до того времени на сувениры, рухнуло от сотрясения при первом же взрыве. Камень – штука гораздо более хрупкая, чем даже стекло, и ажурные хитросплетения тонюсеньких геликтитов рассыпаются вдребезги, если просто долбануть по соседней стене молотком. Даже рухнувших на пол осколков уже нет – пыль, поднятая теми же взрывами, скрыла под собой все остатки былой роскоши. Теперь этот фантастический дворец выглядит просто заброшенной шахтой – валяются запчасти от механизмов, стальные тросы, заплесневелые бревна, пыль.
* * *
В дальней части зала появились первые признаки близящегося конца пещеры. Она не стала уменьшаться, просто стала совсем другой, а это – всегда признак назревающих проблем. На полу вместо глины появилась галька. Слишком крупная, чтобы быть накатанной пещерной рекой, и в слишком больших количествах – весь пол выстелен толстенными наносами. Пещера явно входила под каньон и засасывала гальку из него, что предвещало ее полную закупорку.
Рельеф тоже изменился. Теперь объемы были засыпаны галькой почти до потолка, и только там, где в потолке были купола и желоба, остались человеческие проходы. Некоторые – в рост, а в некоторые можно вползти только на полном прижиме. И – красиво. Как и в начале пещеры, своды приобрели округлость и кроваво-красный цвет, но вместо разбросанных гипсовых блесток украшением служили висящие на потолках остатки растворенных сталактитов. Белые. Между прочим, очень своеобразное сочетание цветов – красные стены и потолок, редко и со вкусом развешенные очень белые остатки бывших сталактитов, и серо-голубая галька под ногами.
Самый высокий проход выводил в последний крупный зал пещеры – Каскадный. Зал был метров на пять приподнят завалом над уровнем гальки и очень красиво украшен. В совершенно новом для пещеры стиле. Пещеры системы Кап-Кутан чрезвычайно мало похожи на «обычные» пещеры. Сталактиты и сталагмиты в них – редкость и встречаются, как правило, «в одиночку», вплетаясь при этом в самые невероятные образования, чрезвычайно редко попадающиеся в обычных пещерах. Собственно, залов, похожих своими украшениями на пещеры обычного типа – полностью обвешанных гладкими корами, сталактитами, сталагмитами, драпировками, словом, всем тем, что породило для украшений пещер общее название «натеки», на всем Кугитанге на тот момент было известно ровно три. Готический и Жемчужный залы в Кап-Кутане Главном с их монументальными многометровыми грязноватыми натеками, точно такими же, как в любой украшенной пещере Крыма или Кавказа, и – Тронный в том же Кап-Кутане Главном со своими компактными, но невероятно чистыми и прозрачными сталактитами.
Перед нами открывался четвертый «классически пещерный» зал. Резко отличающийся от всех предшествующих. Главным образом вот в чем: натеки мало, что были прозрачными, вплоть до стеклянно-прозрачных – они были еще и разноцветными. Кроме бесцветных, здесь были натеки всех цветов желто-красной гаммы в самых причудливых сочетаниях. Никакие две висящие рядом каменные сосульки не были окрашены одинаково. И даже бесцветные выглядели окрашенными. Потому что стены были тоже разноцветными. Покрытыми красной, желтой и оранжевой глиной, поверх которой были еще и нашлепки сахарно сверкающего гипса. В дополнению ко всему, в зале раздавался, громкий звон капели, собирающейся на натечном полу в крошечные ручейки и озера. Как в любой из известных пещер Кавказа.
* * *
Дальше было некуда. Во всех смыслах. В направлении вперед зал заканчивался подвальчиками, из которых шли проходы, затянутые галькой почти под потолок, и расширения вдали не просматривалось, хотя галька с потолком тоже нигде не смыкалась. Каждый тупичок выклинивался в щель высотой сантиметров десять, из которой тянул сильный сквозняк, и в которой единственное, что просматривалось – стоящие на гальке то тут, то там маленькие удивительной чистоты сталагмиты, похожие на оплывшие свечи. Копать можно, но долго и тяжело. А в сторону верха завала зал заканчивался каменными щелями, из которых тоже подтягивало ветерком, но в них без динамита совсем не пролезть. С точки зрения логики пещере тоже пора было заканчиваться. Она явно уже продемонстрировала нам весь свой ассортимент. Многого из увиденного и в чудесном сне присниться не могло, и поэтому представить себе, что впереди может быть еще что-то новое, причем другое, нам было трудно.
Как мы ошибались! Следующий зал, расположенный десятью метрами дальше, и для достижения которого достаточно было прокопать всего метра четыре (да что там прокопать – разгрести руками эту дурацкую гальку), и найденный одной из красноярских групп всего через год, был весь покрыт арагонитовыми «железными цветами» – редчайшими образованиями, никогда раньше не встречавшимися не только на Кугитанге, но и вообще в обычных пещерах – только в маленьких полостях, вскрываемых при отработке рудных месторождений (откуда и название). Железные цветы, причем не совсем того же типа, были повторно найдены только в северной части Кап-Кутана восемью годами позже, и только в одном маленьком лабиринте.
Самое смешное, что мы до этого зала еще раз чуть-чуть не дошли спустя час – когда попробовали на обратном пути найти еще какой-либо вариант из переходного лабиринта между Цветочным и Каскадным залами. В одном месте галечная река на полу принимала большой боковой приток из совершенно непрезентабельного вида, но тем не менее вполне проходимой щели, из которой, в придачу ко всему, тоже подтягивало ветерком. Щель выглядела настолько гнусно, что всей командой сразу лезть не решились. На разведку пополз я, как наибольший энтузиаст пещер. Как до того, так и после, мне очень редко приходилось ползать на брюхе по такой дряни, как галька размером крупнее кулака, да еще периодически протискиваться на выдохе. Уже на двадцатом метре болело все, а щель шла себе и шла, не меняясь ни на йоту. Сто тридцать метров – и тупик. В котором – ура! – оказалось расширение, пригодное не только для разворота, но и для небольшого сидячего отдыха. А я уж совсем было свыкся с мыслью, что если тупикнется, то придется выпячиваться, как это ни прискорбно, задним ходом.
Тупик был странный. Тонкие прозрачные сталактиты, начавшиеся метров за десять до тупика, постепенно становились гуще и длиннее, срастаясь в сплошную стену. Доходящую не то, чтобы до полу, но до поверхности озера, заполнившего по ширине весь проход в тупике. Без кувалды дальше никак, а сколько метров будет тянуться эта сталактитовая стена, совершенно непонятно. И ветер поддразнивает. И хочется, и колется. По пути назад созрела совершенно садистская идея.
– Макар (на участке Маркарянца иначе не называли), там, кажется, идет, только натечную стенку подрубить нужно. А нечем – галька мелковата. Я чуток запарился, так что пока отдыхаю, взял бы булыган поосновательнее, да занялся бы?
Через полчаса вылезает Слава, и, с трудом сдерживаясь, объясняет Хакиму, что почти прорубился, но тоже здорово устал, а после того, как Хаким исчезает в щели, начинает декламировать поэму о том, что он обо мне думает. Словом, тупик в итоге получил название Галерея Фанатиков.
Забавно, но до сих пор непонятно, где мы там тупик-то увидели. Во всяком случае, Вятчин, заинтересовавшийся в 1985 году Галереей Фанатиков и полезший туда с целым арсеналом тяжелого вооружения, так и не понял, где и на чем мы остановились – ход, хоть и не самым приятным образом, но без единого серьезного препятствия приводил в тот зал, куда прокапывались из Каскадного красноярцы. Да, в середине было озеро, но не по всю ширину. Да, росли сталактиты, но не сплошной стеной, и опять же не во всю ширину. И никто их не порубил – осколков на полу нет.
* * *
Обратный путь, запомнился, пожалуй, даже больше, чем прямой.
Во-первых, состоянием полной эйфории. Когда идешь вперед, оставляя первые следы на никогда не посещавшейся человеком земле, это как-то даже почти не осознается, просто воспринимается как должное. Вот когда возвращаешься обратно по своему следу – только тогда начинаешь понимать всю значимость содеянного и ощущать себя первопроходцем. Земля без единого следа – все-таки просто земля, а земля, на которой есть следы, причем только твои, и ведущие только в одну сторону – вот это уже твоя земля. Не в смысле обладания. Просто твоя.
Во-вторых, обратный путь был даже богаче открытиями, чем прямой. Промежуточная – пещера, изобилующая неожиданностями и весьма сложная для ориентирования. Даже свои собственные следы и топографические пикеты не спасают. [3]3
Листочки бумаги, колышки, металлические бирки, используемые при топографировании. Дополнительно они выполняют функцию ориентиров, обязательно имея стрелочку в сторону выхода.
[Закрыть]Стоит выйти на прямую и перейти на автопилот, как немедленно заносит куда-нибудь не туда.
Впрочем, что такое «туда» и что такое «не туда» – в приложении к Промежуточной понятия более чем неопределенные. Когда нас занесло из Цветочного в боковой зал совершенно необыкновенной красоты, это соображение до нас еще не дошло. А дошло только когда нас занесло второй раз – в Круглом. Открывшийся лабиринт был просто невозможен. Геликтиты совершенно нового типа: почти совершенно прозрачные и посверкивающие гранями кристаллов, не покрывали всего потолка ковром, а свивались в довольно редкие и с невероятно тонким вкусом и чувством меры расположенные абстрактные композиции. Под каждым клубком геликтитов рос тоже прозрачный и сверкающий сталагмит. А на кончике примерно каждого пятого клубка топорщилась полуметровыми прозрачными кристаллами надетая на него гипсовая люстра. Если бы найденный лабиринт содержал один такой зал, это еще можно было бы пережить. Но более десяти, связанных между собой узкими проходами, и совершенно разных – уже перебор. В одном люстры есть, в другом нет. В третьем геликтиты не коричневые, а медово-желтые, а в четвертом они покрыты нежно-голубыми кристаллами целестина – тоже редчайшего в пещерах минерала. И все залы самого комфортного размера – с нормальную большую комнату, но немного пониже.
* * *
Гибель пещеры началась именно с описанного лабиринта, названного Великолепием, и именно с того момента, когда мы, слегка усталые и ошалелые, вылезли к границе Круглого. Маркарянц, совершенно подавленный количеством и разнообразием увиденного, со словами «По праву первооткрывателя!» оторвал филигранной работы гипсовую люстру. Причем будь все обставлено немного по-другому, никакого бы разгрома пещеры не началось. Роль сыграло слово, не действие. Как мы поняли спустя несколько лет, эта люстра, как оно ни апокрифически звучит, все равно должна была быть оторвана и вынесена для какого-либо музея. Иначе она, растущая на высоте ниже человеческого роста прямо посередине главного прохода в прогнозируемо популярный лабиринт, неминуемо погибла бы бесславно, сбитая чьей-либо головой. Сейчас же весь участок в напряжении ожидал решения о судьбе пещеры, а заодно и всех остальных пещер массива (конечно, приземленно – пустят с пилами, или нет), и слова Маркарянца были восприняты именно как решение, послужив тем самым детонатором дальнейшего.
Великолепие – лабиринт по всем статьям уникальный. Даже десять лет спустя в Великолепии сохранилось вполне достаточно красот, чтобы лабиринт оставался посещаемым местом, хотя трудно даже представить, сколько тонн сувениров было оттуда похищено. И это кажущееся невозможным сохранение красоты ограбленного зала вполне объяснимо. Оникс там не брали – мало, низко и узко, а грабеж на сувениры в этом лабиринте не оставлял следов, если не считать мелких осколков на полу. Когда геликтиты растут сплошь, как в Цветочном, изъятие одного сувенира размером с кулак приводит к разрушению всего потолка на площади более квадратного метра. В Великолепии же красивости росли отдельными клубками, и брали только те из них, что получше, не размалывая остальных. Естественно, то, что уцелело, лишь отдаленно напоминает первозданное убранство лабиринта, но все равно красиво.
* * *
Еще раз мы слетели с дороги уже намеренно, поскольку успели заметить, что в любом зале завал пола к боковой стенке, сопровождаемый появлением на потолке белесых пятен – предтеч геликтитов – это сигнал: примыкает красивый зал или лабиринт. Боковушка от зала Снежный оказалась достойной, но опять же полной неожиданностей. Под белесыми пятнами на потолке оказалась не арка в соседний зал, а мощная каньонообразная галерея, валящаяся вниз так круто, что пришлось на ее уступах друг друга подстраховывать, и – выводящая на огромный перекресток, на котором откуда-то справа отчетливо слышался звон капели.
Сказка. Иного названия открывшемуся лабиринту придумать было просто невозможно. Начинался он залом, практически во всю площадь пола которого возвышался сталагмит-холм, в пропорциях повторявший шлемы русских витязей, и метров восьми в высоту. На вершину холма, немедленно окрещенного Шапкой Мономаха, с потолка лилась струя воды, в каждой из тысяч крошечных лужиц блестел пещерный жемчуг, и – в стенах открывалось сразу несколько коридоров. Все до единого – оформленные по мотивам народных сказок с примесью «охотничьих рассказов» бывалых спелеологов. Готической формы проходы, в которых можно было идти только пригнувшись. А вдоль стен – рядком висели метровые стеклянно-прозрачные сталактиты, расплющенные и изогнутые ветром в подобие сабель. Каскады озер с пещерным жемчугом. Натеки, сложенные огромными кристаллами кальцита с выступающими на поверхность гранями, сверкающие ничуть не хуже украшений на витрине шикарного ювелирного магазина. Нежнейший пух арагонитового инея на тончайших геликтитах.
И – Озеро Кувшинок. Одно из самых больших озер в системе. По всей его поверхности были равномерно разбросаны удивительно похожие на листья кувшинок каменные забереги, растущие на подходящих к поверхности воды затопленных сталагмитах. Местами из воды торчали кусты кристаллов, усиливая аллегорию своей похожестью на цветы тех же кувшинок. Единственное, что было неправильным – цвет. Кувшинки получались с желтыми листьями и оранжевыми цветами. По озеру можно было гулять, шагая с листа на лист – некоторые достигали полуметрового размера. Можно было лежать, потягивая воду через трубочку отвалившегося под собственной тяжестью сталактита. В общем, сказка – она и есть сказка.
Немного утешает, что за исключением Озера Кувшинок все остальное имело больше отношения к чистой эстетике, чем к науке, и поэтому потеря Сказки казалась наименьшим злом во всей истории уничтожения пещеры. Правда, сам метод ее уничтожения вызывает особое возмущение своим идиотизмом. Если судьба остальных красивых залов была предопределена, то по поводу Сказки любой понимающий человек мог с первого взгляда уверенно сказать, что оникса там нет. Такие крупные сталагмиты, как Шапка Мономаха, по определению состоят не из пригодного к полировке плотного кальцита, а из рыхлого и некрасивого известкового туфа. [4]4
Дело в том, что кристаллизация кальцита происходит не от испарения раствора, а от потери им углекислого газа. При быстром течении потеря идет слишком быстро и кристаллизация становится хаотичной.
[Закрыть]На дне Озера Кувшинок тоже очевидно, что ничего, кроме рыхлого массива затонувших корочек, быть не могло. Тем не менее какой-то кретин приказал взять перфоратор, и разбурить и то, и другое по сетке полметра на полметра дырками, в которые кулак пролезет – и все только для проверки очевидного утверждения, что ничего ценного там нет.
Озеро Кувшинок, к счастью, оказалось не уникальным. Спустя десять лет в американской пещере Lechuguilla были обнаружены озера, выглядящие в точности так же, и даже гораздо больше и красивее. А вот другие залы Промежуточной содержали такие типы натеков, подобных которым до сих пор нигде в мире так и не найдено.
* * *
В общем, на поверхность мы вышли только через двенадцать часов, каждый из которых вместил для каждого из нас больше открытий, чем вся предыдущая жизнь. И, пожалуй, после того, не знаю, как остальным, а мне уж точно больше ничего подобного испытать пока не довелось. То есть, конечно, первопрохождения были, и много, но ни одно из них не одарило всего за сутки такими огромными лабиринтами, и ни одно из них не открыло такого разнообразия подземных красот. Подобный шанс дается только раз в жизни, и одному из многих тысяч. Удивительно, что этот шанс выпал именно нам и именно тогда, когда мы были психологически готовы к тому, чтобы стать пещерными вандалами, и вообще были наименее достойны его.
Первопрохождение центральной части Промежуточной, которая только и стала известной самоцветчикам, конечно, не исчерпалось одним днем. Три месяца подряд чуть ли не каждый день мы ходили в пещеру, и каждый день приносил открытия. Я тогда еще только начинал изучать минералогию пещер и понимал очень и очень мало. Поэтому очень и очень многие натеки различных типов и редкие минералы прошли мимо моего внимания и были растащены или уничтожены взрывами. Ценнейший для науки материал пропал безвозвратно. Только в последние годы, после открытия района Зеленых Змиев, мы стали находить нечто похожее на отдельные пропавшие феномены, но, естественно, безо всякой гарантии, что они в точности повторяют утраченные. Например, исчезнувшие зеленые гипсовые люстры из Галереи Глиняной Речки. За последние несколько лет в новых районах Промежуточной было обнаружено несколько минералов, окрашенных никелем в зеленый цвет и формирующих подобные окрашенные подложки под гипсовыми люстрами. Но – минералов редких, и встречающихся в очень небольших количествах. Представить, что только благодаря им все натеки в целой галерее были сплошь окрашены в зеленый цвет, трудно. Вероятно, этот цвет все-таки имел какое-то иное происхождение.
Трагедия Промежуточной не закончилась. После прекращения разработок пещера изрядно увеличилась, и даже обросла многими залами, не уступающими центральным по красоте, хоть и уступающими по объемам. Так что красоты в ней опять есть, и немало. Но вот то, что центральная часть пещеры напоминает заброшенный рудник, препятствует ее серьезному восприятию посетителями как пещеры, заслуживающей сохранения. Пожалуй, это теперь единственная пещера массива, в которую до сих пор делают организованные вылазки охотники за сувенирами.








