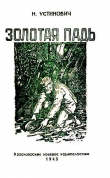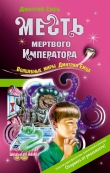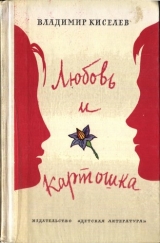
Текст книги "Любовь и картошка"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
– А вам это не нужно? – спросил Вася.
– Нет. Нам не нужно. И Сережин пергамент школьному музею не нужен. Хоть документ это интересный, крепкий. Из такого хоть мячи делай.
Попозже Сережа, выбрав время, когда Платон Иннокентьевич был один, принялся расспрашивать археолога о том, как и почему был зарыт этот клад неподалеку от дуба – «памятника природы районного значения».
– Есть разные теории о том, почему люди зарывали клады,– сказал археолог.– Некоторые ученые считают, что это делали при нападении противника, при пожаре. Но, по-видимому, это неверно. При пожаре, при нападении человек не успел бы так аккуратно сложить свои ценности, вынести их, зарыть, заровнять землю. Очевидно, в действительности, как правило, это были деньги, спрятанные на черный день. В людях всегда жил страх перед завтрашним днем. И одного материального благополучия, наверное, недостаточно, чтоб избавиться от этого страха. Тут нужно, чтоб за спиной человека стояло могучее и гуманное государственное устройство.
Сережа вспомнил деда Матвея и подумал о том, что, наверное, даже и этого недостаточно.
– Понятно,– сказал Сережа.– Но ведь там и на два рубля не набралось мелочи. Что же это был за человек, что оставил себе на черный день эти копейки?
– Ну, представь себе ваше село сто – сто пятьдесят лет тому назад. Глушь, зимой волки забегают, и ими пугают детей. Нищета такая, что статистики, которые вели здесь обследование, записали: в селе Бульбы тараканов нашли только в четырех хатах. В остальных они не держались – нечем было кормиться. Даже крошек не было. При таком убожестве деньги, которые вы откопали, не казались жалкими грошами. Их могла годами собирать какая-нибудь крепостная семья. А скорее всего, это был странник, нищий, и спрятал он свое сокровище от лихих людей. Старый дуб и тогда уже был памятным местом.
– Нищий – это я понимаю,– согласился Сережа.– Но почему семнадцать шагов от дуба?
– А почему ты выбрал семнадцать шагов?
– Не знаю. Наверно, чтоб подальше от корней.
– Вот и он не хотел натолкнуться на корни. К тому же есть такое старое наблюдение: когда лгут, чаще всего называют нечетное число.
– Платон Иннокентьевич,– помолчав, спросил Сережа,– а когда кладовщик сказал, что за часть эту к машине, за бендикс, просят семнадцать рублей... вы знали, что он врет?
– Знал, Сережа.
– Почему же вы не сказали этого ему в глаза?
– Ты прав, Сережа. Но иногда очень трудно сказать человеку в глаза, что он лжет. Особенно если ты нуждаешься в его услугах.
А случай с кладом, найденным Васей недалеко от дуба – «памятника природы районного значения», сразу же стал историей, которую начинают словами «у нас в селе».
3. Инопланетянин
...В своем прозрачном голубоватом скафандре, в золотистом комбинезоне из какого-то неземного, похожего на мех материала, с многочисленными глазами и шестью руками Ин уже не казался Сереже таким странным и чужим, как вначале.
– Спрашивай,– сказал он голосом Виктора Матвеевича, и в голосе звучала улыбка.– «Бабушка, бабушка, почему у тебя такие большие глаза?»– «Для того, чтобы лучше тебя видеть». Как в вашей сказке о Красной Шапочке.
– Ты знаешь эту сказку? – удивился Сережа.
– Знаю. Я уже много о вас знаю.
Тихий и мелодичный голос Виктора Матвеевича Сережа отличил бы и среди тысячи голосов. Его уже не было, и на сельском кладбище медленно оседала земля на его могиле, а голос его звучал.
– Ты бессмертен? – нерешительно спросил Сережа.– Или вы тоже когда-нибудь умираете? Как мы?
– Умираем,– ответил Ин.– И в этом справедливость природы. Все разумные существа должны обладать совестью. А совесть требует от разумных существ, чтоб они помнили, что им еще предстоит умереть. Чтоб они жили так, словно каждый их день – последний. Перед лицом предстоящей смерти разумные существа не станут кривить душой и постараются жить так, чтобы поменьше жалеть о сделанном плохом и несделанном хорошем.
– И все равно, - возразил Сережа,– в смерти, особенно ранней, есть что-то жестокое, что-то глубоко несправедливое.
– Может быть,– согласился Ин.– Но мы умираем совсем по-другому, чем у вас на Земле. Мы доживаем до полного расцвета. По земным масштабам это примерно лет до семидесяти, а потом идет такое же медленное, как рост, развитие в обратном направлении. Мы становимся все моложе, меньше, пока не превращаемся в ту изначальную клетку, в тот ген, с которого мы начинались. А гены, как ты знаешь, не гибнут. Они передаются.
– Здорово,– уважительно сказал Сережа.– А другие существа, кроме вас, животные какие-нибудь или растения, есть на вашей планете?
– Есть, конечно.
– И они тоже знают, что пройдут такой путь? Что в конце концов превратятся в ген?
– Конечно, знают. Но у нас это никого не пугает, потому что на нашей планете всем известно, в чем состоит цель жизни.
Сережа даже присвистнул:
– Вот так штука...
– А у вас только человек знает, что он неизбежно умрет? Животные этого не знают? – спросил Ин.
– Нет,– ответил Сережа.– Только человек. Животные об этом даже не догадываются. Правда, есть одно странное животное...– нерешительно продолжал он.
– Какое? – быстро спросил Ин.
– Я сам, правда, не видел... Нам Клавдия Захаровна рассказывала. Но ей можно верить. Это человек надежный. Так вот, она говорила, что бурундуки, ну, грызуны такие... они водятся в тайге... маленькие такие животные... они живут в норах. Летом собирают всякие семена, грибы, насекомых, а зиму пережидают в норе. Но если запасы у бурундука пропадут, если их сожрет какое-нибудь другое животное... или если даже бурундуку просто не удастся сделать запасов... ну, неурожай и не соберет он необходимого количества семян кедра, сосны, ели, тогда бурундук находит куст или деревце, у которого ветки расходятся рогаткой, и засовывает в рогатку голову. А проще говоря – вешается. Кончает жизнь самоубийством. Может, он понимает, что лучше сразу со всем покончить, чем еще долго страдать и мучиться от голода?
– Едва ли,– возразил инопланетянин.– Скорее всего, бурундук ничего этого не сознает. Им движет инстинкт.
– Может быть,– неохотно согласился Сережа.– Только странный это какой-то инстинкт... И еще у нас черви. Они вылазят во время дождя из-под земли наружу. И гибнут. По сути, тоже кончают самоубийством. Ты не знаешь, почему они это делают?
– Не знаю,– с сомнением в голосе ответил Ин.– На нашей планете нет дождевых червей.
– Так в чем же цель жизни? – напомнил Сережа.
– Цель? – на минутку задумался Ин.– Так ведь это очень просто. Сейчас я тебе скажу...
И тут вдруг его что-то перебило. Связь прервалась так, словно на кольце из неизвестного серебристого металла замкнулась радиотрансляционная линия. В голове у Сережи зазвучал марш из «Веселых ребят».
Глава девятая
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Сидя на корточках у костра, Матвей Петрович поковырял пальцем землю, оглянулся, подобрал свой топорик, разрыл лезвием почву, вытащил черную железку, постучал ею по обуху и позвал:
– Смотри, Наташа, осколок. Может, подойдет в музей этот ваш?
Наташа взяла осколок.
– Тяжелый. От чего он?
– Покажи, Наташа,– попросил генерал Кузнецов. Он осмотрел черный, с рваными краями осколок и определил: – Это не от бомбы. От снаряда.
– От нашего? – спросила Наташа.
– Осколки тут все немецкие,– ответил Матвей Петрович.– У нас орудиев не было.
Генерал Кузнецов оглядел поляну так, словно прикидывал про себя, откуда прилетел снаряд.
– Кто отрядом командовал?
– Председатель,– сказал Матвей Петрович.– Он тут с коллективизации главный.
– Хорошее место для базы,– одобрил генерал Кузнецов.– Болота, река. Но это для летнего времени. А как зимой? Когда болота замерзали?
– Зимой что тут делать? – зябко поежился Матвей Петрович. – Зимой подальше в лес забирались. Не приведи господь.
Григорий Иванович подошел к костру, попросил у генерала осколок и потряс его на ладони, словно взвешивая. Лицо его приняло строгое и напряженное выражение.
– Ты, Гриша, маленький был, не помнишь,– сказал Матвей Петрович.
– Почему маленький?.. Пятый год. Анна Васильевна повторила печально:
– Пятый год.– И спросила у Матвея Петровича негромко, со скрытой болью: – Это тогда Виктор ноги отморозил?
– Тогда,– со вздохом ответил Матвей Петрович.– Еле отходили.
Зябко поежился и генерал Кузнецов.
– А в степи зимой,– вспомнил он,– под Котельниковом...
Матвей Петрович взял у Григория Ивановича осколок, для чего-то поцарапал его твердым горбатым ногтем указательного пальца и сказал удивленно:
– Вот интересно мне: Наташа с Витей покойным осколки собирали, патроны трухлявые. Много чего понаходили. Даже наконечники от стрел. Кремневые. Потом музей в школе из этого сделали. Теперь археологи в земле нашей роются. Топоры каменные выкопали. С ними, может, еще на мамонтов охотились. Это ж сколько лет здесь люди живут?.. А ведь болота, лес, глушь. Могли же они выбрать места получше. Где-нибудь у моря теплого, где всякие апельсины растут. Или бананы какие-нибудь. А цеплялись за эту землю. Говорится: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Видать, неправда это. Человек ищет, где безопаснее.
– Если бы люди искали, где безопаснее,– вмешалась Алла Кондратьевна,– мы бы до сих пор на деревьях сидели. Здесь была их родина. Потому они тут и жили.
– Ну да,– не согласилась Наташа и спросила у своего отца: – Знаешь, почему наше село Бульбами называется? Археолог наш, профессор Платон Иннокентьевич, в каких-то старых грамотах нашел... Сюда крестьяне бежали. С Псковщины. После бунтов картофельных. После петровского указа картошку сажать. И прозвали их тут «бульбами».
На Аллу Кондратьевну авторитет профессора не подействовал.
– Если так рассуждать, так можно додуматься до того, что и Тарас Бульба от картошки бежал.
– Это неправильно,– не согласился с Наташей и Сережа.– Здесь и в допетровские времена жили люди. Неизвестно только, как тогда село называлось. Но ведь Васькин предок был родом отсюда.
Все присутствующие, кроме генерала Кузнецова, видели фотокопию исторического документа, которая висела на стене в доме председателя колхоза. Наташа и Сережа пересказали генералу историю этой фотокопии и ее содержание.
Сын Павла Михайловича когда-то отыскал в архивах исторический документ, рассказывающий о его предке. Может быть, этот человек и не был прямым предком Павла Михайловича и, таким образом, Ивана Павловича и Васи, но фамилия его была по этому документу Гаврилов, что по-русски значило то же, что Гавриленко по-украински. Сын Гаврилы, принадлежащий Гавриле. Происходил он из этих мест, а кроме того, в роду Гавриленко сохранилось предание о том, что один из их предков бежал на Запорожье к казакам, а потом попал в турецкий плен.
Одиннадцать лет провел Ефим Гаврилов,. Гавриленко, в плену, в кандалах, в мучениях, несколько раз бежал и все равно сумел вернуться к себе, на край Украины, на свою такую бедную и такую родную землю.
– Конечно,– заключил Сережа,– к тем, кто здесь прежде жил, прибавились крестьяне, бежавшие от картошки.
– Бежали они от картошки, бежали,– прищурился Матвей– Петрович,– и к картошке прибежали. Почему только она им не показалась?
– Картошка тогда другой была,– солидно пояснил Серено.– Мелкая. И невкусная. Было от чего бежать.– Он посмотрел на Наташу и добавил: – Не то что теперь некоторым.
– Выходит, ни самому съесть, ни другому продать,– посочувствовал Матвей Петрович псковским крестьянам петровских времен.– На такой не заробишь...
– Ну что вы все «заробить»! – с неожиданным раздражением оборвала его Алла Кондратьевна. – На все у вас одна мерка – какой будет заработок. А к чему он вам? Посмотрите на себя. Бригада у вас, как пол-Бельгии. Ну, не пол-Бельгии, так два Монако. А вас от прицепщика не отличишь.
– Зачем мне отличаться? – неохотно возразил Матвей Петрович.
– Затем, что вы в учреждения разные ходите, колхоз там представляете.
Сережа прежде никогда не задумывался над тем, почему дед Матвей всегда носит серый бумажный пиджак, который, если он и менял – снашивались же они у него когда-нибудь,– то и новый сразу же выглядел точно так, как старый. И сапоги никогда не выглядели новыми. Но вот оказалось, что все это неспроста.
– Так что мне, в цилиндре ходить? – проворчал Матвей Петрович и добавил: – По нашим делам в старом спинжаке лучше. Посмотрят, человек простой, лишнего не спросят.
Григорий Иванович поискал что-то глазами на лице Матвея Петровича, затем на лице Аллы Кондратьевны и улыбнулся иронически:
– Еще бы. Битый кирпич на аммиачную воду в белых перчатках не поменяешь.
– Мы на земле работаем, Гриша,– сразу же отозвался Матвей Петрович.– С наземом. Чистыми руками хорошо в конторе костяшками пощелкивать.
Слова Григория Ивановича задели за живое и Аллу Кондратьевну. Она зло блеснула глазами:
– Ты, Гриша, ври, да не завирайся. Ты здесь тоже человек не чужой: премии за урожайность вместе со всеми получаешь. А уродила бы у нас так картошка, когда б не достала я на стороне удобрения?
– Удобрения фондируются,– твердо ответил Григорий Иванович.– Ты достала – значит, кому-то недодали.
– Кому это недодали? – с презрением спросила Алла Кондратьевна.
– Тем, которые не ездят по начальству с грибами сушеными,– бросил ей в лицо Григорий Иванович.– Но говорят: вот вам полесский сувенир... А полиэтилен твой? Вот слово тебе даю: я его на бюро вытащу. Думаешь, не знаю, как ты весною клубнику в лукошках, а осенью клюкву посылаешь...
Алла Кондратьевна была искренне расстроена.
– Ну не могу я с ним, Анатолий Яковлевич,– негромко сказала она генералу Кузнецову.– Как с другой планеты человек.– И, преодолев себя, принялась уговаривать Григория Ивановича: – Гриша, ну оплати ты этот полиэтилен. Прошу тебя. Как друга. Ты думаешь, ты меня режешь? Ты колхоз режешь. У нас договор, сроки! Не получим денег за цветы, хоть караул кричи!..
Григорий Иванович смотрел на Аллу Кондратьевну спокойно, так, словно все это не имело к нему никакого отношения. И Алла Кондратьевна не выдержала, сорвалась:
– Нет, не могу я с тобой работать! Где же председатель? Когда это все, наконец, решится?!
Сережа первый услышал далекий шум автомашины, двигатель которой переключили на передние ведущие колеса.
– Едет, – сказал он.– Председатель. Алла Кондратьевна прислушалась.
– Верно,– подтвердила она.– Это «уазик»... Посмотрим, Гриша, что ты теперь запоешь.
Переправа на остров через узкую и глубокую в этом месте реку была устроена, как уверял Сережа, по принципу «волк, коза и капуста». Имелись для этого три челна, и каждый, кто переправлялся, одновременно отгонял на противоположный берег свободный челн так, чтоб остров не остался отрезанным.
Сильными движениями короткого весла председатель подогнал челн к острову.
Павел Михайлович относился к людям, прошедшим суровую жизненную школу. Но о таких говорят, что шкура от этого у них не загрубела, а только стала мягче. Жизнь его научила, что поступок, который ты совершил, иногда приносит не меньшее огорчение, чем тот, которого ты не совершил. И поэтому он часто повторял лозунг древних латинян: «Торопись медленно».
Сегодня он был в лучшем своем костюме, темно-сером с синей искрой, в белой сорочке и темном галстуке, с тремя рядами орденских планок над кармашком пиджака. Высокий и грузный, двигался он легко и с той точностью в каждом движении, которая вырабатывается лишь многолетней и систематической утренней зарядкой. Сейчас он был чуть напряжен и озабочен, но привычно скрывал это за шутливым, несколько ворчливым тоном.
– Добрый день,– поздоровался Павел Михайлович.– Заждались?
Ну наконец! – Алла Кондратьевна не стеснялась своего нетерпения.– А то хоть навстречу посылай... Что там слышно?
Павел Михайлович пропустил ее вопрос мимо ушей, так, словно его вовсе и не было.
– Как охота, товарищ генерал? – дружелюбно обратился он к генералу Кузнецову.
– И не спрашивайте,– смущенно отозвался генерал И показал на чирка.
– М-да...– сочувственно хмыкнул председатель и сразу же повернулся к Анне Васильевне: – Анна Васильевна, мир?
– Разве мы ссорились?
В голосе Анны Васильевны прозвучал холодок.
– А кто меня с жильем для химика донимал? Для Николая Николаевича?
– Будет?
– Пускай мебель покупает.
– Спасибо, Павел Михайлович, – удивленно и обрадовано улыбнулась Анна Васильевна.
– Рад стараться, – Павел Михайлович улыбнулся в ответ обаятельно и дружелюбно и подмигнул Алле Кондратьевне: – Так чем ты нас сегодня удивишь?
– Фирменное блюдо, – горделиво, со значением ответила Алла Кондратьевна.
– Эге, товарищ генерал,– повернулся Павел Михаилович к генералу Кузнецову,– это вас на высшем уровне принимают. Шутка сказать – цесарка по-бульбански.– И без всякой паузы, тем же тоном он быстро спросил: – А что она у вас под нее просила?
Генерал Кузнецов улыбнулся, но промолчал.
– Я все боялся – не поспею,– продолжал Павел Михайлович.– Что председатель делает?.. Не знаете? А я вам скажу. Обедает. Должность такая. У всех председателей...
– Вам все шуточки,– неодобрительно перебила председателя Алла Кондратьевна.– А у меня...– И горячо продолжала: – Анатолий Яковлевич! А если я вам письмо официальное от «Сельхозтехники»...
– Письмо, наверное, не помешает,– не устоял перед ее напором генерал Кузнецов.– Но все-таки...
– Вот и договорились! – быстро, не дав досказать, что «все-таки», выпалила Алла Кондратьевна и поспешила перевести разговор на другое.– Наташа! Пора нам салатом заняться.
– Я не могу помочь? – вежливо осведомилась Анна Васильевна.
– Зачем? Мне – удовольствие, Наташе – практика. Может, посуду пока перетрете? Гриша вам поможет.
– Лучше я мужскую работу сделаю, – возразил Григорий Иванович.– Лук вам нарежу. Меня на погранзаставе научили – волосок к волоску. Ты так не умеешь. Где у тебя дощечка?
– Сейчас принесу.
Алла Кондратьевна ушла в дом и тотчас же возвратилась с дощечкой, с кухонным ножом, с полотенцем для посуды.
– Вот как это делается на погранзаставе, – громко сказал Григорий Иванович. – Смотрите. Нож только у тебя легковат...
Он очистил луковицу, положил ее на дощечку и часто-часто замахал ножом у самых пальцев левой руки, раз за разом отсекая тончайшие ломтики.
– Замечательно, – удивилась его искусству Анна Васильевна.
– Уж куда замечательней,– отозвалась Алла Кондратьевна.– Что ж ты, Гриша, луковицу не помыл? Так, немытую, в салат?
– А зачем ее мыть? Она под своей оболочкой стерильная, можно сказать.
Анна Васильевна взяла полотенце и принялась перетирать тарелки и бокалы. По-видимому, ей хотелось спросить, для чего это делать, когда посуда и без того чистая, прозрачная, сияющая, но она не решилась.
– Павел Михайлович! Откуда у вас цесарки? – спросил генерал Кузнецов.
– Это я опыт ставил,– посмеиваясь над самим собой, ответил председатель.– Цесарка – из фазаньих. А фазаны да и куропатки жука колорадского едят. Кура – дура, не ест, а они – жрут. Только капризная эта цесарка оказалась.
– В каком смысле?
– Брезгует жуком. Поэтому пришлось мне опыты с цесарками Алле передать. Теперь она над ними шефствует. И видите, сумела найти для них научное применение.
Матвей Петрович помялся, откашлялся и обратился к председателю:
– Михалыч... Я чего спросить хотел... Как там это... как там погода?.. В районе?..
– Снег выпал,– отрезал. Павел Михайлович.
– Господь с тобой, на воздвиженье?
– Погоди, Матвей,– нахмурился председатель.– Про погоду мы еще потолкуем.– И, сознательно переводя разговор на другую тему, он обратился к Сереже, который сидел, сгорбившись, на поленнице, в стороне от других, с безнадежным и отсутствующим видом: – Серега! "Ты чего нос повесил?
Анна Васильевна внимательно посмотрела на Сережу.
– В самом деле, – сказала она.– Сережа, что с тобой? Павел Михайлович приглушенно рассмеялся:
– Это вы у меня спросите. У него неприятности. В районе. Правда, Серега?
«Вот и все,– подумал Сережа.– Значит, председателю все известно. Только почему он так этому радуется? Если бы это не со мной, если бы с кем-нибудь другим случилось такое, я бы не радовался. Ни в коем случае не стал бы насмехаться».
– Правда,– сказал он не сразу, усталым, угасшим голосом.
– Обманула? – веселился Павел Михайлович.– Не пришла?
– Кто? – не понял председателя Сережа.
– Что значит – кто? – притворно возмутился председатель и пояснил, обращаясь к Наташе: – Девочку по району в кабине катал.
– Попался? – подхватила председательскую шутку Наташа.– Какую девочку?..
– Беленькую. В очках,– уличал Сережу председатель.
– Это не девочка,– ответил Сережа с внезапным облегчением.– Это тетя.
– Э, нет! – не согласился Павел Михайлович и подмигнул Наташе: – На тетю он бы так не смотрел.
– Да это учительница из Залесья,– стал оправдываться Сережа.– Она по дороге попросилась. На базар. Павел Михайлович, ну что вы в самом деле!
– А если в самом деле,– прищурился председатель,– так ты скажи, только по чести: тебя отец когда в последний раз порол?
– Никогда он меня не порол,– мрачно ответил Сережа.
– И даром,– решил председатель.– Гриша, ты ему запретил ездить?.. И я ему говорил. Что это за езда без прав? И ты, Матвей!.. Что старый, что малый!
– Это не Сережу, это Гришу нужно пороть, – не выдержала Алла Кондратьевна.– Если он сегодня не оплатит полиэтилен, завтра у меня производство остановится. Законник нашелся. Каждой дырке – гвоздь.
– Вот ведь люди,– досадливо сказал Павел Михайлович генералу Кузнецову.– Как соберутся хоть трое, тут же производственное совещание... Кстати, что там у тебя под цесарку? – с нарочито преувеличенным интересом спросил он у Аллы Кондратьевны.
– Все, что полагается. И красное, и белое. Только вы от меня не отмахнетесь... Я понимаю, вы уже одной ногой в институте. А может, двумя?..– спросила Алла Кондратьевна, но, не дождавшись ответа, продолжала с нажимом: – Только производство должно крутиться. И его не остановить, хоть некоторые и пытаются. Оно...– Алла Кондратьевна поискала сравнение и торжественно заключила,– оно, как колесо истории.
– Алла, у тебя цесарка не сгорит? – заботливо спросил Григорий Иванович.
– Ты мне зубы не заговаривай, – повернулась к нему Алла Кондратьевна.– Посмотрите на него. Плачет. (У Григория Ивановича в самом деле от лука текли слезы, и он вытирал их носовым платком.) Крокодиловы твои слезы.
Матвей Петрович подошел к костру, присел на корточки и принялся выгребать из золы печеную картошку.
– Пока там ваша цесарка,– проворчал он,– картошка поспела.
Генерал Кузнецов поднял с земли крупную горячую картофелину, перебрасывая с ладони на ладонь, дал ей чуть остыть и разломил.
– Наташа, дай соли.
Наташа принесла соль. Генерал Кузнецов посолил картофелину, чуть сдавил половинку в руке, так, что вылезла наружу белая, сахаристая мякоть, откусил и, прожевывая, выдохнул:
– Хороша!
Матвей Петрович выгреб из костра уголек и, перебрасывая его с ладони на ладонь, как генерал картофелину, прикурил от него измявшуюся в кармане сигарету.
– Эта картошка особая,– сказал он строго.– Партизанская.
– Сорт? – спросил генерал Кузнецов.
– Сортом она потом стала,– ответил генералу председатель.– В войну тут партизанские огороды были. Голод. Немцы кругом. Села пожгли. Скот угнали. А у нас – картошка. Немцам она поперек горла стояла.
– С Федоровым, с партизанским генералом, мы картошкой делились,– похвалился дед Матвей.
– Начали мы картошку копать,– вспоминал Павел Михайлович.– А у немцев в Залесье жандармский пост.
Полицаев нагнали со всей округи. Солдат вызвали. С минометами. Нам отходить нельзя – пропадет картошка. Вот и держались, пока не выкопали.– Павел Михайлович помолчал, нахмурился, повернулся к Сереже: – За нее, за картошку эту, Серега, дед твой голову сложил. Тут его и похоронили. В общей могиле.
– Что же вы памятник не поставили? – с упреком спросил генерал Кузнецов.
– Какой тогда памятник? – возразил дед Матвей.– Крест стоял. Потом останки выкопали и в село перенесли. Там у нас памятник.
– В приказах писали: погиб за Родину,– медленно и задумчиво произнес генерал Кузнецов.– За ее честь и независимость. А в стихах Родина – три березки, отчий дом.– Он помолчал, вздохнул.– Погиб за картошку...
Над поляной поверху пронесся порыв ветерка, и залопотали листья на осинах, правильное научное название у которых «тополь дрожащий».
– Вот интересно мне...– пожевал губами Матвей Петрович.– У японцев точно учет поставлен. В Хиросиме до сих пор от бомбы атомной мрут. И считается, что от войны погибли... А у нас как сосчитали в сорок пятом двадцать миллионов, так и числится. Неправильно это. Сколько с тех пор людей наших перемерло от ран, от горя военного. Дети голодными росли. Может, и Витя, когда б не война... Посмотреть хоть на нашем кладбище... Посчитать...
– «На деревенском кладбище кресты...» – негромко, словно про себя, сказала Наташа.
– Да, кресты,– вздохнул Павел Михайлович.– А дальше как?
На деревенском кладбище кресты,
Граненые дубовые поленья...—
все так же негромко, словно про себя, повторила Наташа и, глядя вниз, в землю, продолжала:
Глубокие, похожие на шрамы,
Кривые буквы скупо сообщают:
Иван, Петро, Христина, Евдокия.
Стоят две даты по краям креста.
И все кибернетические коды,
Громоздкие расчеты траектории
Для бомб и баллистических ракет
Поместятся в коротком промежутке
Меж этих двух четырехзначных чисел...
Она остановилась, повторив «четырехзначных чисел» так, что нельзя было понять: то ли эти слова повторяются в стихах, то ли она забыла, как дальше. Но она забыла и беспомощно посмотрела на Анну Васильевну.
– «Я пробую представить эту смерть»,– подсказала Анна Васильевна, и слова эти прозвучали так горько, что всем на мгновение показалось, что она говорит о покойном Викторе Матвеевиче.
Наташа повторила:
Я пробую представить эту смерть —
В углу, под образами, а сорочка
Бела, как сахар, и чиста, как смерть.
И все село приходит хоронить,
И все село приходит помянуть
Стаканом самогона. Я припомню
Особый терпкий привкус самогона,
И я пойму, что это – привкус горя,
Неповторимый аромат беды.
Все молчали. Сережа почувствовал, как этот «привкус горя» сдавливает горло. Он закусил губу и отвернулся в сторону.
– Когда он это написал? – негромко спросил генерал Кузнецов.
– Давно, – ответила Анна Васильевна.– Ему еще и двадцати не было.
– Да, девочка, – взволнованно обратился генерал Кузнецов к Наташе, – в жизни иной раз трудно понять, где настоящее, а где только подделка. И когда ты столкнешься с этим, а ты обязательно с этим столкнешься, вспомни партизанскую картошку. И людей, что погибли за нее, до конца выполняя свой долг. У тебя есть фотография деда? – строго спросил он у Сережи.
– Нет,– ответил Сережа.– Не знаю даже, какой он был.
Он посмотрел на отца.
– И я почти не помню,– виновато улыбнулся Григорий Иванович.– Железом всегда от него пахло.
– Железом,– подтвердил дед Матвей.– Чем же еще? Кузнецом он был.
Павел Михайлович посмотрел на Сережу, на Григория Ивановича, как бы сравнивая их и восстанавливая в памяти образ Сережиного деда.
– А на Гришу он был совсем не похожий, – сказал он. – Веселый был человек. И все вокруг него смеялись. Теперь бы такому цены не было. Я б его в штате только за характер держал.– Он улыбнулся.– Ты думаешь, я почему такой старый, Серега? Все из-за них, из-за серьезных этих людей. Из-за бати твоего да Аллы... Ну, чего ты, Гриша, дуешься, как мышь на крупу?
– Павел Михайлович! – не выдержал Григорий Иванович.– Больше я так не могу! Скажите, наконец, прямо: вы уходите или остаетесь?
– Прямо только Китоврас (Китоврас – сказочное существо из русской былины, которое могло двигаться только по прямой линии, никуда не сворачивая) ходит, – посмеиваясь, ответил председатель.
– Я с ней работать не буду,– не принял шутки Григорий Иванович.– Если уходите, ищите и мне место.
– За что люблю Гришу,– ласково отозвалась Алла Кондратьевна,– так это за откровенность.– И сразу же, без всякого перехода, громко и зло продолжила: – Только и я откровенно скажу. Если приму колхоз, приказом уволю! Анатолий Яковлевич! – горячо обратилась она к генералу Кузнецову.– Вы не помните, где это было?.. За границей где-то. Железнодорожники забастовку устроили. Полностью выполняли все, что записано в их правилах да инструкциях. Знаешь, Гриша, что из этого получилось? Все поезда стали! Так ведь ты у пас в колхозе постоянно такую забастовку устраиваешь...
– Ладно,– оборвал ее Павел Михайлович.– Если тебе и Грише так не терпится,– он хитро прищурился,– привез я один документик... Серега, не в службу, а в дружбу. Там у меня в машине в папке конверт красивый...– И лишь после того, как Сережа ушел, он добавил: – Только в нем, в конверте этом, совсем не то, чего ты ждешь, Алла. Получил я письмо из Ирландии. От Джерарда Макхью.
– От какого Макхью? – удивился генерал Кузнецов.
– Ну, Анатолий Яковлевич, – укоризненно ответил председатель, – Макхью в нашем картофельном деле, как Эйнштейн для физиков. И в письме этом листок дли Сереги. Нащупал наш школяр идею одну любопытную. Как бы это вам объяснить?.. Гуминовую кислоту, она в торфе содержится, он использовал для внекорневой подкормки. Наши картофелеводы об этом знают. Было сообщение в «Вестнике». А я послал вырезку Макхью.
Сережа отправился к реке.