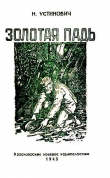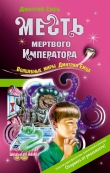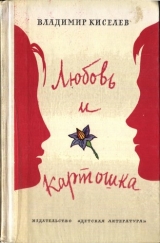
Текст книги "Любовь и картошка"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Как только приехали в Киев, сразу же отправились на кладбище. Здесь люди прогуливались по дорожкам между могилами, разговаривали, улыбались.
– К Марии Заньковецкой? – переспросила их первая же встреченная ими старушка, доброжелательная и важная.– Родственники? Земляки? Прямо пойдете и по правую руку. Возле композиторов Лысенко и Ревуцкого.
Она здесь все знала.
Сережина бабушка поклонилась могиле не в переносном смысле, а действительно поклонилась до земли, положила цветы.
Сережа с бабушкой ушли с кладбища, и сразу же отпраг вились в музеи. Украинского изобразительного искусства. Русского изобразительного искусства. Западного изобразительного искусства. И сам Киев показался Сереже похожим на музей.
Сереже случалось целый день ходить по лесу, по болотам. И он не уставал от этого. Не уставал он и от работы на огороде. Но вот при посещении музеев уже через час у него заболели ноги так, словно он отшагал пешком от села Бульбы до Киева. И ломило в висках.
В музеях на стенах висели картины, и каждая из этих картин не терпела соседства всех остальных. Она как бы призывала: остановись передо мной, смотри только на меня. Для этого она резала глаза красками более яркими, чем у своих соседок, старалась привлечь внимание загадочным содержанием, броской физиономией, размером, а если и это не помогало, то хотя бы рамой. Этот спор за внимание посетителя, очевидно, и вызывал такое чувство усталости.
В городе же, так же, как картины на стенах музеев, соревновались между собой запахи. На черно-серой асфальтовой стене с проемами-окнами садов, с широкой дверью на Днепр были развешаны запахи бензина легковых автомашин, дизельного топлива автобусов и смешанного с бензином машинного масла мотоциклов, мяса и колбасы гастрономов, лаврового листа и кофе бакалейных отделов, копченой рыбы и яблок, которые почему-то продавали на улице, и духов, которыми зачем-то щедро поливали себя все городские женщины и некоторые мужчины.
Зелени в городе было много – цветов и деревьев, однако к запаху цветов примешивался запах излишка азотных удобрений, которыми их перекармливали, а деревья обрызгивали от насекомых раствором хлорофоса.
Но под толстым, местами в полметра, слоем асфальта скрывалась замечательная земля, душистая и рассыпчатая, земля, в которую воткни палку – вырастет дерево. Сережа видел, как в парке подсаживали кусты. Лопаты выворачивали грунт, которому и цены не было.
Слово «земля» иногда пишут с большой буквы. И тогда всем понятно, что речь идет о Земле – планете. А иногда с маленькой. И тогда все понимают, что это о земле – почве. Но Сережа, как и многие другие сельские жители, когда думал о земле, всегда представлял себе еще третье ее название: Земля – кормилица.
За триста лет природа способна накопить слой гумуса толщиной всего в один сантиметр. А в Киеве пласт плодороднейшего гумуса достигал метра. Сереже были хорошо известны слова Докучаева о том, что наш чернозем дороже каменного угля, дороже нефти, дороже золота. Чернозем «дороже золота» лежал под асфальтом. И Сережа думал о том, что в будущем, когда исчезнут эти колесные автомашины, когда весь транспорт будет на воздушных подушках, а может быть, даже с антигравитационным устройством, асфальт в городах снимут, и тротуары и проезжая часть станут сплошным зеленым ковром-газоном, с переходами через улицу, обсаженными цветами. И ходить прохожие будут по газонам и цветам.
В Киеве они с бабушкой остановились у друга Сережиного отца. Григорий Иванович вместе с ним учился в институте. «Гений»,– говорил о нем Сережин отец.
Очевидно, так считал не только он, потому что этот соученик отца уже стал заместителем министра финансов Украины, а значит, как думал Сережа, когда министр был болен или уезжал в отпуск, подписывал за него все бумаги.
Звали его Степан Петрович. Сережину бабушку иСережу он принял, как родных, а его жена Лидия Пантелеевна закормила их тортами.
В доме Степана Петровича все, наполняя ванну водой, добавляли хвойный эликсир. Сережа считал, что это делают специально для того, чтобы отбить запах хлора. Этот запах хлора ощущался даже в чае. Водопровод, как известно, не был новым изобретением. Учительница истории Римма Филипповна как-то рассказывала на уроке, что древние римляне подавали воду по свинцовым трубам, и это было одной изпричин массовых заболеваний людей в то время. Свинец – вреден для здоровья. Есть теория, что продолжительность жизни у римлян была небольшой именно поэтому.
– И может быть, – говорил Сережа Степану Петровичу иего дочке, студентке-второкурснице пединститута Кате,– когда-нибудь, со временем, установят, что хлор также вреден для организма.
– А в вашем селе не собираются строить водопровод? – спросила Катя.
– Пока нет. У нас колодцы. Пока у нас водопровод только на ферме. Но и там вода совсем другая. С другим вкусом изапахом. Она водой пахнет, а не дезинфекцией.
– «Как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима»,– продекламировала Катя.– Сначала постройте водопровод, а потом будете критиковать.
– А ты не задумывалась над тем, почему так много горожан каждый свободный день стараются провести за городом? Почему они строят дачи? Садят коллективные сады? Покупают моторные лодки? – ворчливо спросил Степан Петрович у Кати.– Не потому ли, что мечтают о деревне?
– Сережа на тебя плохо влияет, – ответила Катя – будущий педагог. Она со всеми разговаривала так, словно была намного старше собеседника. – Современным людям необходимы автомашины с их вкусным бензиновым запахом, и троллейбусы, и асфальт, который так не нравится Сереже, и городской шум. И когда окончательно сотрется грань между городом и деревней – и в деревню все это придет.
– Грань не должна стираться с одной стороны,– вспыхнул Сережа.– Грань должна стираться с обеих сторон. И в будущем не только город придет в село. В будущем и село придет в город. С тишиной и с запахом чистой воды и молодой травы. И даже с петухами.
– Оно и сейчас приходит, – пренебрежительно отмахнулась Катя.– Вместе со строительством новых районов. Недаром столько людей переезжают из сел в города. Они хотят получить все преимущества, которые имеет город.
– А какие это преимущества? – спросил Степан Петрович.– Театры? Но ответь нам, городская Катя, когда ты последний раз была в театре? В театрах приезжих бывает больше, чем местных жителей. Музеи? Так же, как любой приезжий, ты раз, ну два посетишь музеи, а больше не пойдешь. По телевизору в селе смотрят те же самые передачи, что и в городе. Кинокартины те же самые. Теплый клозет? Да, в большинстве сельских домов еще нет теплых клозетов. Но стоит ли из-за этого менять лес, реку, поле на городские улицы?
– А работа? – спросила Катя.
– По-твоему, в селе не работают? – удивился Степан Петрович.
– ...Бывал,– повторил Сережа.– И скажу тебе прямо: Анна Васильевна переехала к нам в село. Из Москвы. Из-за Виктора Матвеевича. Из-за любви. И не собиралась уезжать отсюда. Пока всего этого не случилось.
– Не знаю, Сережа,– нерешительно покачала головой Наташа.– Мама думает... Я не хотела тебе говорить. У Виктора Матвеевича приступ тогда начался из-за меня. Сама не знаю, что со мной тогда было. У меня зуб разболелся, и вообще... А мама сказала, чтоб я села за уроки, что ей, как директору школы, неудобно, что дочка еле на тройки тянет... Я ей резко ответила, вмешался Виктор Матвеевич. А потом вечером у него все это началось. Не могу себе простить. И мне кажется, что мама все время думает об этом.
Сережа мог представить себе, что можно резко ответить Анне Васильевне. Но что можно резко ответить Виктору Матвеевичу, он представить себе не мог. Он осторожно привлек Наташу к себе и провел ладонью по голове. Темные ее волосы оказались неожиданно мягкими, нежными. Он впервые прикоснулся рукой к ее волосам.
– Не надо, Наташа,– сказал он тихо. И вдруг вспыхнул: – Нет! Это неправильно, что вы уезжаете. Я не согласен!
Они стояли у поленницы, и, когда за поленницей послышались шаги, они мгновенно оказались далеко друг от друга. Это получилось независимо от них, само собой. И тоже независимо от них, тоже само собой как бы сделало их еще ближе друг другу.
Отец Наташи, генерал Кузнецов, сделал вид, что ничего не заметил.
«А может, он и в самом деле не заметил нас из-за поленницы?» – подумал Сережа и искоса быстро взглянул на генерала.
– Здравствуй, Сережа! – сказал генерал.– Ты где был?
– Здравствуйте! – ответил Сережа.– В район ездил.
Генерал Кузнецов был одет в куртку из мягкой черной кожи со множеством застежек-«молний» на карманах и высокие болотные сапоги, в которые он заправил генеральские бриджи с широкими красными лампасами. Голову его укрывала зеленая шляпа с кисточкой из кабаньей щетины. За плечом ружье и ягдташ с маленьким чирком. Он снял ружье и ягдташ, положил ягдташ на землю рядом с поленницей, разломил ружье и стал прочищать шомполом стволы.
– Двенадцатый? – спросил Сережа.
– Нет, шестнадцатый. Эге...– отметил генерал, взглянув на стол.– Вижу я, Алла Кондратьевна уже священнодействует. А где она?
– Начинку готовит, – кивнула Наташа головой на охотничий домик.
– Для цесарки? – хитро улыбнулся генерал.
– Для цесарки,– подтвердила Наташа.
– Ох, Наташа, неспроста эта цесарка, – вздохнул генерал и мягко, как бы между прочим, спросил у Сережи: – Так с чем ты не согласен?
«Видел»,– решил Сережа и мрачно ответил:
– Со всем!
Генерал Кузнецов вынул из кармана куртки масленку с двумя горлышками, отвинтил крышечку на одном из горлышек, понюхал, снова завинтил и отвинтил другую крышечку.
– Иными словами, ты не хочешь, чтобы Наташа уезжала?
– Не хочу!
В голосе Сережи чувствовался вызов.
– А Наташа?
– И я не хочу,– помедлив, ответила Наташа. Генерал налил из масленки немного щелочи на белую полотняную тряпочку и обмотал ею конец шомпола.
– Знаете, ребята,– сказал он мягко и негромко,– людей делят по-разному. На умных и глупых. На добрых и злых. Армия меня научила делить людей на другие категории: тех, кто выполняет свой долг, и тех, кто этого не делает.
«К чему это он?» – подумал Сережа.
В первый раз он посмотрел прямо в лицо генералу и увидел, как странно окаменело это лицо и как не соответствует этому окаменевшему лицу мягкий голос.
Когда Сережа впервые увидел генерала Кузнецова, он невольно стал присматриваться к его ушам. У генерала были обыкновенные уши – ровные, небольшие. И все равно Сереже показалось, что они оттопыренные. Как у Каренина в книге Толстого. Сейчас он снова посмотрел на уши генерала и сразу же отвел взгляд.
– Ты была совсем маленькой, Наташа, когда твоя мама оставила меня,– продолжал генерал так же мягко.– Ушла к другому. Теперь случилось несчастье. Мне нелегко было приехать сюда. Но я счел это своим долгом.
Он помолчал, ожидая ответа Наташи, однако Наташа не отвечала, и он снова обратился к ней:
– Маме трудно, Наташа. Она придавлена горем. Чтобы распрямиться, ей нужно уехать отсюда.
– Маме всюду будет трудно, – возразила Наташа, сразу, одним махом отметая все, что казалось таким важным и убедительным ее отцу.– И неужели для тебя в самом деле не имеет значения: добрый человек или злой, умный он или глупый?
– Нет, – неожиданно жестко ответил генерал.– Не имеет. Добрыми люди чаще всего бывают за счет других. А умными обычно называют тех, чьи взгляды не расходятся с нашими. В человеке важно другое...
«Что – другое? – подумал Сережа.– Долг? Но как знать, что в самом деле я должен сейчас делать?.. Подожди, подожди... А может быть, я всегда это знал? И все люди всегда это знают? Только почему-то не все делают?..»
В вестибюле их школы, прямо против входа, висел портрет Гены Воронова. Рядом подставка. На ней ваза. А в вазе всегда свежие цветы. Школа носила имя Гены Воронова, семиклассника из деревни Москвитино Калининской области. О нем школьники писали классные сочинения. О нем сочиняли стихи. Гена Воронов погиб, когда сражался с огнем. Горело хлебное поле. Он был один. Он сбивал огонь рубашкой. Он засыпал его землей. Он погасил огонь, но погиб.
Школьники переписывались с родителями Гены Воронова. Они узнали о Гене очень много. И о том, что семиклассник Геннадий Воронов хорошо умел водить гусеничный трактор. И о том, что он любил рисовать. Что пел на вечерах самодеятельности, занимался боксом и ремонтировал технику. Он был из тех, на кого можно во всем положиться, семиклассник Гена Воронов из калининского села.
А дальше на стене вестибюля, справа, висел лист ватмана с такими словами:
Друг! Если жизнь потребует от тебя трудного решения – подумай о том, что бы сделал в этом случае Гена Воронов. И поступи так же, как поступил бы он.
Этот плакат повесил Виктор Матвеевич. «А как бы поступил Гена Воронов?» – подумал Сережа.
Словно догадавшись о его мыслях, генерал Кузнецов обратился к Сереже:
– Теперь от Наташи во многом зависит, какое решение примет Анна Васильевна.
Сережа снова отвел взгляд от лица Генерала, уставился в землю.
– Перед вами – вся жизнь. Куда вам торопиться?
– У Виктора Матвеевича,– с вызовом сказала Наташа,– были такие стихи...
Раздумчиво и негромко, глядя перед собой, но словно заглядывая внутрь, в себя, Наташа прочла эти стихи:
Торопятся поэты и цари,
Для них малы отпущенные годы.
К поэтам ясность строчки и свобода
Приходят поздно, что ни говори.
И у царей достаточно забот —
Держава не прочней, чем столбик ртутный.
Повесить всех врагов ужасно трудно,
Вдруг кто-нибудь остался, вдруг живет!
Но умирают в юности поэты
И в очень древнем возрасте цари.
И остается песня недопетой...
В этой книге все стихи, за исключением тех, к которым сделаны специальные примечания, принадлежат перу поэта Л. В. Киселева (1946—1968). Леонид Киселев. Стихи. Bipшi. Издательство «Молодь». Киев, 1970.
– «И остается песня недопетой...» – повторил генерал Кузнецов. Он горько покивал головой и продолжал твердо, решительно: – Взрослая ты уже, Наташа. И говорить с тобой следует, как со взрослой. Прошло девять лет. Я не женился. И не женюсь. И у меня нет никого, кроме тебя, Наташа. Тебя и твоей мамы.
«Вот и все,– подумал Сережа.– Против этого не возразишь. Не скажешь, что и у меня нет никого, кроме Наташи. И не будет».
Генерал посмотрел сквозь стволы на небо, проверяя их чистоту. Складывая ружье, он улыбнулся, как улыбаются люди в минуты, когда недовольны собой, и добавил:
– Что же касается царей, то не все они доживали до старости. И по самым разным причинам.
Он помолчал и решительно перевел разговор на другую тему:
– Что за непонятный значок у тебя, Сережа?..
Глава четвертая
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
Мы не знаем имен людей, совершивших многие важные открытия. Нам неизвестно, кто первым сделал топор. Кто изобрел колесо. Кто придумал бутерброд, который вот уже на протяжении сотен лет заменяет многим школьникам завтраки и обеды.
Но вот кто первым создал переменку между уроками, нам известно совершенно точно. Это был выдающийся чешский ученый-педагог Ян Амос Коменский. Еще в 1631 году в своем прославленном сочинении «Великая дидактика» он раз и навсегда установил «классно-урочную систему», по которой в старших классах следует проводить по шесть уроков в день, в младших – по четыре, и между уроками должны быть переменки.
Переменка в ходе школьного обучения занимает очень немного времени. Но значение ее в педагогическом процессе ничуть не меньшее, чем значение уроков. И очень часто ученики именно на переменках получают те знания, навыки, взгляды, которые потом сказываются на их будущем не меньше, чем уроки самых лучших учителей. Попробуйте припомнить свою школьную жизнь, и вы убедитесь, что наиболее значительные события происходили не на уроках, не на экзаменах, а на переменках.
На большой перемене Сережа вышел в школьный двор. Шестиклассники толпились вокруг его мопеда «Верховина», примкнутого рядом с другими велосипедами и мопедами к металлическим прутьям школьной ограды. У Сережиной «Верховины» щитки колес и багажник были хромированы, удлиненное седло позволяло посадить сзади еще одного человека, руль поднят выше, чем на старых мопедах, рычаги с мягкими рукоятками и, главное, имелась вторая – желтая «противотуманная» – фара, еще недавно предмет самой большой Сережиной гордости.
Нужно было поговорить с Наташей. Нужно было ей все сказать. Но какой в этом смысл, если она все равно уедет. И мысли с горьким привкусом и грустным запахом ивовой коры медленно и беспорядочно проплывали в Сережином сознании.
Вот он, Сережа, космонавт, идет от трапа самолета к трибуне. Вокруг все аплодируют. Ну и что?.. А Наташи с ним все равно не будет. Или вот он, Сережа, знаменитый на весь мир селекционер. Выращенный им новый сорт картофеля дает на круг по тысяче центнеров с гектара... «Ну, по тысяче,– подумал Сережа,– это уж слишком, но шестьсот центнеров – вполне возможно». Ему присваивают звание Героя. Его фотографию помещают в «Правде». А Наташа в это время будет далеко, в Москве, и пойдет в кино с каким-то другим парнем, с красивым парнем, у которого нос тоненький, а не картофелиной, как у Сережи. И взрослый галстук он носит каждый день, а не четыре раза в году, как Сережа, – на Октябрьские, на Новый год, на Первое мая и на день рождения.
Есть старая шуточная песенка:
Або в воді утоплюся,
Або в камінь розіб'юся,
Нехай про те люди знають,
Що з любові умирають.
Или в воде утоплюсь, или об камень разобьюсь, пусть о том люди узнают, что от любви умирают. Но сейчас Сережа думал, что, может быть, песенка эта не такая уж шуточная, как ему всегда казалось.
Сережа пошел за школу, где стоял деревянный сарай, а между сараем и забором образовался как бы маленький внутренний дворик. Школьники называли его «площадкой молодняка». Была книжка под таким названием. В ней рассказывалось, что в зоологическом саду молодых зверят держат вместе. Сюда, за сарай, обыкновенно собирались самые младшие – первоклассники, второклассники. Тут они на свободе, подальше от учительских глаз, согласовывали свои расхождения во взглядах на жизнь и науку, прыгали через скакалочки, производили меновую торговлю. Впрочем, следует заметить, что сюда наведывались и ребята постарше – выкурить наспех в рукав сигаретку.
Сережа остановился под старой узловатой акацией. Огромные шипы росли у нее не только на ветках, но и на стволе. По-видимому, у дерева не было другого способа защититься от ребят. Иначе они бы с него не слезали.
На площадке не было обычного шума. Первоклассники сгрудились в круг. А в центре этого круга, подбоченясь, стояла рослая девочка в ярко-красных колготках, торчащих из-под коротенького школьного платья. Имени Сережа ее не помнил. Но он знал ее. Это была дочка зоотехника. Ее отца все звали не по фамилии Стоколос, а прозвищем Реаниматор. Когда заболевал у кого-нибудь поросенок и лежал на боку, вытянув задние ноги, или задыхалась и умирала корова, сразу же вызывали зоотехника Стоколоса – Реаниматора, и он возвращал их к жизни. У него животные не умирали. Потому и прозвали его Реаниматором, что он хорошо разбирался в ветеринарном деле
– Я – девочка! – кричала дочка зоотехника.– Я – девочка! Я – девочка!
Сережа сначала не понял, к чему это она. Но когда в круг вытолкнули крошечного веснушчатого заморыша, злого и испуганного, – Сережа как-то до сих пор, кажется, и не замечал, что такой есть в школе, – ему стало все понятно: эта девочка собиралась драться с мальчишкой, хотя по негласным, неизвестно кем и когда установленным правилам, может быть, еще Яном Амосом Коменским, девочки и мальчики, как только поступали в школу, строю соблюдали принцип – мальчики дерутся с мальчиками, а девочки с девочками.
Веснушчатый первоклассник зажмурил глаза и замахал руками, как ветряная мельница. Сережа и прежде замечал, что люди, которые не умеют драться, даже ребята постарше этого худосочного малыша, почему-то больше всего боятся, что им повредят глаза. И поэтому, вместо того чтобы открыть глаза пошире и следить за тем, куда тебя бьют и куда ты сам бьешь, они сами себя погружают в полную темноту. Девочка же эта, Стоколос – Реаниматор, она была чуть не на голову выше мальчишки, обхватила его руками, повалила на землю и вцепилась ему в короткие волосы.
Сережа подумал, что следовало бы вмешаться, хоть ему не очень хотелось возиться с малышами. И тут внезапно, неизвестно откуда, так, словно он возник из воздуха, появился младший брат лучшего Сережиного друга Олега четвероклассник Ромась – один из самых знаменитых людей в селе Бульбы.
В одно мгновение Ромась отодрал девчонку от поверженного малыша, поднял ее, дал ей порядочную затрещину, затем поднял и мальчика и, застегивая ему ворот рубашки, деловито сказал:
– Подойдешь ко мне после школы. Я тебе прием покажу. Как драться.
Эта девочка, эта Стоколос, как показалось Сереже, не обратила никакого внимания на затрещину, которую получила от Ромася. Больше того, Сережа увидел, что она смотрит на Ромася с совершенным обожанием, что она смотрит на него влюбленными глазами. Очевидно, даже затрещина от Ромася и то уже была честь.
– Слушай, Ромась,– позвал Сережа,– ты летучую мышь в класс принес?
Это событие наделало в школе такого шума, словно в классе у Ромася появилась не летучая мышь, а летучий верблюд.
– При чем здесь я? – посмотрел Ромась на Сережу невиннейшими, бесхитростными голубыми глазами. Он всегда так смотрел, когда говорил неправду.– Она сама залетела.
К Сереже подошел Олег, высокий худощавый парень с большими руками, далеко выглядывавшими из рукавов старенького пиджака, с выражением постоянной озабоченности на детском лице. Он уже брился, но лицо у него было совершенно такое же, как у его младшего брата Ромася.
– Пошли,– предложил он Сереже.– Дело есть...
– Олег, мама сказала, чтоб ты дал мне на тетрадки,– потребовал Ромась.
– Я ведь тебе вчера дал двадцать копеек,– подозрительно посмотрел на него Олег.
– Я их проиграл.
– Во что?
– В орлянку.
– Кому?
– Кольке. Из шестого «Б».
– А ну, идем к Кольке. – Олег крепко взял Ромася за руку.– Пошли с нами, Серега.
Они обогнули школу и сразу же оказались в самом центре «большой перемены». Если бы на школьников надеть отвечающие эпохе костюмы и снять все это на пленку, то мог бы получиться убедительный эпизод из фильма, рассказывающего о нападении пиратов на мирный средневековый город.
– Иди сюда,– с угрозой в голосе позвал Олег костистого паренька в круглых очках от косоглазия на загоревшем до фиолетового оттенка лице.– Ты зачем на деньги в школе играешь? Да еще с меньшими. Ты у него двадцать копеек выиграл?..
– Я? У него? – искренне удивился паренек.– Это он всегда пристает: «Давай стукнемся!» Ты у меня сорок пять копеек выиграл? – дернул он за руку глядевшего в сторону Ромася. – Я только двадцать пять отыграл! Зачем же ты их привел? И эти двадцать забрать? Видали такого,– обратился он за сочувствием к окружающим.
– А ну, отдавай деньги,– потребовал у Ромася обозлившийся Олег.
– У меня их нет!
– Куда ты их девал?
– Купил шариковую ручку.
– Где она?
– Димке дал.
Ромась показал на оказавшегося рядом с ними упитанного мальчишку.
– Так я тебе за нее пистолет отдал! – возмутился Димка.
– Где пистолет? – спросил Олег.
– Он не стрелял. Я его на рогатку обменял. Вот.– Ромась вынул из кармана рогатку.– Точная. Хочешь попробовать? – предложил он Сереже, как человек, который ничего не пожалеет для друга.
– Я тебе покажу «попробовать»! – пригрозил Олег.
Но Ромась с непостижимой быстротой сам выстрелил из рогатки камешком. Раздался звон. Камешек попал в отрезок железного рельса, с незапамятных времен висевшего на врытом в землю столбе. Его повесили тут когда-то, чтобы подать сигнал, если случится пожар. Но служил он уже нескольким поколениям школьников верной мишенью – рельс отзывался звоном на всякое попадание.
– Химик! – вдруг зашипел Ромась и словно растворился.
К Олегу подошел учитель химии Николай Николаевич Рыбченко, еще совсем молодой человек. Он работал в школе лишь второй год и попал сюда прямо после института.
– Я у него отберу, Николай Николаевич,– пообещал Олег.
– Что отберешь? – не понял его учитель.
– Рогатку.
– А, рогатку... Что ж, ты меня этим очень обяжешь.
Николай Николаевич всегда разговаривал со школьниками в той же преувеличенно любезной манере, в какой разговаривал со студентами один из его любимых профессоров.
– Николай Николаевич,– нерешительно обратился Сережа к учителю.– Я хотел спросить у вас...
– Я весь внимание.
– Вы не знаете, как делали пергамент?
– Смотря какой,– ничуть не удивился вопросу Николай Николаевич.– Чтоб масло заворачивать – плотную бумагу обрабатывали концентрированной серной кислотой. Древний, на котором летописи писали, делали из кожи. Телячьей, козьей, бараньей, даже из ослиной. На одну книгу расходовали целое стадо коз.
– А чернила какие у них были?
– Из чернильных орешков. Знаешь, на листьях дуба с внутренней стороны иногда появляются такие зеленые, подрумяненные яблочки. Они называются галлы. Получаются они оттого, что крошечные насекомые, орехотворки, откладывают в листья яички. Если разломить чернильный орешек, иногда можно найти уже готовую к вылету маленькую красивую мушку. Так вот из этих орешков получали отвар. Он содержит дубильное вещество – танин. В отвар добавляли железного купороса, а для клейкости – немного камеди, вишневого клея. Или меда. Писали гусиными перьями...
– Это я знаю. Про перья... А где взять купорос?
– Он есть у нас в химическом кабинете. И я тебе его охотно предоставлю. Естественно, в разумных количествах.
Сережа церемонно поблагодарил учителя – с ним все школьники разговаривали церемонно. Когда Николай Николаевич ушел, доброжелательно и несколько отчужденно поглядывая на сумятицу перед школой, Олег спросил:
– Для чего тебе древние чернила?
– Придумал я одну штуку,– ответил Сережа.– Против Васьки. Я тебе потом расскажу... А ты чего хотел? Ну когда Ромась тебя перебил?
– Да я...– нерешительно сказал Олег, и лицо его стало еще озабоченней,– сказать тебе хотел... С Варькой у нас все кончено. Точка.
– Да...– неопределенно заметил Сережа и отвел Олега в сторону к школьной ограде.– Скажи,– спросил он требовательно, – ты знаешь, зачем люди живут?
Олег задумался.
– Нет,– ответил он честно.– Не знаю. Сережа подтверждающе кивнул головой.
– Всему нас в школе учат,– негромко и горячо сказал он Олегу.– Про математическую комбинаторику – знаем. И про то, где Замбия, – знаем. И какое стихотворение написал Пушкин в 1829 году, когда он был на Кавказе, тоже знаем. Но про самое главное нам ничего не говорят. Должен же человек знать, для чего он живет?..
Олег снова задумался, поискал в памяти.
– Нет,– возразил он.– Ты забыл. Нам говорили. На литературе.
– Что нам говорили?
– Я забыл, как там точно... Ну, что человек живет для счастья.
– А что такое счастье?
– Ну, это всякому дураку понятно. Если у тебя все хорошо – значит, счастье.
– У тебя лично?
– Ну, не только лично. И дома,– стал перечислять Олег,– и в селе, и в Советском Союзе.
– А если в Польше, это тебя уже не касается?
– В Польше? – прикинул про себя Олег.– В Польше тоже касается.
– А в Африке? Или в этом в Сенегале, или в Нигере кто-то, скажем, умер от голода. Или в Японии кто-то заболел от загрязнения окружающей среды. Тогда как?
– Да что ты привязался? – вдруг рассердился Олег.– Не могу же я обо всех плакать.
– И второе,– сказал Сережа.– Ты говоришь: счастье, когда у тебя все хорошо. Но ведь человеку может быть хорошо от разного. Какому-нибудь Гитлеру, когда он захватил пол-Европы или больше, пока его наши не отогнали назад, тоже, наверное, было хорошо. Так что же, по-твоему, это и есть счастье?
– Ты меня не путай,– озабоченно посмотрел Олег на Сережу.– Ты мне лучше скажи: что с тобой делается? Почему ты сам не свой? Может, скажешь, из-за того, что в Японии кто-то заболел? От загрязнения?
– Нет. Не из-за этого.– Сережа помолчал.– Наташа уезжает.
– Слушай, Серега... – Олег смотрел в землю. – Только ты обижаться не будешь?..
– За что?
– Дай честное слово, что не обидишься.
– Ну, честное слово.
– Так я скажу... Может, и лучше, что Наташа уедет.
– Для кого лучше? – зло спросил Сережа.
– Ты же слово дал... Для тебя лучше. Вся школа смеется. Васька тебя уже женихом прозвал...
– Ваське я еще устрою... А ты... друг называется.– Он обиженно отвернулся от Олега.– А над тобой с Варькой вся школа не смеется?
– Нет. Никто не знает.
– Это тебе только кажется.
– Я же тебе сказал... У нас все кончено. Точка. А у вас и не начиналось.
– У нас это будет совсем иначе,– обиделся Сережа за сравнение Вари Щербатюк с Наташей. Оно показалось ему совсем не подходящим.
– Варька говорит, что иначе не бывает. А она знает.
– Что у вас случилось? – неохотно спросил Сережа.
Ему Варя Щербатюк не нравилась. Прежде всего потому, что, с его точки зрения, она была ужо совсем старухой. На четыре года старше Олега. Закончила школу и уже два года работала на ферме. А главное, она была некрасивой, очень некрасивой – худой, желтолицей, с сиплым голосом. И губы у нее были выпячены вперед.
– Сказала – хватит. Что я еще... ну, это... что еще маленький. Что думает замуж выходить.
– А раньше ты ей не был маленьким?
– Я ее это же самое спросил.
– А она?
– Только смеется. Говорит: «Так ведь это очень просто!»
В школе имени Гены Воронова была своя поговорка. О чем бы ни шла речь, ученики, а за ними и учителя стали прибавлять: «Так ведь это очень просто!» Причем всегда в словах этих сохранялся несколько иронический оттенок. Дело в том, что в школе получила большое распространение книжка под названием «Телевидение? Так ведь это очень просто!», перевод с французского, автор Е. Айсберг. Это была хорошая книжка. Ив библиотеку она почти никогда не возвращалась. Передавали из рук в руки. В ней беседовали и спорили между собой два паренька – Знайка и Незнайка. И в конце концов оказывалось, что в телевидении действительно все можно понять. А раз можно понять, значит, это в самом деле «очень просто».
Но теперь Сережа подумал о том, что поступки людей понять значительно труднее, чем поступки телевизора. Ну, там все эти искажения или пропавший звук... Взять хоть Олега и Варьку Щербатюк.
Олег и Сережа друг от друга ничего не скрывали. Вот почему Сережа знал эту историю во всех подробностях. Весной Варя Щербатюк позвала Олега на ферму. Починить водопроводный кран. Хоть каждому в колхозе было хорошо известно, что Варя, дочь Щербатихи, сама что угодно может починить.
На ферме, в подсобке, она обняла Олега сзади, прижала к себе, потом обернула его лицом, поцеловала в губы и сказала:
– Будешь теперь ко мне ходить. Будешь моим парнем.
Положила его руку себе на грудь и снова поцеловала в губы.