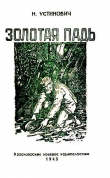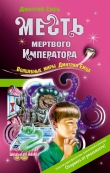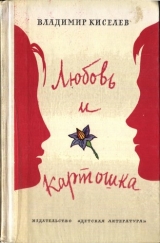
Текст книги "Любовь и картошка"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
– Ничего, ничего, покажите,– предложила Алла Кондратьевна.
– Ну уж ладно,– согласился Матвей Петрович. – Карандаш есть у кого?
Генерал достал из кармана своей кожаной куртки металлическую золоченую ручку с держателем в виде оперенной стрелы.
– Да нет, такой жалко,– решил Матвей Петрович.
Он порылся в карманах своего пиджака, нашел карандаш, затем подобрал у поленницы небольшой топорик и подошел к березке. Это был, как отметил про себя Сережа, берез. На Полесье березой называют дерево, у которого ветви растут вниз, а если они растут вверх, говорят берез. Матвей Петрович сделал топориком насечку на коре, вставил в нее карандаш, пятясь, отошел назад шагов на двенадцать, с кряхтением присел, выпрямился, снова присел и, выпрямляясь, бросил топорик. Карандаш раскололся на половинки, а топорик вонзился в дерево. Все подошли к березу. Сережа поднял половинки карандаша, сложил их и дал генералу Кузнецову.
– Невероятно! – искренне восхитился генерал. – С таким номером можно и в цирке выступать.
– Цирк он и есть цирк. А в партизанах годилось. Немцам только это не нравилось.
– Почему? – спросила Наташа.
– Да... им у нас все не нравилось,– уклончиво ответил Матвей Петрович. – Кондратьевна! Что я тебе сказать хотел?.. Полиэтилена-то я не привез.
– Как? – строго спросила Алла Кондратьевна.– Почему?
– Гриша счетов не хочет оплачивать.
– Он что, с ума сошел? Где он? – зло спросила Алла Кондратьевна и повернулась к Сереже.
– Скоро будет,– неохотно ответил Сережа.– Он с Анной Васильевной.
– Ничего, – пригрозила Алла Кондратьевна. – Ему это так не сойдет.
Она расстелила на столе клеенку, положила на нее цесарку и принялась начинять птицу фаршем из рыжиков, зачерпывая его ложкой из эмалированной кастрюли. Генерал Кузнецов и Матвей Петрович снова уселись за шахматы.
– Э, нет, слонов я все-таки разменяю,– решил генерал.
– Алла Кондратьевна, специй вы никаких не добавляете? – спросила Наташа, наблюдая за тем, как Алла Кондратьевна начиняет цесарку. Шахматы ей надоели.
– Ни в коем случае. Только соль.– Алла Кондратьевна вдела в иголку суровую нитку и стала зашивать цесарку.– Нет в мире лучшей начинки, Наташа, чем рыжики. С рыжиком никакой трюфель не сравняется. Ведь он, рыжик, не сам по себе растет. Он корешками обязательно с сосной связан. Или с елкой. И берет от них самое полезное. Учись, Наташенька. Потом в Москве всех удивлять будешь. В «Метрополе» такого не подают.
Для нее отъезд Наташи был делом настолько решенным и естественным, что и Сереже вдруг показалось, что Наташа уже не здесь, что она уже живет в Москве и знает, где этот «Метрополь», а сюда приехала в гости, ненадолго, и сейчас же уедет.
– Вот, товарищ генерал,– раздумчиво продолжала Алла Кондратьевна, – двух женщин, которые государствами правят, я знаю. А есть где-нибудь женщины – генералы?
– Как-то до сих пор я с этой точки зрения женщинами не интересовался,– чуть виновато ответил генерал Кузнецов. – Кажется, нет.
– Бог миловал! – буркнул Матвей Петрович. Алла Кондратьевна недобро улыбнулась:
– Вот, не нравится мужикам нашим под бабой ходить. А дойдет до выборов, так вы, Матвей Петрович, за меня первым руку поднимете.
– Подниму,– согласился Матвей Петрович.– А куда я денусь?
Сережа поднял вверх измазанную глиной руку. Как в классе.
– Партийного секретаря,– сказал он,– в колхозе тайным голосованием выбирают. Председателя – открытым. А когда б и тут не открытое голосование? Как бы вы тогда, дед Матвей?
Он хитро прищурился.
– Я, Серега, и в ящик бы за нее бросил,– твердо ответил Матвей Петрович.– Как бог свят.– И добавил, как отрезал: – Бате твоему для председателя оборотистости не хватает. Пока бумагу какую подпишет, три раза подумает. А Кондратьевна хоть в заместителях числится, а хозяйство давно на себе тянет.– И, обращаясь к генералу, пояснил: – Председатель себе одну селекцию оставил.
– Если б не его селекция,– с вызовом вступился за председателя Сережа,– не был бы наш колхоз по картошке первым. И знамени у нас не было б.
– Может, и не было, – согласился Матвей Петрович.– А не построила б Кондратьевна кирпичный завод, то и Дворца культуры такого не было б. И школы новой. А свинарники, в которые делегации водят? А дорогу до фермы кто заасфальтировал?
– Шабашники! – выпалил Сережа.
– Шабашникам платить надо! – не выдержала Алла Кондратьевна.– И за теплицы надо платить! Зато ранний огурец рублем оборачивается... Вот, товарищ генерал, говорят: селу нужны инженеры, экономисты, чуть ли не кибернетики. Верно. Но прежде всего колхозу нужны деловые– люди. Размах нужен.– Алла Кондратьевна выдернула из вазы цветы, подошла с ними к генералу.– Хорошие цветы? Похожи на настоящие?
– Похожи, – неуверенно ответил генерал.
– Каждая тычинка на месте! – торжествовала Алла Кондратьевна. – Сами делаем. Народный промысел. Полиэтилен. А чего мне стоило пробить это дело!.. Мне для начала нужно было каких-нибудь двадцать тысяч. Так у главного бухгалтера, у Гриши, Сережиного отца, статьи такой не нашлось... Теперь у меня на полмиллиона заказов. Один Армавир на сто тысяч берет. Пускай Матвей Петрович скажет, сколько картошки надо на полмиллиона продать.
– Много надо,– мрачно подтвердил Матвей Петрович. Это был давний спор в колхозе. Отзвуки его доходили и до Наташи.
– Алла Кондратьевна, – нерешительно возразила она,– так картошку – едят...
– Правильно! – перебил ее Сережа.– Картошка тот же хлеб. А цветы ваши кому нужны?
– И ковров тоже люди не едят,– сразу же нашлась Алла Кондратьевна.– Но покупают их. А в итоге колхозу прибыль, и людям заработок. Ты в свои годы у отца на мороженое клянчишь. А Олег в каникулы на цветочках по сто тридцать рублей в месяц заработал.
«Олег,– подумал Сережа. – У Олега мать больна. Да еще двое меньших дома. Пока Людка и Ромась не вырастут, ему как следует вкалывать придется. Потому и стал к прессу. Сто тридцать рублей. Засыпаешь в бункер полиэтиленовые гранулы, поворачиваешь ручку и выталкиваешь лепестки. Выгодно. А мама Олега на ферме: пока раздоит первотелку да подготовит ее к машинному доению... И больше, чем по сто, у нее все равно не получается».
– Так давайте закроем колхоз, а из кирпича вашего фабрику построим. С большой трубой. И будем там ромашки делать! – предложил Сережа.
– С тычинками, – хмыкнул Матвей Петрович. Умела Алла Кондратьевна, когда ей это нужно было, и пошуметь, и грубо оборвать собеседника. Но когда что-нибудь ее задевало всерьез, голос у нее сразу же становился глубоким и спокойным и только глаза полыхали сквозь прищуренные веки.
– В школе нет такого предмета – демагогия,– удивилась она.– Где же вы ей научаетесь?.. Колхоз закрыть! Колхоз хоть закрывай, когда люди из села бегут. А у меня в столе пачка заявлений – даже из района к нам просятся... Тычинки им не нравятся! – вдруг набросилась она на Матвея Петровича.– А что в лесах вокруг городов скоро ни одного живого цветка не останется – это вам нравится? Купит человек полиэтиленовую ромашку – природа выиграет... И я вам скажу, Анатолий Яковлевич,– повернулась она к генералу,– под Новый год у нас миллионы сосенок и елочек вырубают. А мы и елочку полиэтиленовую в производство запускаем. Это и есть охрана природы. На деле, а не на словах. Ты, Сережа, большой уже парень, усы под носом проклевываются. Мог бы свою голову иметь, а не повторять, как попугай, Гришины слова.
Сережа улыбнулся.
– Батины слова про ваши ромашки я при женщинах не могу повторить.
– Знаю! Наслышана! – вспыхнула Алла Кондратьевна.– Вот, товарищ генерал, если нам суждено от чего-нибудь погибнуть, так это от демократии.
– Ну почему же – погибнуть? – с веселым любопытством посмотрел на Аллу Кондратьевну генерал Кузнецов.
– Потому что дело требует единоначалия. Бухгалтер в хозяйстве помощником должен быть, а не жандармом. Ничего. Я тут скоро порядок наведу.
– Наведешь, успеешь,– примирительно сказал Матвей Петрович.– Ну чего ты на нас взъелась? Мы-то чем виноваты? Ой, Алла, обижаешь ты мужиков.
– Вас обидишь, когда в районе десять тысяч мужиков в конторах сидят, а десять тысяч баб картошку копают! – Алла Кондратьевна подошла поближе к шахматистам и остановилась так, чтоб быть прямо против генерала Кузнецова.– А тут еще возить нечем. Анатолий Яковлевич! – жарко обратилась она к генералу.– Я знаю, списывают у вас машины военные. И в народное хозяйство передают. Нам бы хоть десяток таких машин. Деньги я найду. Генерал Кузнецов понимающе улыбнулся.
– А я все думал, куда повернет ваша цесарка? Понимающе улыбнулась и Алла Кондратьевна.
– Недоверчивый вы человек, Анатолий Яковлевич.
– Если они списанные, так для чего они нужны? – удивилась Наташа.
– В армии они не годятся, а у нас еще поработают,– ответила ей Алла Кондратьевна так, как говорят о деле, уже решенном.
– Ну что вы, Алла Кондратьевна, я вам вполне доверяю.– Генерал Кузнецов по-прежнему смотрел на Аллу Кондратьевну с веселым любопытством и удовольствием.– Но я, видите ли, сам этим не занимаюсь. И, сколько мне известно, существует определенный порядок передачи списанного военного имущества. Я выясню и, если представится возможность, с удовольствием...
– А я так понимаю, Анатолий Яковлевич,– кокетливо польстила генералу Алла Кондратьевна,– что стоит вам только захотеть...
Алла Кондратьевна хорошо знала, что «дуги гнут с терпеньем и не вдруг», что если сразу она не получила положительного и окончательного ответа на свою просьбу, то нужно отступить, а потом снова попробовать.
– Сережа! – укоризненно сказала она.– Ну разве так месят? Добавь воды в таз. Давай я тебе помогу.
Она опустилась на корточки рядом с Сережей и принялась энергично разминать глину.
– Из Боричева яра глина? – спросил Сережа.
– Из Боричева, – подтвердила Алла Кондратьевна.– Все мне возить приходится. Даже глину.
Сережа вздохнул. Не было больше в живых деда Якова, старого, тихого и доброго гончара из села Бульбы.
Сережа уверял, что крынки и кувшины деда Якова славятся в трех республиках – на Украине, в России и Белоруссии. И не очень преувеличивал. Крынки и особенно кувшины деда Якова охотно покупали в округе, а село Бульбы находилось как раз на самом краю Украины – где и Россия рядом и до Белоруссии рукой подать.
Славились так кувшины гончара из Бульб деда Якова потому, что считалось, будто вода в них летом становится холоднее, будто есть у деда Якова свой секрет, только не хочет он его никому открыть, хоть городские мастерские большие деньги ему предлагали.
Мать Наташи Анна Васильевна сказала об этом: «Предрассудок». И Виктор Матвеевич вместе с Сережей и Наташей поставили самый настоящий научный эксперимент. Они взяли фарфоровый кувшин и глиняный деда Якова, в оба налили воды из ведра и измерили температуру воды. Термометр показал восемнадцать градусов в обоих кувшинах. Потом они измеряли температуру через каждый час. Через четыре часа в фарфоровом кувшине температура поднялась на два градуса, а в кувшине деда Якова понизилась до тринадцати градусов – на пять делений.
Виктор Матвеевич торжествовал. Он гордился удивительным умением старого гончара.
Дед Яков, невысокий добрый и молчаливый старичок с опущенными книзу седыми усами и бритым подбородком, был в селе Бульбы единственным человеком, который держал собственную лошадь. Старую понурую Сивку редкой каурой масти – светло-рыжей, с рыжей гривой и хвостом, но вдоль хребта – ремень. Там полосой шерсть темно-каштановая, почти черная. Может быть, такой и была лошадь из сказки «Сивка-бурка, вещая каурка». Сивку дед Яков запрягал в короткую телегу с коробом, сколоченным из тонких досок, садился боком и, помахивая кнутом, отправлялся к Боричеву яру, километров за двадцать от села Бульбы, за нужной ему оранжевой глиной. Назад возвращался пешком, понукая Сивку. Сережа, Олег и другие школьники иногда отправлялись с дедом Яковом в глубокий Боричев яр, помогали накопать глину, а потом играли «в войну». У себя на усадьбе дед Яков складывал глину в кучу, поливал водой, а сверху покрывал соломой, чтоб, как он говорил, глина согрелась и устоялась. А через две недели протирал эту глину через сито.
Ивот уже сидит дед Яков у гончарного круга, подгоняет его ногой. Смочит руки водой, схватит кус глины, швырнет его в центр круга. Охватит ком ладонями, и он словно растет над кругом, поднимается вверх, и на глазах появляется глек, раздуваются бока, вытягивается шея. Одним точным прицельным движением отсечет дед глек от круга, осторожно возьмет его мокрыми руками и поставит на доску. Горн для обжига был обложен со всех сторон битыми черепками. Гудит в горне пламя. А прогорит горн, и достанет дед Яков красные макитры и глеки для молока, а для воды – кувшины с узким горлом. И будут звонкими они и веселыми. Совсем не похожими на своего создателя, молчаливого и одинокого.
Бобылем жил дед Яков с тех пор, как семья его погибла в войну. Но когда заболел и попал в больницу, оказалось, что все село у него – родственники. И из окрестных сел приезжали. Приносили и жареное и пареное. А он и раньше немного ел, а теперь и вовсе есть не мог.
Прошлой осенью, почувствовав близкий конец, позвал он к себе Сережу и Олега.
– Нет у меня сына,– сказал он,– чтоб передать ему рукомесло мое. И гончаров в селе не осталось. Железные кастрюли люди покупают, в казенных кувшинах воду держат. А души в них мало. Вам, ребятишки, скажу, почему в кувшинах моих вода холодеет. Может, оно вам в жизни еще и сгодится. Только попусту секрета моего не разбалтывайте. Кульбабу знаете?
– Знаем,– ответил Сережа. Кульбабой называли одуванчик.
– Летучки с нее нужно в глину замесить. Из расчета по две полных жмени на кувшин. В горне они сгорят, и тонюсенькие дырочки останутся, тоньше волоса. Через них вода понемножку просачивается и, значит, выпаривается. От этого она и холодеет в кувшине.
И Сережа, и Олег пока никому не открыли секрета старого гончара деда Якова.
– Ну как, ничья? – предложил генерал Кузнецов Матвею Петровичу.
Сережа, слегка вытянув вперед измазанные глиной руки, подошел к шахматистам и оценивающе оглядел доску. Нет, дед Матвей не сумел выиграть. Но он и не проиграл. И хоть не вышло так, как загадал Сережа, а все равно он почувствовал какое-то странное облегчение.
– Соглашайтесь, дед Матвей,– посоветовала Наташа.
– Это при моей лишней пешке, Наташка? – Дед Матвей потянулся рукой к белому королю, чтоб сделать еще ход, но тут же раздумал. – Ну чтоб вам, товарищ генерал, не обидно было, считайте – ничья.– Он сложил шахматы в коробку, взял коробку под мышку и подошел поближе к Алле Кондратьевне.– Кондратьевна! Я вот чего спросить хотел... Ты давно Ефременко знаешь?
– Давно. Учились вместе. И Гриша с нами кончал. Финансово-экономический.– Алла Кондратьевна поправила на кофточке голубой эмалевый ромбик вузовского значка. – А что?
– Переучет он там какой-то затеял. У Щербатихи.
– Ну вот,– сказала Алла Кондратьевна так, словно ожидала этого.– Это ведь вы посадили малограмотную бабу на колхозный магазин. А я вас предупреждала. Теперь будут неприятности.
– Посадил, посадил,– начал ворчливо оправдываться Матвей Петрович.– Дети у нее мал мала меньше. Мужик на Север по оргнабору подался, денег не шлет. Женщина она тихая...
– Щербатиха тихая? – перебила его Алла Кондратьевна.– Одного мужа в могилу свела. Другой сбежал. И правильно сделал – она старше его на десять лет. Теперь он денег не шлет, так Щербатиха за казенные принялась? Я вам говорила: в магазине человек должен сидеть, как стеклышко.
Матвей Петрович виновато потянулся рукой к затылку.
– Да все они поначалу, как стеклышки...
– Что с ней будет, дед Матвей? – напряженно спросил Сережа.– Так не годится.
– И я говорю: не годится,– подхватил Матвей Петрович.– Вот когда б Кондратьевна перемолвилась с этим, с Ефременко...
– Ничего из этого не выйдет,– решительно отказалась Алла Кондратьевна.– Ефременко такой, что с ним не очень перемолвишься. Он, когда начнет копать... Он еще в институте, пока кроссворд до последней клеточки не решит, с места не стронется. Хорошо, если в бумагах Щербатиха запуталась. А если что серьезное?..
Алла Кондратьевна наклонилась над миской, зачерпнула горстью глину и начала обмазывать цесарку.
– Наташа,– позвала она,– смотри, как это делается. Сначала против пера мажешь, чтоб глина лучше взялась, а потом уже вокруг... Ладно,– вдруг решила она.– Попробую поговорить. Но смотрите, чтоб это в последний раз.
Матвей Петрович повеселел:
– И правильно, Кондратьевна, и хорошо. К чему нам это?..
– Может, нам к Ефременко поехать? – нерешительно предложил Сережа.
– Только тебя там не хватало,– оборвала его Алла Кондратьевна. – Мало тебе Слесаренко.– Она повернулась к генералу: – У нас кладовщика пришлось уволить из-за Сережиных шуточек.
– При чем тут Слесаренко? – возразил Сережа.– Тут другое дело...
– Погоди, Серега.– Матвей Петрович пожевал губами.– Ты не встревай во взрослые дела. Ты скажи лучше, в больнице ты был?
– Был,– хмуро ответил Сережа.
– Передал? – оживилась Наташа. – Куклу?
– У нее там в палате игрушечный магазин,– неодобрительно посмотрел на Наташу Сережа.– Тетя Алла, вы Александра Михайловича сегодня не видели?
– Нет, – заволновалась Алла Кондратьевна.– А что?
– Да вы не волнуйтесь,– успокоил ее Сережа.– Оксанку в третью палату перевели. Должны сегодня гипс снять.
– Почему гипс? – спросил генерал Кузнецов.– С дочкой что-то?
– Оксанка моя из класса прыгнула,– горделиво ответила Алла Кондратьевна.– Через окно. Со второго этажа.
– Подвела техника японская,– пояснил Сережа.– Зонтик поломался.
– Сколько ей? – спросил генерал Кузнецов.
– Во втором классе.– Алле Кондратьевне явно нравилось, что Оксанка не побоялась прыгнуть с зонтиком со второго этажа.– Вся в меня!
– И я в третьей лежала,– негромко сказала Наташа Сереже.– Там перед окном яблоня. Помнишь? Ты на нее забирался.
– Помню, – ответил Сережа. – Ты мне в окно стакан киселя передала. Черничного.
– Я тебя с утра выглядывала,– призналась Наташа.– И ты не знаешь... Там была медсестра такая, Шура. Как она смеялась надо мной!
– А я ничего этого не знал,– удивился Сережа. «Как это странно,– подумал он.– Я еще ничего не знал. А эта медсестра, выходит, уже знала. О том, что я полюблю Наташу. И Наташа знала? Когда же это в самом деле началось? И с чего?..»
«А как в самом деле зарождается любовь? – подумала Наташа.– Почему высокий и нескладный мальчишка с широким носом, со светлым чубом, который всегда лезет ему в глаза, вдруг начинает казаться тебе самым красивым из всех, кого ты знаешь? Ну, может быть, не самым красивым... Но самым приятным, самым симпатичным. И почему потом, когда ты утром просыпаешься, ты, еще не почистив зубы, не умывшись и не позавтракав, сразу же думаешь о нем? И когда ложишься спать и мама тебе, как маленькой, подтыкает одеяло, ты тоже думаешь о нем. И больше всего на свете боишься, что он об этом узнает. И больше всего на свете хочешь, чтоб он об этом узнал. С чего все это начинается?..» Наташа не знала, как это бывает у других. Но как это было у нее, она знала совершенно точно. У нее все это началось с дождевых черве!!.
В прошлом году, когда они учились в восьмом классе, учительница Елена Петровна придумала устроить при кабинете языка и литературы маленькую библиотеку «Любимая книга». Елена Петровна провела опрос. Каждый ученик должен был сказать, какую книгу он взял бы с собой, если б улетал на ракете в космос.
У Наташи не было такой любимой книги. А может, и была, но она прежде никогда об этом не задумывалась.
– «Дон Кихот»,– ответила она нерешительно.– Или «Анна Каренина».
Олег хотел взять «Кобзаря» Шевченко. Вася в космосе не мог обойтись без «Золотого теленка» Ильфа и Петрова.
Но самым удивительным был ответ Сережи Кулиша.
– Чарлз Дарвин, – сказал он.– «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей».
– Мы говорим о художественной литературе,– возразила Елена Петровна.
– А эта книжка вполне художественная,– стоял на своем Сережа. – Главное, Чарлз Дарвин пишет, что вряд ли найдутся другие животные, которые играли бы такую большую роль в истории мира, как дождевые черви. И если он так написал, то это правда. Уж кто-кто, а Дарвин разбирался в том, кто играет роль в истории, а кто ее не играет.
– Ну что ж,– решила Елена Петровна.– Если эта книга такая художественная и в ней рассказывается о таких симпатичных существах, то мы включим и ее в нашу космическую библиотеку.
Наташа весело рассмеялась.
– Что с тобой, Наташа? – строго спросила учительница.– Это невежливо по отношению ко мне. И по отношению к Сереже. Правила хорошего тона требуют, чтобы люди в таких случаях были сдержаннее.
Елена Петровна вела факультативные занятия «Правила хорошего тона». Послушать ее приезжали учителя из других районов, из области и даже из Киева. Там только собирались вводить в школе «хороший тон», а в селе Бульбы этому уже давно учились.
Учителя говорили, что «хороший тон» надо знать, чтобы потом было легче в жизни. Но Сережа уверял, что фактически от этого легче самим учителям: укрепилась дисциплина. Когда все по всякому поводу говорят друг другу «будь добр», «окажи мне любезность», «не затруднит ли тебя», уже невозможно сказать «будь добр, выйди за школу, я тебе морду набью», «окажи любезность, скажи, у тебя в голове мозги или опилки», «не затруднит ли тебя пойти к чертовой бабушке»...
Школьников учили, как разговаривать со старшими и младшими, членами семьи и посторонними, как здороваться и прощаться, как писать деловые письма и как поздравительные.
Сережа считал, что это странная наука. Елена Петровна на своих занятиях несколько раз повторяла, что нельзя есть рыбу с ножа. Но Сережа и его одноклассники ни разу в жизни не видели, как едят рыбу с ножа, и спросили у Елены Петровны, как это делать. Оказалось, что и она никогда этого не видела.
– Да нет, я ничего, – смеялась Наташа.– Я представила, как из Сережиной книги по всему классу расползаются черви...
Сережа не обиделся на Наташу. За этот смех и за эту шуточку. Они дружили. Это была добротная и надежная школьная дружба – Наташа при случае списывала у Сережи задачки по математике и подсказывала ему на уроках английского языка. Сережа разрешал Наташе ловить плотву на своем «приваженном» месте, а Наташа сумела так зашить Сережину рубашку, что никто б и не заметил, что еще недавно рубашка была на Сереже, а воротник победным вымпелом развевался в Васиной руке. Сережа с Васей после уроков за школой «выясняли отношения».
И все же смех Наташи его, по-видимому, задел. После уроков он сказал:
– Пойдем со мной. Я тебе покажу... одну штуку. Только ты никому не рассказывай. Это секрет.
Сережа привел Наташу к себе во двор, где в углу у забора у него была вырыта яма, заполненная слоями земли и навоза, перемешанных с отрубями. Это был «червятник». Сережа воткнул в землю палку и стал водить по верхнему концу другой палкой, как смычком по скрипке. И вдруг наружу стали выползать черви. Кирпично-красные, извивающиеся. Их было очень много – сотни, а может быть, и тысячи.
– Они – дрессированные? – изумилась Наташа.
– Ну, не совсем дрессированные. Они не любят этого звука. Это Дарвин установил. Он им играл и на рояле и на флейте... Но главное не это...
В тот день Наташа узнала очень много важного и интересного о дождевых червях. Но еще больше важного и интересного она узнала о Сереже. Она поняла, что перед ней человек замечательный и необыкновенный. Он имел ясную и благородную цель в жизни. И он поделился с ней этой своей целью.
– Ты знаешь,– спросил он,– почему таких червей называют дождевыми?
– Нет, – ответила Наташа. Ее никогда прежде это не интересовало.
– В древности считали, что они выпадают вместе с дождем. А в самом деле они во время дождя вылазят из-под земли. Наружу. И обязательно гибнут. Можно сказать, кончают самоубийством. И если даже мне придется потратить на это всю мою жизнь, я все равно узнаю, почему они это делают.
– Но для чего это нужно? – спросила Наташа и отогнала вертевшуюся под ногами курицу. Как она успела заметить, куры интересовались «червятником» не меньше, чем Сережа. Они не хотели допустить, чтоб дождевые черви кончали самоубийством. Они их живыми склевывали.
– В Японии,– сказал Сережа,– ученые недавно вывели новых дождевых червей. Тайхей они у них называются. Для этого им пришлось скрещивать червей из Америки, из Африки и других стран. Больше двух тысяч скрещиваний. И японцы не дураки, они этих червей в два счета раскупают.
– Зачем? – с отвращением спросила Наташа,– Неужели они их едят?
Сережа посмотрел на нее, как на полоумную.
– Ты скажешь... Для сельского хозяйства...
Наташа никак не могла представить себе, что всю существующую плодородную почву несколько раз пропустили через себя дождевые черви. Она решила, что это преувеличение.
– Факт,– горячился Сережа.– Без дождевых червей земля была бы просто бесплодным грунтом.
Сережа рассказал, что здоровая почва содержит на одном гектаре до тонны дождевых червей. Что они перелопачивают и удобряют грунт. Что когда в один засушливый год в Венгрии на лугах И пашнях погибло более половины червей, то это стало ощутимым ударом для сельского хозяйства, а значит, бедой для всего государства.
Едят дождевые черви землю, опавшие, полусгнившие листья. Эту землю они пропускают через себя, и она обогащается, становится настоящим высококачественным удобрением. А сквозь ходы, которые оставляют черви, в почву попадает дождевая вода, воздух. Корни растений не всегда могут пробиться в твердой, слежавшейся земле, и они углубляются в землю по ходам, прорытым червями.
Живут черви довольно долго – до десяти лет. И за год они дают до ста коконов. А черви, выведенные в Японии, дают потомства в десять раз больше, чем обычные.
– Червей нужно беречь, нужно их сохранять,– проникновенно говорил Сережа Наташе.– Но с ними не все понятно. И ни один человек, ни один ученый до сих пор не знает, что же с ними происходит. Почему они после дождя вылазят на поверхность и гибнут. Думали ученые, может, их затопляет вода. Не подтвердилось. У меня у самого черви прожили в банке с водой сто семьдесят два дня. Думали, может, им не хватает кислорода. Проверили. Черви несколько часов могут жить и без кислорода. В чем же тут штука? Почему их убивает дождевая вода?
Пока Сережа рассказывал, все появившиеся на поверхности «червятника» дождевые черви уползли в почву. Белая курица безуспешно разгребала землю.
– А тебе не жалко, что их едят куры? – спросила Наташа с сомнением.
– Нет,– ответил Сережа.– Курам черви – хороший корм. И полностью бесплатный. Но главное – червь такая насадка, что ее берет любая рыба.
– Ты ведь говорил, что это такие животные... Что они играют большую роль в истории мира,– возмутилась Наташа. Странно улыбнулась и добавила: – Виктор Матвеевич рассказывал, что прочел где-то каннибальскую шуточку...
– Какую?
– Чем лучше мы относимся к животным, тем они вкуснее.