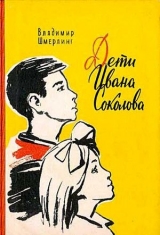
Текст книги "Дети Ивана Соколова"
Автор книги: Владимир Шмерлинг
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Глава двадцать девятая
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Чем дальше время отодвигало нас от войны, тем больше страдал Сергей от того, что все забыл.
Как и раньше, он верил, что ему поможет объявление. Он хотел описать все свои приметы, подходил к зеркалу и, чуть наморщив лоб, с удивлением смотрел на себя. Он спрашивал меня о цвете своих глаз и сердился, когда я говорил, что они карие.
– Карие только у девчонок бывают!
Как-то он снял рубашку и показал мне свою спину. Я тщательно исследовал ее, но ни одной родинки не обнаружил.
– Нет! – уверял я его.
Сергей огорчился.
Он плохо спал, мало ел, был вялым, удрученным или куда-то спешил.
По ночам он бормотал про себя что-то невнятное.
Несколько раз ночью к нам в спальню приходила Светлана Викторовна и садилась у Сережиной койки.
И Галя, и Светлана Викторовна, и Капитолина Ивановна думали о том, как бы помочь Сергею.
Галя не сводила с него глаз, когда он вдруг менялся в лице и хватался за лоб рукой. Что-то мелькало в его глазах, но тут же ускользало.
В нашем городке, на Астраханской улице, открылась фотография. В ее окне появились первые портреты. Редко кто из прохожих пройдет мимо и не взглянет.
Андрей попросил Капитолину Ивановну взять со сберкнижки деньги, которые он получил после гибели отца.
– Зачем тебе?
Сережу снять на всю витрину.
– Без твоих денег обойдемся, – ответила Капитолина Ивановна.
Целой гурьбой пошли мы на Астраханскую улицу.
Галина Ивановна и Захар Трофимович объяснили фотографу цель нашего прихода.
Сережа очень волновался.
Галина Ивановна, перед тем как причесать Сережины волосы, смочила их водой. Вихры улеглись. Захар Трофимович запротестовал и взъерошил Сережины волосы.

Фотограф усадил Сережу перед большим фотоаппаратом.
Фотограф усадил Сережу перед большим фотоаппаратом.
Сережа впился глазами в одну точку. Он сжал губы. Глаза его блестели. Он весь был устремлен куда-то вдаль…
В комнате вспыхнул ослепительно яркий свет.
Сережа так растерялся, что не сразу поднялся со стула.
Через неделю большой портрет Сережи, наклеенный на толстый картон, был помещен в самом центре витрины. А еще через несколько дней все мы увидели портрет Сережи в красивой светло-коричневой деревянной раме. Как оказалось, это постарался старый бондарь Василий Кузьмич.
Капитолина Ивановна обещала вывесить еще две фотографии Сережи в других городах.
Как-то Сергей первым проснулся и толкнул меня в бок:
– Может быть, сейчас кто-нибудь на меня смотрит. А вдруг узнает?
…Ранняя весна пришла к берегам Невелички. Солнце с каждым днем грело теплей и ярче, сгоняя к реке бурные, мутные потоки. «Снежный человек» оттаял. Андрей замаскировал его соломой и прошлогодней травой. Пусть отдохнет без головы до будущего снега.
…В один из первых майских дней к нам в корпус вошел широкоплечий человек в форме летчика.
Сразу было видно, что он побывал в боях. Не могло быть, чтобы у него от рождения так двоился подбородок. Несомненно, это шрам.
Вслед за летчиком, который, как мне показалось, очень спешил, вошли Капитолина Ивановна и Светлана Викторовна.
Летчик посмотрел на нас всех, а потом остановил свой взгляд на Сереже. Тот сразу насторожился.
Капитолина Ивановна сказала:
– Сережа, это твой папа!
– Папа! – пронзительно закричал Сережа, за трясся всем телом и бросился к летчику.
Должно быть, этот крик был слышен и в других корпусах нашего детдома.
Летчик стоял посередине комнаты, широко расставив ноги, но вдруг закачался. Светлана Викторовна быстро подставила ему стул.
– Сын! – прошептал он.
Сережа забрался к нему на колени. Он гладил его по волосам, по лицу; прижимался то к его щекам, то к груди, на которой было много орденов. Он словно не доверял сам себе. А потом положил свою руку летчику на плечо, откинулся, пристально посмотрел ему прямо в глаза.
Сережа вдруг спрыгнул с колен летчика, и снова его страшный крик заставил нас всех вздрогнуть.
Сережа подбежал к своей койке и еще раз посмотрел на летчика, покачал головой и прошептал:
– Нет, это не он. Мой папа был совсем другим.
И тогда в тишине раздался взволнованный голос Капитолины Ивановны:
– Каким же был твой папа?
– У моего папы на фуражке был краб. Мой папа не испытывал самолеты, он строил корабли. Мы жили в Ленинграде. Мама отвезла меня в Сталинград.
Сережа заговорил очень быстро, не в силах справиться со всем, что нахлынуло на него.
Вначале мне даже показалось, что он бредит. Он откинул назад свою голову и говорил, говорил без конца, крепко ухватившись руками за спинку кровати.
Все мы ловили каждое его слово. Мы уже забыли о летчике, как вдруг увидели, что он прикрыл свое лицо руками.
Капитолина Ивановна дала знак, чтобы все вышли из спальни.
Все это было очень непонятной даже досадно: о каком вдруг отце вспомнил Сережа, когда отец разыскал его и сидит с ним рядом! Сам не знает, что говорит.
Но я ведь еще не знал тогда, что этот человек в первые дни войны потерял свою семью. Он жил надеждой напасть на след своего единственного сына. А когда исчезла надежда, решил усыновить мальчика.
Капитолина Ивановна рассказала летчику, что у нас в детдоме живет мальчик, который забыл все, что с ним было раньше, и именно его летчик решил назвать своим сыном.
Но случилось то, что трудно было даже предугадать: радость потрясла Сережу, и он вспомнил все, что забыл.
Глава тридцатая
ДОБРЫЕ ДНИ
Мы едем, едем, едем!
Няня Дуся нам машет рукой. Она сказала: «Отдохну без вас, галчат, кофту к зиме свяжу».
А я ей не поверил. До зимы далеко, мы уезжаем, а Евдокия Петровна остается. Мне жаль няню.
Наш городок не такой уж тихий. Спозаранку стучат плотники – они рубят пристройку к дому.
А вот и навес. Под ним бочки и ушаты. Сыплются удары молотков. Это барабанят бондари. Они выбегают из мастерской. Кто машет нам клепкой, кто железным обручем. А у одного в руках целое днище.
Машина чуть замедлила ход.
Показался и Василий Кузьмич. Над седой головой он поднял свой картуз с блестящим козырьком:
– Счастливо-о!
Машина набирает скорость.
Не успели мы опомниться, как оказались на станции.
Оля испугалась, когда загудел, зафырчал и зашипел паровоз; а я бы верхом вскочил на него и понесся вскачь.
Мы заполнили весь вагон. Счастливчики заняли места у окон. Слава и Сережа сейчас же забрались на третью полку. Все мы не отрываясь смотрели в окна, где нам навстречу неслись телеграфные столбы, сторожевые будки и зеленые флажки стрелочников.
Скорей бы увидеть Сталинград! Вот уже по обе стороны полотна железной дороги искореженные танки, выкрашенные в жабий цвет, остовы разбитых вражеских машин и пятнистые орудийные лафеты. Когда они шли на нас, дрожала земля.
Виднеются мотки колючей проволоки и окопы, заросшие сорняком.
Кто-то пытался затянуть песню, но она не ладилась, так как мешала думать и смотреть.
…Вот и пошли, как у нас говорят, сталинградские «кочегуры», балки и холмики. К ним прилепились одноэтажные домишки, сделанные и из свежевыстроганных досок и из обгоревших бревен.
Медленней, медленней идет поезд. И наконец колеса замолчали совсем.
Я прыгаю с подножки. Даже не верится, что стою на сталинградской земле. А вот и такой знакомый перекидной мост над путями!
Сталинградские пионеры протягивают нам букеты цветов. Вся площадь у вокзала полна людьми. Они пришли встречать детдомовцев. Нас ждали автобусы, украшенные цветами и зелеными ветками.
Шофер открывает дверцу. Мне кажется, что я его где-то видел раньше, так же как и почтальона с сумкой, который машет нам пачкой газет.
Оля поглаживала блестящие никелированные защелки у окон автобуса, а я смотрел в окно. Так хотелось всюду побывать, взобраться на Мамаев курган, побежать на набережную к Хользунову, заглядывать в окна, дворы!
Если бы можно было попридержать автобус, чтобы он останавливался на каждом углу, у вывесок, плакатов, витрин…
Еще повсюду виднелись груды битого кирпича и железные прутья перекрытий, но расчищенные и подметенные тротуары придавали улицам опрятный вид.
Эх, если бы записать тогда все наши возгласы, все слова! Ведь по этим улицам мы учились ходить.
– Вот, вот, посмотрите, я жил здесь до войны!
– На этом стадионе мой папа в футбол играл!
– А тут был магазин, в нем мама работала продавщицей.
– А вот по этой улице дедушка любил гулять!
– А я с бабушкой на этой остановке слезал, когда в детский сад ездил!
И мы вспоминали каждый свое: кто – круглый стол под яблоней, кто – качели, кто – киоск, где продавался квас…
Сережа дернул меня за рукав: да, он прав, именно здесь стояли солдатские кухни, и отсюда дяденька потащил нас в детский приемник.
Автобус остановился в центре города, у здания восстановленной школы.
Не успели отдохнуть – в баню, из бани – в столовую. Где бы ни появлялись, нас обступали незнакомые люди, начинали расспрашивать, угощать лимонадом, пирожными, приглашали к себе в гости; спрашивали, нет ли в нашем детском доме тех, о ком им очень хотелось хоть что-нибудь узнать.
И мы тоже спрашивали о своих знакомых, соседях, но только немногие счастливчики нападали на след…
Тогда сталинградцами стали тысячи людей, приехавших из всех советских республик восстанавливать наш город.
Жар шел от развалин, разогретых солнцем. Когда налетал ветер, молодые деревья шумели своей скромной листвой. Но они не могли еще защитить нас от горячих лучей.
Я с удовольствием слушал перезвон трамваев. У трамвайных рельсов вспыхивали огни электросварки.
В мои глаза изредка попадал наш сухой сталинградский песок, поэтому они чуть слезились.
Галя позволила мне вместе с Сережей пройти к памятнику Хользунову. Мне хотелось пройти пешком там, где нас промчал автобус, а потом повернуть обратно и выйти к Волге.
Вначале мы даже взялись за руки. Нечего болтать, когда так много надо увидеть. А на Сережу вдруг нашло: идет со мной по сталинградской улице и без умолку говорит о своем Ленинграде. В другое время я слушал бы его не отрываясь – и про Васильевский остров, и про раздвижные мосты, – но сейчас ведь мы шли по Сталинграду.
– Замолчи! – Я сжал ему руку.
И сразу вспомнил о своей спутнице, о ее шершавой руке. Вот с кем бы я сейчас все облазил, всюду побывал, все вспомнил.
Уже сколько часов я в Сталинграде, а до сих пор не встретил ни одного знакомого человека.
Только подумал я об этом, как, к великому своему изумлению, вдруг увидел знакомое лицо в окне дощатого павильона, пристроенного к длинному забору. Это была фотография Сережи.
Капитолина Ивановна выполнила свое обещание. Этот портрет был не в раме, но зато под ним была надпись с адресом нашего детдома.
Сергей даже отпрянул назад. Он сказал, что надо снять фотографию. А я подумал про Сергея: «Вот ходишь со мной по пыльному городу, а тебя, возможно, уже ждут на Васильевском острове».
Сережа задумался и замолчал.
Мы повернули обратно, не дойдя до вокзала.
Я внимательно смотрел по обе стороны мостовой. Кругом руины, а над землянкой, как на большом доме, висел номер: «Улица Ленина, дом N 1».
Хозяин землянки стоял рядом со своим «особняком» и вел разговор с обступившими его прохожими. Он рассказал, что на этом углу стояло большое здание. Он жил в нем; поэтому и землянку свою соорудил «по месту жительства».
– Здесь жил и здесь жить буду! Заходите, товарищи, в гости!
Мы вышли к набережной.
Все так же спокойно текла Волга.
Белый речной трамвайчик трудился обоими своими колесами, направляясь на тот берег.
Черные дымки барж и пароходов вились над речным простором.
Как прежде, на своем гранитном постаменте стоял наш летчик, комдив Хользунов.
В сумерки сильнее запахли цветы в скверах, и множество мошек кружилось в воздухе, залетая то в рот, то в уши; я отмахивался от них.
Мы вернулись в школу. Очень устали за этот день, но все не могли оторваться от окон. Темнота скрыла руины, и город заблестел множеством огней, будто весь он целый и невредимый, такой, каким был до войны. Там «Красный Октябрь», там, близко от дома, а дома нет.
Шум города не затихал, но теперь он доносился издалека и убаюкивал.
Пока мы спали, сталинградки электрическими утюгами гладили наши костюмы, платья девочек, пионерские галстуки… Каждому из нас под кровать были поставлены новенькие тапочки.
На следующий день под барабанную дробь, со знаменами и флагами мы вступили на площадь Павших Борцов. Заиграл сводный оркестр детских домов Сталинградской области.
С другой стороны на площади выстроились пионеры города.
Ровными рядами окружили мы братские могилы защитников красного Царицына, зверски замученных и повешенных бароном Врангелем в 1919 году, и братскую могилу защитников Сталинграда в Отечественной войне.
Я иду в колонне тех, кто несет венки живых цветов.
Все смотрят на нас.
Мы кладем венки на могилы и все как один опускаемся на колени. И тогда вместе с нами тысячи людей также опустились на колени.
Воцарилась необычная тишина. Замерла огромная площадь.
Может быть, здесь, в братской могиле, лежит и мой отец.
Над площадью полилась траурная музыка.
Мы поднялись и услышали громкий голос:
– Мы хотим, чтобы дети всего мира никогда не знали, что такое война!
На следующий день началась олимпиада. Мы пели и плясали, а те, кто сидел в зрительном зале, вспоминали, как нас откапывали и находили в ямах…
…Нас катали в легковых машинах, на речном трамвайчике, на каруселях. Показали работу пожарного парохода «Гаситель». Ярко блестели на солнце начищенные медные трубы. Вдруг из всех труб во все стороны брызнула вода, и небольшой пароход сразу стал похож на огромный фонтан.
В зверинце мы увидели слона. С восторгом угощали его морковкой, а он приветствовал нас, помахивая то хвостом, то хоботом. С особым уважением смотрели мы на слона, так как вспоминали своего сталинградского непокорного слона, который долго пугал немцев.
Сегодня – зверинец, завтра – «комната смеха»…
Утром нас будил колокольчик, и начинался летний большой сталинградский день.
Глава тридцать первая
ЧАСЫ
Рабочие «Красного Октября» пригласили нас в гости.
К школе подъехал большой автобус. Человек, сидевший рядом с шофером, вышел из кабинки и громко поздоровался с нами.
Каково же было мое удивление, когда он вдруг спросил:
– Кто из вас Геннадий Иванович Соколов?
По всему выходило, что он спрашивал обо мне. Но ведь еще никто никогда не величал меня так.
Я отозвался, а он протянул мне руку и пробасил:
– Да, тебя, брат, не узнать. На целую голову выше стал.
И я не сразу узнал его. И не мудрено: тогда в полушубке и в ватнике он показался мне очень внушительным. А теперь на нем был легкий парусиновый пиджак, на макушке его бритой головы блестела пестрая тюбетейка.
– Инженер Панков! – напомнил он. Признаться, фамилию его я уже забыл. Но то, что этот человек знал моего отца и угостил меня когда-то салом и шоколадом, сразу воскресло в моей памяти.
– Директор завода лично поручил мне разыскать вас, Геннадий Иванович, – сказал Панков.
…Чем ближе к заводу, тем многолюдней на трамвайных остановках. Банный овраг, мост и давнишняя знакомая – Тещина остановка!
Параллельно Волге, шоссе, трамвайным путям бежало и железнодорожное полотно. Привычно прогудел и загромыхал пригородный поезд.
А вот и кирпичные трубы выстроились, как великаны!
По воде, по рельсам, по шоссе, обгоняя друг друга, неслись машины; проходили баржи и поезда. Автобус свернул в сторону и остановился. Мы прошли мимо здания заводоуправления. Повсюду с огромных щитов на нас смотрели надписи и плакаты; они призывали мартеновцев дать стране высококачественную сталь.
На одной стене мы с трепетом прочитали выведенные неровной рукой священные слова: «Здесь стояли насмерть таращанцы».
Почерневшая, закопченная каменная коробка разрушенного здания… Инженер Панков объяснил, что здесь была центральная заводская лаборатория, а теперь окрашенные специальным составом развалины в память боев будут сохранены на века – для истории. Мимо нас пропыхтел паровозик. Он вез за собой по узкой колее огромные ковши, заполненные расплавленным металлом. Вот-вот выплеснет.
Мне не верилось, что наконец я попал на завод. Ведь еще совсем маленьким я часто приставал к отцу, спрашивая его, «в какой трубе он работает», и просил принести «какую-нибудь железку».
Отец все собирался повести меня на завод, но так и не пришлось ему выполнить свое обещание.
Меня не покидало ощущение, что отец где-то здесь, рядом, а я пришел к нему в гости.
Инженер Панков показал нам огромные электромагнитные краны, которые притягивали к себе железный лом. В грудах искалеченного, заржавленного металла можно было увидеть гусеницы танков. А вот и немецкая каска, вся в дырках.

Мы на мартене.
Мы на мартене. Нам разрешили посмотреть в печь сквозь синие стекла. Там бушевал свирепый, неистовый огонь. Огромная печь гудела и вздрагивала. Я бы смотрел и смотрел туда, не отрывая глаз от защитных стекол, но мне надо было уступить место другому. А дяденька сталевар даже пошутил:
– Ну, как вам нравится, как суп наш варится?
А себя он назвал «поваром» и ткнул пальцем в свою войлочную шляпу:
– Только та разница, что колпак не белый!
Не хотелось уходить отсюда! А тут еще Панков сказал пожилому сталевару, показав на меня и Олю:
– Познакомься, Игнат Кузьмич, Ивана Соколова дети.
Усатый сталевар приветствовал нас своей рукавицей. Как оказалось, это был мастер и работал когда-то сталеваром вместе с моим отцом на одной печи.
Мы побывали и на блюминге и в других цехах.
Раскаленные слитки с легкостью летели в валы, переворачивались и, вытягиваясь огненно-красными, сияющими лентами, ложились на чугунный пол.
С великолепной ловкостью человек подхватывал клещами раскаленную стальную нить и направлял ее дальше, чтобы она стала еще более тонкой.
Экскурсия окончена. Над нами голубое небо и заводской двор, разогретый солнцем.
Инженер Панков всех нас пригласил к директору.
Мы вошли в здание заводоуправления, поднялись наверх по широкой лестнице и оказались в огромной комнате.
Нам навстречу вышел невысокий человек. Это и был директор.
Мы сели к столу, заставленному тарелками с конфетами и фруктами.
Чтобы мы не смущались, директор сам протянул руку за конфетой и, медленно развертывая бумажку, приказал нам всем последовать его примеру.
В кабинет один за другим входили рабочие.
Я очень обрадовался, когда вновь увидел Игната Кузьмича. Он пришел в своей рабочей одежде, но уже без рукавиц. Тут же собрались и женщины – жены рабочих, лаборантки, служащие заводоуправления.
Игнат Кузьмич подвел меня и Олю к полной женщине, подтолкнул нас друг к другу.
– Разве можно так с детьми обращаться? – сказала женщина и улыбнулась нам.
Игнат Кузьмич, не выпуская наших рук, сказал:
– Знакомься, Матрена Афанасьевна, Ивана Соколова потомство.
А нам он пояснил:
– Моя хозяйка!
Директор сказал, что все воспитанники детских домов очень дороги рабочим завода; краснооктябрьцы благодарят нас за посещение и дарят свои скромные подарки.
Мы стали обладателями, трикотажных спортивных маек, бутсов, готовален, шахмат, шашек, настольных игр, коробок с разноцветными нитками для вышивания и многих книг.
А одну очень красивую куклу женщины подарили Оле.
Директор поднял руку, показав этим, что он еще что-то хочет сказать. Снова стало тихо. Он подошел к небольшому коричневому шкафу, и я услышал, как щелкнул замок.
– Гена Соколов!
Инженер Панков, оказавшийся рядом, подтолкнул меня.
– Прошу тебя, Гена, подойди сюда, – сказал ди ректор.
И вот я стою рядом с ним.
– Дорогие товарищи! – раздался надо мной внятный голос. – Я хочу передать сыну нашего славного сталевара Соколова, который погиб геройской смертью, защищая родной завод, часы отца.
Я почувствовал слабость и холодок во всем теле. А потом, будто подбросило меня взрывной волной… Снова сыплется штукатурка, дым и пыль заволакивают глаза…
В кабинете стало очень тихо.
Все разом пронеслось передо мной – мамино лицо, склоненные знамена перед братскими могилами…
Я сжал руки: «Держись, Гена, держись!»
Директор достал часы из несгораемого шкафа.
Я боялся взглянуть на них. Может быть, это ошибка.
Директор держал небольшую коробку. Я никогда не видел этой коробки. Но директор приоткрыл крышку, и я увидел часы. Да, это были те самые часы, которые я отдал врачихе. Но как же из сумочки, висевшей у нее на руке, они попали в несгораемый шкаф?
– Эти часы передал на завод демобилизованный воин, душа человек; из дарственной надписи он узнал, что часы были вручены сталевару «Красного Октября» товарищем Серго Орджоникидзе. Часы замечательные, – сказал директор уже совсем другим голосом.
Мне захотелось рассказать всю историю этих часов – про Валю, про гитлеровского офицера, сопровождавшего врачиху, но я ничего не мог вымолвить.
Я взглянул на Олю. Она сидела среди подружек, обняв новую куклу. Увидел лицо инженера Панкова.
И вот уже коробочка в моей левой руке, а правую крепко жмет директор. Он целует меня:
– Будь таким, каким был твой батька!
Батька! Никто еще никогда так не называл моего отца.
Я отошел и прислушался к ходу часов. Тикают!
Сережа не утерпел и несколько раз приложил часы то к одному уху, то к другому, а потом произнес многозначительно:
– Да!
Директор, прощаясь с нами, сказал:
– Вот подрастете, кто из вас захочет стать металлургом, милости просим.
Игнат Кузьмич на этот раз очень осторожно взял Олю за руку и подвел к Матрене Афанасьевне.
– Вы, Соколовы, теперь мои гости. Вашему начальству все известно; разрешение получено, и даже с ночевкой. Доставим целыми и невредимыми. Олю сейчас заберет с собой Матрена Афанасьевна, а ты со мной! – сказал Игнат Кузьмич.
Я сунул коробку с часами в карман и зашагал рядом с Игнатом Кузьмичом на мартен.
Игнат Кузьмич рассказал, что в дни сражения передовая проходила по мартеновскому цеху, где мы сейчас находимся, между старыми и новыми печами.
– Морозы начались, а от печей еще жар шел. Бывало и так: внизу под печами немцы, как в пещерах, сидят, а наверху – наши бойцы. Когда фашистов гранатами из мартена выбивали, их даже из изложниц вытаскивали.
И еще рассказал Игнат Кузьмич, как вернулись сюда старые рабочие восстанавливать мартен. Тогда в цеху, как в лесу, куковали кукушки.
Он объяснил, что сейчас идет скоростная плавка.
Меня обдает жар, и на лбу выступают капельки пота. А подойдешь ближе – обжигает с непривычки. Даже глазам жарко. Как бы брови не спалить!
Один из сталеваров, подручный, заглянул в печь, а потом повернул какой-то рычаг, и приподнялась тяжелая заслонка.
Ловким движением сталевар засунул в нутро печи длинный черпак с маленькой ложечкой на конце. Вот он вытащил его обратно. Снова закрылась заслонка, и из ложечки вьюном на чугунную плиту полились золотые искры. Они летят и брызжут во все стороны.
Сталевар вылил расплавленный металл из ложечки на плиту, и тут же девушка подхватила только что откованные кусочки взятой пробы и побежала с ними в лабораторию.
Игнат Кузьмич сказал мне, что скоро будут выпускать плавку.
Сталевар медленно разделывал выходное отверстие. Водопадом ринулась сталь.
Я стоял на высокой площадке и смотрел, как сверкающая золотая струя текла вниз, продолжая бурлить и искриться в огромном ковше.
Люди отходили в сторону, вытирали пот с лица рукавицами и жадно пили воду.
Я подумал: вот так же трудился здесь и мой отец.
Если раньше я чаще всего вспоминал отца таким, каким видел в последний раз, когда он, надев на голову каску, медленно затянул ремешок под подбородком, то теперь он был перед моими глазами в брезентовой спецовке, в синих очках, поднятых на широкополую шляпу, и в валенках на ногах.
Отец всегда на рынке искал старые валенки…
Кругом все шипит. Кран поверху ходит-звенит.
Вдруг мимо пробежал Игнат Кузьмич. Он позвал меня за собой.
Кто-то крикнул совсем рядом:
– Хромистой руды! Ломики!
Подручные забегали.
Сталевары напоминали мне артиллеристов во время боевой стрельбы на огневой позиции.
Все у печи уступили дорогу невысокому жилистому человеку.
– Федя, не промахнись!
– Не промахнусь!
И Федя, размахнувшись, кинул в печь тяжелый кусок руды – туда, где особенно яростно бурлила сталь.
Вслед за ним подбежали и другие подручные и также кинули в печь тяжелые куски.
В это время кто-то закричал:
– Дери козла!
Из печи тоненькой струйкой полилась сталь, рассыпая по площадке тысячи искр.
Федя снова бросил в печь руду, преградив дорогу огненной струйке.
Игнат Кузьмич громко скомандовал:
– Подать ковш!
Федю будто кто водой окатил. Он вытирал рукавицей капли пота со лба и щек.
– Молодец, парень! Благое дело сделал! Если бы проморгал, потеряли бы полплавки, – сказал ему Игнат Кузьмич,
Я ни о чем не стал расспрашивать, хотя мне очень хотелось узнать про «козла».
Я представил себе козла с пламенем вместо бороды, который вылезает из печи и начинает бодаться.
Только потом я узнал, что это за «козел». Говорят: «Пусти козла в огород». А чтобы не пустить его в печь, надо лучше заделывать «порог» после выпуска стали, не оставлять в печи «козелка», который будет выход искать и «закозлит» плавку. Много бед может натворить такой «козелок». Уйдет сталь, и печи на ремонт станут. И не подсчитать убытков.
И еще узнал я, что, если бы Федя и другие подручные не задрали «козла», в «драку» с ним вступила бы заволочная машина; она зажала бы его своим хоботом. Машинист только ждал команды. Но уход металла был предотвращен, и мне не пришлось видеть бой «слона» с «козлом».
Игнат Кузьмич не отпускал меня от себя ни на шаг. Загудел гудок. Кончилась смена, и мы пошли с ним в «бытовые», где Игнат Кузьмич вымылся, переоделся и меня заставил принять душ.
Он посоветовал не вытираться. И действительно, не успел я одеться, как уже стал сухим.
Вместе со сменой уходил я с завода.
Как хорошо шагать, когда с тобой рядом идут в одном направлении сотни людей!
По дороге мы зашли в небольшую парикмахерскую. Игнат Кузьмич решил побриться, как он сказал, «ради гостя», и подправить усы.
– Усы-то у меня от старинки остались, а нос – как у самого молодого. Раньше сталевары с красными носами от ожогов ходили, все в печь носы совали, автоматики и контрольно-измерительных приборов в помине не было, на глазок работали и тремя крестами расписывались. А теперь и мне приходится физику и химию изучать. Нос-то не красный, но надо не зевать, чтобы молодые нам, старикам, нос не утерли, – говорил Игнат Кузьмич, пока парикмахер намыливал ему щеки. Он поднялся с кресла и сказал:
– Садись, Гена, твоя очередь. Ты не стесняйся, – и потянул меня за рукав.
Я недоумевал, так как перед поездкой в Сталинград нас всех подстригли.
– Прошу освежить сына сталевара «Цветочным». Я закрыл глаза. Парикмахер, узнав, что я участник олимпиады детдомов, щедро поливал меня одеколоном. А в моих закрытых глазах продолжали колыхаться огненные цветы, которые я только что видел на мартене.
Я чувствовал, как в кармане продолжают тикать отцовские часы, будто были они не карманные, а стенные, со звучным боем.
Еще издали Игнат Кузьмич показал мне белый дом под черным толем.
– Вот видишь, после войны какое себе гнездо свили. Сами все сделали, даже плотников не нанимали. Откуда и прыть взялась!
Мы шли по дорожке, посыпанной песком. В ушах все еще стоял непривычный гул, но уже хорошо дышалось. Свежий воздух будто сам врывался в грудь.
– Дай я перед тобой похвастаюсь. Все это я свои ми руками посадил. Правда, тесновато. Вишня, абрикос, слива, яблоня родить будут. Вначале соседи смеялись, а теперь тоже вроде обезумели: то дай им отросточек, то черенок клянчат. Этой весной даже соловьи на моих деревьях распевали.
Матрена Афанасьевна позвала нас.
У себя дома, за столом, в цветистом халате, она показалась мне еще полней. Оля уже вполне здесь освоилась. Она зажала между колен медную ступку и с важным видом, прислушиваясь к звону, медным пестом разбивала кусочки сахара.
Так наперчил мне борщ Игнат Кузьмич, что даже слезы выступили. Но я всю тарелку одолел и от второй не отказался.
Игнат Кузьмич тоже с аппетитом причмокивал и борщ похваливал, будто ел его впервые, а сам все поглядывал в открытое окно на свой садик.
Вдруг он отодвинул ложку, пошевелил усами и сказал, задумавшись:
– Да! И твой отец, Иван Сергеевич, как волчок, у печи вертелся!
Игнат Кузьмич никуда не спешил. Он все вспоминал, как он на рыбалке с моим отцом жирную уху варил; как сома в пять пудов однажды поймали, а может, и не пять, кто его вешал!
Игнат Кузьмич долго смотрел на Олю, а потом сказал:
– Отец, отец – и лоб его, и взгляд, и усмешечка. Даже носик, как у сталевара, облупился.
Тут и Оля захотела принять участие в разговоре:
– Я осенью в школу пойду!

Матрена Афанасьевна подробно расспрашивала про жизнь в детском доме.
Матрена Афанасьевна пила чай из блюдца и подробно расспрашивала нас о жизни в детском доме.
– Хорошо, хорошо воспитаны, – несколько раз повторил Игнат Кузьмич.
А Матрена Афанасьевна все продолжала допытывать.
Я ей говорю: «Хорошо живем», а она словно не верит и вздыхает.
За окном темнело, но свет в комнате не включали.
У окна что-то вспорхнуло и зашуршало.
Игнат Кузьмич пояснил:
– Летучая мышь у меня на чердаке квартирует. Повиснет вниз головой и спит. А сейчас самая ее работа – вредных насекомых поедает.
– Не люблю я ее, полуночницу! – сказала Матрена Афанасьевна и стряхнула чайным полотенцем крошки со стола.
На стене тикали большие часы.
– Взгляни на свои, – сказал мне Игнат Кузьмич. В это время стенные пробили десять. И у меня стрелки показывали ровно десять.
– Смотри не разбей! – строго сказала Оля. Матрена Афанасьевна ввела нас в просторную комнату. Сняла пикейные одеяла с кроватей, взбила подушки, постелила нам новые простыни.
Оля лежала на широкой кровати, и я на такой же – напротив. Как это было непривычно! Ведь уже столько лет мы не спали в одной комнате.
На этот раз я смотрел на Олю с особым чувством – ведь я уже и раньше слыхал, что сестра моя похожа на отца, но никогда об этом не думал.
Оля только дотронулась головой до подушки и сразу заснула.
Давно я не оставался в такой тишине. Горький комок подступил к горлу. Значит, теперь уже нечего ждать отца… И тут же я подумал об отцовских часах, таким чудом ко мне вернувшихся.
Должно быть, невесело пришлось гитлеровскому офицеру.
Я представил себе, что могло быть с часами. Вспомнил и фонарик, который был в руках у гитлеровца, а самое главное – вкрадчивую Елену Алексеевну. Может быть, она жива и невредима – перелицованная тетка. Я отвернулся к стене, закрыл глаза и увидел перед собой дом, в котором мы жили все вместе.
…Отец позволил мне поводить помазком по его небритой щеке. Как выгорели у него брови на солнце. Мать метит белье, а потом складывает…
Я почему-то вспомнил, как купили мы новые стулья и как мне хотелось посидеть на каждом стуле, и я перелезал с одного на другой; вспомнил, как мама выбегала отцу навстречу; как отец мечтал о моторной лодке…








