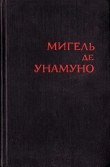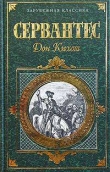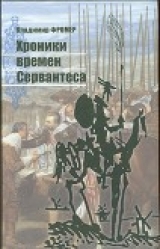
Текст книги "Хроники времен Сервантеса"
Автор книги: Владимир Фромер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Хроника вторая,
где рассказывается о том, к чему может привести вовремя брошенное на стол распятие
Торквемаду невыносимо мучила подагра, и ни молитвы, ни лекарства не приносили ему облегчения. Передвигаться с каждым днем становилось все труднее и, лежа в своей келье на тюфяке, покрытый власяницей, он со скорбным удовлетворением думал, что это испытание ниспослано ему Всевышним, дабы уберечь своего верного слугу от греха гордыни.
А ему было чем гордиться. Кто-кто, а уж он-то мог с удовлетворением оглянуться на пройденный путь. «Ведь это я, – думал Торквемада, – положил на алтарь Господа такие великие достижения, как торжество инквизиции в Кастилии и Арагоне, а теперь вот и изгнание евреев. Фердинанд и Изабелла уже согласились издать эдикт, освобождающий землю Испании от зловредного племени. Нелегко было уговорить королевскую чету решиться на такое, но Господь помог вразумить их. Они, хвала Всевышнему, поняли, что Испания должна стать возлюбленной землей Матери Божьей, а это произойдет лишь после того, как все ее жители станут добрыми католиками. Но не по принуждению, боже упаси, а по желанию души. Вера не может быть принудительной. Грош цена храму, куда загоняют палками. Каждый еврей, принявший христианство, будет подвергнут суровому дознанию, и если окажется, что он вернулся к богопротивным обрядам своих предков, то тогда плоть этого нечестивца будет предана очистительному пламени, дабы спасти его грешную душу».
Такие мысли радовали Торквемаду до тех пор, пока приступом острой боли не дало знать о себе старое немощное тело. «Еще так много надо сделать, – прошептал он, – а времени почти не осталось». Испугавшись, что подобные слова можно расценить как упрек Всевышнему, он поспешно добавил: «Но да сбудется воля Твоя».
Вот уже десятый год возглавлял Торквемада святую инквизицию и знал, что за это время в различных городах Кастилии и Арагона на кострах заживо сожгли десять тысяч еретиков.
Десять тысяч костров, – размышлял он, – но это ведь не все. Еще очень и очень многие привлекались к суду по обвинению в ереси. Около ста тысяч из них были признаны виновными и подверглись различным наказаниям. Совсем неплохо.
Даже люди, приближенные к Великому инквизитору, встречаясь с ним, испытывали трепет. Было в этом человеке нечто такое, отчего бросало в дрожь. Фанатичным огнем на бледном лице горели холодные глаза, проникавшие, казалось, в самые глубины души, дабы найти там ересь, о которой собеседники Торквемады даже не подозревали. Каждому хотелось сломя голову бежать от этого человека.
Сам же Торквемада искренне считал себя «мечом в руках божьих», и его изумляло, что у такого человека, как он, находятся враги – не только в светском обществе, но и в самой церкви. И самым влиятельным из них был Родриго Борджиа – папа Александр VI. До ушей Торквемады, конечно, доходили слухи об отвратительном образе жизни этого наместника Святого Петра. Поговаривали об оргиях в папском дворце, о чудовищных извращениях, об отравлениях и убийствах, о его многочисленных детях, унаследовавших порочные наклонности отца.
В Ватикане при этом папе настоящая добродетель настолько вышла из моды, а порок так сроднился с душой, что даже члены святых орденов вынуждены были скрывать свои добродетели и притворяться грешниками, дабы не прослыть за лицемеров.
Торквемаду, равнодушного ко всем соблазнам жизни, все это ужасно возмущало. Но больше всего он был потрясен тем, что хитрый и проницательный Родриго Борджиа, судя по всему, испытывал удовольствие, с искусной ловкостью разрушая его планы.
«Нет ничего странного в том, что погрязший в грехах развратник старается напакостить человеку, ведущему святую жизнь, – думал Торквемада. – Вот только жаль, что грешник, запятнавший себя всеми мыслимыми пороками, не кто иной, как сам Его Святейшество. Воистину неисповедимы пути Господни».
Великий инквизитор вздохнул и, встав на колени, долго молился перед большим черным распятием. Потом несколько минут вглядывался в скорбную фигуру на кресте с набрякшими жилами рук, со скрюченными в болезненной судороге пальцами, с трещинами уже мертвой кожи.
«Спаситель принял жесточайшие телесные муки, чтобы искупить своей смертью грехи человечества, – размышлял Торквемада, – но люди как грешили, так и продолжают грешить. Мы, верные слуги церкви, призваны направлять их на праведный путь. Лишь крепкая вера – путь к спасению. Вера – это крылья молитвы. Без нее она не может вознестись к чертогу Всевышнего. Конечно, Он не нуждается в нашей вере, но дабы не спасать нас без нашего участия, требует ее от нас. В истинной вере важны не схоластические рассуждения, а твердое понимание того, что в жизни можно, а что нельзя. Есть только одна сила, удерживающая мир от распада. Это – страх. Люди не станут грешить, если будут страшиться пыток и костра, а также репрессий, которые не замедлят обрушиться на их родных и близких. Но тут очень важно не перегнуть палку. Нельзя отнимать у человека все, ибо человек, которому нечего терять, перестанет бояться. Вот почему Христос отрекся в Кане от собственной матери, сказав: „Женщина, кто ты мне?“»
Взгляд Торквемады упал на листок, лежащий на его письменном столе, и сразу кровь ударила ему в голову. Это был анонимный пасквиль, изъятый инквизиторами у одного из еретиков. В нем в издевательски-насмешливом тоне утверждалось, что Торквемада не имеет права заниматься вопросами, связанными с чистотой крови, потому что у него самого бабка – еврейка. Автор этой мерзости даже намекал на то, что Великий инквизитор сам тайно выполняет иудейские обряды.
Торквемада вновь упал на колени перед распятием. Его губы исступленно шептали: «Ненавижу евреев! Ненавижу евреев! Да будут они прокляты во веки веков! Пусть они называют себя новыми христианами – я все равно им не верю».
Фраза «ненавижу евреев» как басовая струна звучала у него в мозгу. Он задыхался от ненависти. Да ведь лгут они, проклятые! Ну, не могла его бабка быть еврейкой. Его предки всегда гордились своим благородным происхождением. Разве мог его дед Альвар Фернандес де Торквемада осквернить кровь своего рода еврейской кровью. Да ни за что на свете.
Но в глубине души Торквемаду грызли сомнения. Они подтачивали сознание и душу. Лишали сна и покоя. Торквемада хорошо знал, что в те времена, когда его дед вступил в брак, евреи пользовались повсеместным почетом и уважением. Породниться с ними отнюдь не считалось чем-то зазорным. Многие из них занимали ответственные посты при дворе, и вообще тогда никто не ломал себе голову над тем, какая кровь течет у него в жилах.
Альвар Фернандес де Торквемада женился по любви и никогда не жалел об этом. Но его внук не смог смириться с такой несправедливостью судьбы. Он хорошо помнил свое детство: косые взгляды, двусмысленные усмешки и шепоток за спиной: «Вот, поглядите на этого гордеца. Он кичится своим аристократическим происхождением. Считает себя выше нас. Видно забыл, что у него бабка еврейка».
Торквемада нервно повел плечом, гоня прочь неприятные мысли. На пороге кельи бесшумно возник его секретарь в черной сутане.
– Ну, что у тебя?
– Плохая новость, святейший приор, – сказал он бесстрастно. – В королевских покоях находятся сейчас дон Ицхак Абарбанель и еще двое иудеев. Мне удалось выяснить, что они предлагают королевской чете тридцать тысяч дукатов в обмен на право евреев остаться в Испании.
Торквемада побледнел. Потом схватил распятие и опрометью выбежал из кельи.
* * *
Дон Ицхак Абарбанель был удивительным человеком. Он принадлежал к семье, которая уже в середине XIII века достигла небывалого почета и популярности в Испании, причем не только среди евреев. Да это и не удивительно, потому что вела она свою родословную от царя Давида. Члены рода Абарбанелей свято верили, что знатность происхождения обязывает их к ревностному служению еврейскому народу и еврейской вере.
Сам Ицхак Абарбанель получил прекрасное образование – как религиозное, так и светское, и стал выдающимся знатоком Торы, Талмуда, древних еврейских источников, а также греческой и арабской философии, медицины, истории и астрономии.
Это был ум необычайно широкий, способный постигать самую суть проблем и правильно видеть и понимать взаимосвязь вещей и событий. А еще Абарбанель был выдающимся дипломатом и финансистом.
Долгие годы он занимал пост финансового советника при дворе короля Португалии Альфонсо V, своего покровителя и друга, и так умело распоряжался королевской казной, что Португалия процветала. Но в 1481 году король Альфонс V умер, а его преемник Жуан II был совсем другим человеком. Мелочный и подозрительный, он не любил евреев и охотно поверил доносу, обвинившему Абарбанеля в причастности к заговору против священной королевской особы. Его жизни грозила опасность, и он переселился в Испанию, где купил небольшое поместье в городке Сегура. Здесь, в тишине и покое, Абарбанель занялся изучением и комментированием Пятикнижия.
Весной 1484 года его пасторальной жизни пришел конец. Король Арагона и королева Кастилии вежливо, но настоятельно пригласили дона Ицхака Абарбанеля ко двору и поручили привести в порядок финансовые дела объединенного королевства, ибо государственная казна была почти пуста.
Благодаря своим способностям и неисчерпаемой энергии, Абарбанель довольно быстро выполнил поставленную перед ним задачу. Финансовая система Арагона и Кастилии была им налажена так хорошо, что католические короли сумели без особого напряжения довести до конца последний этап Реконкисты. Еврейская община Испании, возглавляемая доном Ицхаком Абарбанелем, процветала, и ничто не предвещало беды.
Вдруг в начале апреля 1492 года разнесся слух о том, что король и королева уступили настояниям Великого инквизитора Томаса Торквемады и вот-вот подпишут эдикт об изгнании евреев из Испании. Ицхак Абарбанель вначале даже не очень встревожился. Он пользовался кое-каким влиянием на обоих монархов и был уверен, что ему удастся добиться отмены этого губительного не только для евреев, но и для самой Испании решения.
Он настоял на том, чтобы Фердинанд и Изабелла приняли его и еще двух видных представителей еврейской общины.
– Мы вас слушаем, дон Ицхак, – сказала Изабелла.
– Ваши величества, – начал Абарбанель, – Господь даровал вам величайшую победу. Ваши враги повержены во прах. Вы находитесь на вершине могущества, и мы, ваши верные подданные, смиренно просим вас не умалять несправедливостью своего величия. Лишь могущество, слитое в единое целое со справедливостью, угодно Господу. Испания – наша родина. Веками она была домом для наших предков, мы испытываем к ней глубокую сердечную привязанность. Откажитесь же от вашего жестокого намерения, и я уверен, что Господь благословит вас. Что же касается нас, ваших верных подданных, то мы готовы собрать и передать вам сумму в тридцать тысяч дукатов, которые сейчас так необходимы королевству, завершившему долгую и трудную войну с маврами. Кроме того, мы обязуемся выплачивать двойной ежегодный налог в пользу государства.
Абарбанель замолчал. Молчали и католические монархи. Даже непреклонная в вопросах веры Изабелла заколебалась. Казна ведь действительно пустовала, а деньги были нужны позарез – ведь так много еще предстояло сделать!
У Фердинанда захватило дух от грандиозности предложенной суммы. Шутка ли, тридцать тысяч дукатов! Чтобы их получить, нужно всего лишь не подписывать документ, составленный Торквемадой. Только и делов.
– Вижу, что вы действительно наши верные подданные, – растроганно сказал Фердинанд. – Думаю, мы с вами можем заключить выгодное для всех соглашение.
Абарбанель облегченно вздохнул. Это была победа, но ведь судьбе, любящей крутые виражи, ничего не стоит превратить любую победу в поражение.
Оттолкнув дворецкого, в кабинет ворвался Торквемада. Одутловатое лицо его было искажено. Глаза сверкали. Он поднял распятие высоко над головой. Казалось, сам дьявол вселился в этого человека. Фердинанд и Изабелла с изумлением смотрели на Великого инквизитора.
– Что это значит, приор? – спросила Изабелла.
– Что значит? А то и значит, что ангелы на небесах проливают сейчас слезы над нашей горькой участью. И знаете почему? Да потому что Иуда продал Спасителя за тридцать серебреников, а вы, христианские монархи, хотите продать его за тридцать тысяч дукатов! О, Пресвятая Матерь Божья! Недостойны мы твоего покровительства. Ты подарила нам величайшую из побед, а мы, неблагодарные, надругались над святым именем Господним. Так отними же у нас все Твои дары и верни эту землю неверным, дабы глубоким раскаянием могли мы искупить смертный наш грех.
Торквемада швырнул распятие на стол и очень тихо, почти шепотом, произнес:
– Продайте и это и получите за изображенного здесь нашего распятого Спасителя еще несколько серебряных монет.
Не давая монархам опомниться, он выбежал из кабинета. Фердинанд и Изабелла смотрели на распятие. Глубоко верующие люди, они дрожали от страха. Ведь они только что едва не совершили предательство, за которое их неминуемо ждала бы расплата в загробной жизни.
Дон Ицхак Абарбанель стоял окаменев от горя. Он уже понял, что все потеряно, и его народу предстоит испить до конца чашу изгнания. Гнетущее молчание длилось долго. Наконец Изабелла произнесла, стараясь не смотреть на Абарбанеля:
– Приор прав. Эдикту будет дана законная сила. А теперь прошу, оставьте нас.
– Я думаю, – вмешался Фердинанд, – что эдикт об изгнании евреев не должен распространяться на дона Ицхака, оказавшего нашему королевству большие услуги. Не так ли, дорогая?
Изабелла молча кивнула.
– Благодарю вас, Ваши Величества, – холодно ответил Абарбанель, – но я предпочитаю разделить участь своего народа.
Хроника третья,
где рассказывается об Эскориале, неистовом монахе Лютере, императоре-часовщике и двух его сыновьях
Эскориал – грандиозный архитектурный комплекс, включающий монастырь с усыпальницей членов королевского габсбургского дома, а также дворец и резиденцию короля Испании Филиппа II, расположен в часе езды от Мадрида у подножия горного хребта Сьерра-де-Гвадарама. Его не случайно называют и «восьмым чудом света» и «архитектурным кошмаром». Эта удивительная симфония в камне может вызвать любое чувство, кроме равнодушия. Испанцы же говорят, что тот, кто побывал в Испании и не видел Эско-риала, тот ничего не видел.
Принято считать, что история Эскориала начинается 10 августа 1557 года, когда закованная в железо кавалерия Филиппа II разбила французские войска в битве у Сен-Кантена во Фландрии. Это случилось в день святого Лаврентия, мученика, особенно почитаемого испанским королем. Вот он и решил воздвигнуть по случаю славной победы монастырь и дворцовый комплекс в его честь.
Не только король Филипп, но и все испанцы выделяли этого святого из сонма других, ибо он происходил из города Оска (ныне Уэска) в Арагоне. Лаврентий был учеником римского епископа Сикста II, который рукоположил его в архидиаконы и сделал распорядителем всего церковного имущества. Во время гонений на христиан при императоре Валериане в 258 году Сикст был обезглавлен по приказанию римского префекта. У плахи его встретил Лаврентий и сказал, обливаясь слезами:
– Почто оставляешь своего архидиакона, отче? Возьми меня с собой, дабы стал я общником тебе в пролитии крови за Иисуса Христа.
– Не оставляю я тебя, сын мой, – ответил Сикст. – Я ведь старец и иду на легкую смерть. Тебе же через три дня предстоит мученическая кончина во славу Господа, но у тебя еще есть время достойно распорядиться вверенным тебе имуществом церкви.
В тот же день Лаврентия схватили, и префект потребовал от него передать в казну императора все сокровища епархии. Испросив три дня срока, Лаврентий раздал почти все церковное имущество бедным, после чего явился к префекту в сопровождении целой толпы сирых и убогих и сказал:
– Вот оно, подлинное наше сокровище, но вряд ли ты захочешь забрать его в императорскую казну.
– Ты, я вижу, шутник, – усмехнулся претор, – но плата за эту шутку будет очень велика. Я, как утверждаете вы, христиане, не могу причинить вреда твоей душе, зато от меня зависит, какой смертью умрет твое тело.
По его приказу Лаврентий был заживо изжарен на железной решетке. Под нее подложили горячие угли, и слуги претора рогатинами прижали к ней тело страдальца.
– Ну, что, – спросил претор, – чувство юмора покинуло тебя?
– Вот ты испек одну сторону моего тела, – ответил Лаврентий, – вели испечь и другую, чтобы ты мог его съесть.
Филиппу так нравилась эта история, что он велел сделать миниатюрную решетку и держал ее в виде украшения на своем рабочем столе. Манускрипт «Житие святого Лаврентия» в украшенном драгоценными камнями переплете был жемчужиной королевской библиотеки, уступавшей по богатству лишь ватиканскому книгохранилищу. Получивший блестящее образование, Филипп II собрал большую коллекцию бесценных рукописей и редких книг. В его библиотеке хранились произведения св. Августина, Альфонсо Мудрого, св. Терезы, а также огромное количество богато иллюстрированных арабских манускриптов по естествознанию, истории, картографии и точным наукам.
Филипп II был также коллекционером живописи. Благодаря его стараниям, в галереях дворца-монастыря собрано множество работ испанских и европейских художников. После смерти Филиппа II его наследники продолжили начатое королем дело, и постепенно стены дворца украсили картины Тициана, Ван Дейка, Риберы, Коэльо, Босха, Тинторетто и многих других. Сегодня коллекция Эскориала насчитывает свыше 1600 полотен. Ну, а святая святых Эскориала – это конечно же пантеон дома Габсбургов, пронизанный очарованием древности и мрачным величием.
Филипп был человеком холодным и угрюмым. Он никогда не улыбался, отличался меланхоличностью, глубокой религиозностью, слабым здоровьем и погруженностью в себя. В Эскориале он видел место, где мог бы отдохнуть от забот властителя самой могущественной державы мира. Он хотел, чтобы его окружали монахи, а не придворные. По его замыслу Эскориал должен был стать в первую очередь монастырем, а уже потом королевской резиденцией. Филипп говорил, что он построил «дворец для Бога и лачугу для короля». Этот монарх, не разрешавший никому составлять его биографию, в сущности, написал ее сам – в камне. Блеск и убожество империи, величие смерти и трагедия жизни, королевская одержимость верой, искусством и молитвой, – все это нашло свое выражение в Эскориале – каменной грезе благочестия короля Филиппа.
На самом же деле, замысел создания Эскориала принадлежал не Филиппу, а его отцу, императору Священной Римской империи Карлу V. Это он наказал сыну построить династический пантеон Габсбургов и объединить его с монастырем и дворцом, чтобы выразить в камне доктрину испанского абсолютизма.
– Я хочу, – сказал император своему сыну в одну из их редких встреч, – собрать под одной крышей останки всех королей и королев из нашего габсбургского дома с тем, чтобы они в семейном кругу покоились. Чтобы не приходилось мотаться по городам и весям всей Европы, дабы почтить их память. Если же я не успею осуществить этот замысел, то созданием нашей фамильной усыпальницы придется заняться тебе.
– Выполнение вашей отцовской воли – мой священный долг, – ответил Филипп.
После победы при Сент-Кантене он решил, что час настал, и послал двух архитекторов, двух ученых и двух монахов подыскать место для строительства монастыря-дворца. Король хотел, чтобы оно было не слишком жарким, не слишком холодным и не слишком далеким от Мадрида – новой столицы империи. После целого года поисков такое место было найдено – там, где ныне возвышается Эскориал.
* * *
Отец Филиппа император Карл V был сыном австрийского эрцгерцога Филиппа Красивого и испанской королевы Хуаны Безумной. По отцовской линии он был внуком императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга и Марии Бургундской, а по линии материнской – внуком королевской четы Фердинанда и Изабеллы, завершителей Реконкисты. Так причудливо стасовалась династическая колода, что юный Карл унаследовал огромные территории и стал повелителем величайшей державы мира. Он гордился тем, что в его владениях, распространяющихся на два полушария, никогда не заходит солнце.
Благодаря заморским колониям Испании Карл V был неимоверно богат. Из латиноамериканских копий в его казну шел неиссякаемый поток золота и серебра. Но и расходы на бесконечные изнурительные войны с внешними врагами и мятежными подданными были немалыми, так что император постоянно испытывал нужду в деньгах.
Управление огромной лоскутной империей было нелегкой задачей. Пути сообщения между ее разрозненными частями – Испанией, Италией, Австрией и Нидерландами – были долгими и ненадежными. Территории, объединенные под властью Карла, представляли собой конгломерат разных народов, каждый из которых сохранял свои законы, обычаи, привилегии и институции. Карлу приходилось решать беспрецедентные по сложности проблемы. Ему помогали прекрасное образование, космополитические взгляды и холодный ясный ум. Он мог бы стать неплохим правителем, если бы не одно фатальное обстоятельство. Этот человек умел побеждать, но так и не научился пользоваться плодами своих побед из-за странной меланхолии, овладевавшей им в самое неподходящее время.
Карл V был не только политиком, но и меценатом, тонким знатоком и ценителем живописи. Его любимцем был Тициан, мастерство которого он ценил столь высоко, что не желал позировать другим художникам. «Я могу создавать герцогов, князей и графов, но не в моих силах создать второго Тициана», – сказал как-то раз император своим придворным.
Однажды, когда Карл V позировал Тициану, тот уронил кисть. Карл поднял ее со словами: «Оказать услугу такому художнику почетно и для императора».
Тициан изобразил Карла V сидящим в кресле, без каких-либо атрибутов власти и державного величия, кроме ордена Золотого руна. Портрет дает представление об облике и характере этого человека. Карлу 48 лет. Он выглядит усталым и преждевременно состарившимся. На его лице печать отчужденности от окружающего мира, что объясняется, по-видимому, его высоким рангом. Но перед нами отнюдь не больной, уставший от жизни старик. Его немощь ничего не значит по сравнению с духовной силой, явно ощутимой в проницательном взгляде из-под приподнятых век. Худое бледное лицо хоть и выдает страдание, вызванное одолевающей его хронической болезнью, но одновременно выражает напряженную волю и твердость характера.
Во внешней политике Карл V придерживался имперской доктрины, предусматривающей объединение всего христианского мира против общего врага – Османской империи. Осуществлению этого проекта помешало противодействие Франции, также стремившейся играть доминантную роль в Европе, и возникновение в Германии очага Реформации.
Много энергии пришлось потратить Карлу на защиту Австрии от турецкой угрозы. В 1529 году Вена с трудом выдержала тяжелейшую турецкую осаду. Правда, австро-турецкая война 1532–1533 годов, шедшая с переменным успехом, завершилась победой Карла V, войскам которого удалось не только остановить продвижение турок, но даже присоединить к имперским владениям Западную Венгрию.
Но главного врага всех своих начинаний Карл V видел в Реформации. Ревностный католик, он воспринял начало лютеранской ереси, как личное несчастье.
* * *
Мартин Лютер – доктор богословия Виттенбергского университета, возник на политической арене 31 октября 1517 года, когда прибил молотком к церковной ограде свои 95 тезисов против индульгенций – папских свидетельств об отпущении грехов. Лютер утверждал, что грешники могут обрести спасение только в вере и раскаянии. Поэтому продажа Ватиканом индульгенций – это кощунственный обман и надругательство над верой простых людей.
Тезисы Лютера с такой быстротой распространились по всей Германии, словно сами ангелы были его гонцами. Более того, стук его молотка эхом отозвался по всей Европе. Этот виттенбергский монах с гениальной интуицией сразу уловил нерв всего дела. Именно индульгенции стали для немецкого народа символом гнета римской курии. Дань, наложенная на целую нацию иноземцами, ощущается особенно болезненно. Ватикан, нагло спекулируя на страхе божьей твари перед адскими муками, обменивал на звонкую монету ничего не значащие бумажки, якобы спасающие от мук ада тех, кто приобрел их у церкви.
Звонкие монеты, обманом добытые у невежественных немецких крестьян и бюргеров, уплывали в Рим, где без зазрения совести транжирились циничным и развращенным католическим духовенством. Глухое недовольство таким порядком вещей зрело в народе уже давно. Лютер своим решительным поступком всего лишь поджег запальный шнур.
Конечно, не только Лютер, но и Эразм Роттердамский и другие гуманисты обрушивались с язвительной критикой на махинации римской епархии. Но один лишь Лютер доказал, что решающее значение имеют не слова, а поступки.
Всего за два года он стал народным любимцем, символом Германии и трибуном национальных устремлений. Когда он заявлял в своих отточенных до блеска тезисах: «Папа не властен отпускать грехи» или «Папа не властен освобождать от наказания, кроме того, которое наложил сам», то эти простые, словно взятые со скрижалей слова, входили в сознание всей нации и отзывались землетрясением в Ватикане.
Сын рудокопа и крестьянки, Лютер был начисто лишен худосочной аристократической утонченности. Коренастый, ширококостный, переполненный так и прущей из него жизненной силой, он гордился тем, что «жрет, как богемец, и пьет, как немец». Этот человек не знал компромиссов, не умел говорить шепотом. Речь Лютера звучала, как набат, его язык, обогащенный невероятной образной силой, воплощал самые сокровенные устремления народных масс, придавая им высший накал страсти.
Человек отваги и действия, он не ведал сомнений, не признавал компромиссов. На кафедре – высокоученый доктор богословия, на амвоне – проповедник с чарующим голосом, в письменных трудах – воплощение высочайшей культуры, в семье – любящий муж и отец, Лютер, вступая в полемику, превращался в оборотня. На словесном ристалище он предпочитал орудовать не мечом утонченной диалектики, а дубиной и даже хватал навозные вилы, дабы забросать оппонента грязью вымысла и нечистотами клеветы.
Для него любой инакомыслящий – это исчадье ада и враг Христа.
А тучи над его головой сгущались. 3 января 1521 года папа Лев X отлучил Лютера от церкви. В ответ Лютер сжег папскую буллу на церковном дворе при массовом стечении народа.
Положение мятежного монаха стало бы отчаянным, если бы он был один. Все еще помнили судьбу Яна Гуса. Но Лютер уже не один. Сам того не сознавая, он со своими чисто духовными, как ему казалось, требованиями стал выразителем множества вполне земных интересов. Он уже не только таран, пробивающий дорогу национальному делу, но и важная фигура в сложной политической игре между папой, императором и немецкими князьями.
Ему покровительствовал сам курфюрст Саксонии Фридрих, правда, не спешивший афишировать своего благожелательного отношения к «неистовому монаху», принесшему такую славу его Виттенбергскому университету и всей Саксонии.
Фридрих обладал живым умом, и его не зря прозвали Мудрым. Однажды он посетил тюрьму в Виттенберге. Спросил у двадцати узников, почему они здесь. Девятнадцать стали божиться, что они жертвы лживых доносов и судебных ошибок. И только один сказал, что сидит за кражу. «Выпустите на волю этого человека, – распорядился Фридрих, – потому что он может оказать дурное влияние на честных людей, которые тут находятся».
Он пользовался среди германских князей большим авторитетом. Человек благочестивый и ревностно исполняющий церковные обряды, Фридрих Саксонский по всему миру собирал священные реликвии и святые мощи. То есть, по мнению Лютера, занимался делом вздорным, тешащим дьявола.
Фридрих же симпатизировал Лютеру и надеялся использовать эту сильную личность в своих сложных интригах. После отлучения Лютера он оставил ему кафедру и университет, хоть это и вызвало недовольство и папы, и императора.
Но как быть дальше? Император Карл V уже созвал рейхстаг в Вормсе, где Лютера ждала анафема, если он не отречется от своих еретических взглядов. Народные симпатии были, однако, на стороне Лютера, и Фридрих Саксонский, его покровитель, понимал, что своей популярностью он во многом обязан опальному монаху.
И Фридрих решился. Он заявил папскому легату, что Лютера необходимо вызвать на сейм в Вормсе, дабы он мог публично изложить свои взгляды перед справедливыми и непредвзятыми судьями. С этим же требованием курфюрст Саксонии обратился к Карлу V, и император не только согласился, но и сопроводил приглашение Лютера на форум в Вормсе грамотой, гарантирующей безопасность.
«Ну, что ж, – сказал Лютер, узнав эту новость, – если Бог с нами, то мы не должны бояться тех, кто против нас. Я появлюсь на рейхстаге, даже если там соберется столько дьяволов, сколько черепиц можно насчитать на крыше моего дома».
Пробил час Вормса. В празднично разукрашенный город въезжает император. Ему всего двадцать один год. Его лицо отличается чрезмерной бледностью, и весь он производит впечатление элегантной хрупкости. Он медленно едет на белом коне в сопровождении легатов, епископов, курфюрстов, цвета рыцарства. Его окружают ландскнехты, секретари и слуги в пламенно-ярких одеждах. Вокруг реют знамена, трепещут на ветру штандарты, бурлит людской водоворот.
А через несколько дней в город въезжает двухколесная повозка с одиноким монахом, уже отлученным от церкви и защищенным от костра одной лишь бумагой с подписью императора, лежащей у него в кармане. Но ликующие толпы вновь заполняют городские улицы. Лютера встречают так, как встречали императора.
Карла V избрали вождем Германии князья, а Лютера – народ. 17 апреля 1521 года в 4 часа пополудни Лютер появляется на заседании рейхстага. Он бледен. На лице тревожное выражение. Этот неукротимый человек испытывает сейчас минуту слабости, ибо нет никакой уверенности в том, что ему удастся вернуться в родной Виттенберг живым.
Старый воин Георг Флундеберг, командир личной гвардии Фридриха Саксонского, кладет ему на плечо тяжелую руку и говорит: «Смелое дело ты задумал, доктор. Так держись же». Лютер отвечает ему слабой улыбкой.
Допрашивает Лютера архиепископ Трирский. Если каждый человек похож на какое-то животное, то этот напоминает лисицу. Он указывает на лежащие на столе книги и вкрадчиво спрашивает:
– Это ваши сочинения?
– Да, – отвечает Лютер.
– Но, может быть, вы уже не разделяете тех еретических мыслей, которые в них содержатся? Помните, что церковь вправе не только карать, но и миловать.