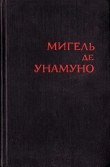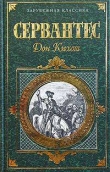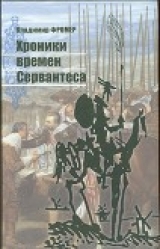
Текст книги "Хроники времен Сервантеса"
Автор книги: Владимир Фромер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)
Особо следует отметить наставления, которые Дон Кихот дает Санчо Пансе, отправлявшемуся в качестве губернатора на остров Баратарию: «Гордись, Санчо, своим скромным происхождением и не стыдись говорить, что ты – сын крестьянина. Если ты сам не устыдишься его, тогда никто не пристыдит тебя им. Гордись лучше тем, что ты – незнатный праведник, чем тем, что знатный грешник.
Если ты изберешь добродетель своим руководителем и постановишь всю славу свою в добрых делах, тогда тебе нечего будет завидовать людям, считающим принцев и других знатных особ своими предками. Кровь наследуется, а добродетель приобретается и ценится так высоко, как не может цениться кровь.
Не отдавай своего дела на суд другому, что так любят невежды, претендующие на тонкость и проницательность.
Пусть слезы бедняка найдут в сердце твоем больше сострадания, но не справедливости, чем дары богатого.
Старайся открыть во всем истину: старайся прозреть ее сквозь обещания и дары богатых и сквозь рубище и воздыхания бедных.
И когда правосудие потребует жертвы, не обрушивай на главу преступника всей кары сурового закона; судия неумолимый не вознесется над судьею сострадательным.
Но, смягчая закон, смягчай его под тяжестью сострадания, но не подарков.
И если станешь ты разбирать дело, в котором замешан враг твой, забудь в ту минуту личную вражду и помни только правду. Да никогда не ослепит тебя личная страсть в деле, касающемся другого.
Не оскорбляй словами того, кого ты вынужден будешь наказать делом: человека этого и без того будет ожидать наказание, к чему же усиливать его неприятными словами.
Когда придется тебе судить виновного, смотри на него, на несчастного слабого человека, как на раба нашей греховной натуры. И оставаясь справедливым к противной стороне, яви, насколько это будет зависеть от тебя, милосердие к виновному, потому что, хотя богоподобные свойства наши все равны, тем не менее милосердие сияет в наших глазах ярче справедливости».
Как видим, эти наставления представляют собой не только эталон мудрости, но и образец высокой гуманности. Чтобы оценить их по достоинству, следует вспомнить, что Сервантес писал это в век торжества инквизиции, когда слово «милосердие» вызывало лишь презрительные усмешки.
С каждой последующей главой второго тома все ярче проступают прекрасные черты его героев, а сам Сервантес все больше привязывается к дивным творениям своей фантазии. Он живет их жизнью и относится к ним с такой серьезностью и участием, что это невольно передается читателю, который вслед за автором начинает воспринимать их как реальных личностей.
Следует отметить еще одну удивительную особенность великого романа. В «Дон Кихоте» текст трансформирует реальность. Уже в первом томе реальность постепенно превращается в контекст рыцарских романов, в котором Дон Кихот действительно является странствующим рыцарем. Окружающие Дон Кихота люди – священник, цирюльник, бакалавр, граф и графиня, также начитавшиеся рыцарских романов, не щадя усилий укрепляют Дон Кихота в убежденности, что он странствующий рыцарь, создают вокруг него антураж рыцарской эпохи. Дело в том, что эти персонажи, желая хитростью избавить его от безумия, прибегают к безумным способам, которые лишь укрепляют веру Дон Кихота в реальность мира странствующего рыцарства.
Во втором томе еще ярче проступает влияние текста на роман. Дон Кихот действует уже в новой реальности, где существуют не только романы о рыцарских подвигах, но и роман о нем самом (первый том книги), успевший оказать сильное влияние на читателей. Далеко не все из них восприняли Дон Кихота как свихнувшегося чудака. Когда Дон Кихот и Санчо Панса встречаются с двумя девушками в одеждах пастушек, одна из них произносит восторженную речь: «Ты знаешь, кто этот сеньор? Так вот знай же, что это храбрейший из всех храбрецов, самый пылкий из влюбленных и самый любезный из людей, если только не лжет и не обманывает нас вышедшая в свет история его подвигов, которую я читала. Я могу ручаться, что спутник его – это некий Санчо Панса, его оруженосец, с шутками которого ничьи другие не могут идти в сравнение» Другая пастушка говорит, что Дульсинею Тобосскую уже вся Испания признала первой красавицей.
И еще одна особенность «Дон Кихота». Исследователи давно обратили внимание на многочисленные цитаты из Библии, щедро рассыпанные по всему тексту романа. Их более пятидесяти. И что самое удивительное, в «Дон Кихоте» имеется почти детально воспроизведенное заимствование из Талмуда. Обратимся к главе XLV второго тома, где рассказывается о том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять:
Засим к губернатору явились два старика; одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь:
– Сеньор! Я дал взаймы этому человеку десять золотых – я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец, вижу, что он и не собирается вернуть долг, ну и стал ему напоминать, а он мало того что не возвращает, но еще и отпирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо взаймы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге, вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прощу немедленно вот здесь, перед лицом Господа Бога.
– Что ты на это скажешь, старик с посохом? – спросил Санчо.
Старик же ему ответил так:
– Сеньор! Я признаю, что он мне дал взаймы эту сумму – опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг.
Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла и объявил, что ему точно ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он передал их заимодавцу из рук в руки. Заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг.
Тогда губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он у него их не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу. Тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется, а истец покорно на это смотрит, приставив указательный палец к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели. Санчо же, увидев его, сказал:
– Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.
– С великим удовольствием, – сказал старик, – возьмите, сеньор.
И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:
– Ступай с Богом, тебе заплачено.
– Как так, сеньор? – спросил старик. – Разве эта палка стоит десять золотых?
– Стоит, – отвечал губернатор, – а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять королевством или нет.
И тут он велел на глазах у всех сломать посох. Сказано – сделано, а внутри оказалось десять золотых. Все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона. Санчо спросили, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Он ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох истцу, а поклявшись, что воистину и взаправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри этой палки. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто, как Бог…
А вот как эта же история, известная как «посох Рабы», изложена в Вавилонском Талмуде. Рав Аба бар Нахмани (Раба), возглавлявший иешиву в Пумбедите в Персии в начале IV века новой эры, считается одним из создателей Талмуда. Ученики называли его «колебателем гор», настолько острым и неожиданным был его подход к решению любой проблемы. И вот что однажды с ним приключилось: «Заимодавец предстал перед Рабой с просьбой о помощи. Заимодавец сказал должнику: „Заплати мне!“ Должник ответил: „Я заплатил ему!“ Раба сказал должнику: „Если это так, то пойди и поклянись, что ты уже заплатил ему“. Он пошел и принес посох, в который засунул деньги. Опираясь на него, появился в суде и сказал заимодавцу: „Подержи посох в своей руке“. Потом взял свиток Торы и поклялся, что он выплатил заимодавцу весь долг. В гневе заимодавец сломал посох, и монеты посыпались на землю. Так оказалось, что должник говорил под присягой правду».
Несмотря на ряд различий, идентичность этих историй очевидна. Возникает вопрос: не связан ли интерес Сервантеса к Библии и Талмуду с его происхождением от марранов по материнской линии? Большинство исследователей это категорически отрицают, ссылаясь на то, что еврейская тема почти отсутствует в творчестве писателя. Появляется она лишь на закате жизни Сервантеса, в последних его произведениях. Вот какой монолог автор вкладывает в уста одного из героев пьесы «Великая султанша госпожа Каталина де Овьедо»: «О всеразрушающая нация! О бесчестные! О противная раса, до какой низости довели вас ваши пустые надежды, ваше безумие и несравненное упрямство. Вы, вызывающие жестокость и закоснелость вопреки доводам справедливости и разума».
Это вроде бы явное свидетельство враждебного отношения Сервантеса к евреям. Но мы ведь знаем, что демонстративный антисемитизм нельзя расценивать как доказательство отсутствия в жилах еврейской крови. Ненависть к своему происхождению и, как следствие, к своему племени среди евреев, в особенности среди крещеных евреев, отнюдь не редкость на протяжении всей еврейской истории. Возможно, что в конце жизни Сервантесу, добившемуся с огромным трудом всенародной славы, захотелось полностью идентифицировать себя с испанским национальным духом, в котором враждебное отношение к гонимому племени занимает далеко не последнее место.
* * *
В 1614 году литературные враги Сервантеса нанесли хорошо рассчитанный удар, поразивший его в самое сердце.
В Мадриде вышло в свет сочинение под названием: «Вторая часть изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского, содержащая рассказ о его третьем выезде и пятую книгу его приключений». При беглом взгляде эту книгу можно было принять за сочинение Сервантеса, если бы внизу не значилось мелким шрифтом: «Сочинено лиценциатом Алонсо Фернандес де Авеллянеда, уроженцем города Тордесильяс. Напечатано Филиппе Роберто. 1614 год».
Сервантес был потрясен. С изумлением и гневом смотрел он на ложного «Дон Кихота» и чувствовал себя как мать, у которой украли ребенка.
Кто же он такой, Алонсо Фернандес де Авеллянеда? Откуда взялся этот подлый и коварный враг? Его имя Сервантесу ничего не говорило. А между тем он был хорошо осведомлен не только о многих обстоятельствах жизни Сервантеса, но даже о его литературных планах. Пролог к ложному «Дон Кихоту» являет собой целый ряд грубых оскорблений и недостойных намеков на старость Сервантеса, на его бедность и увечье. Авеллянеда идет так далеко, что уподобляет Сервантеса разрушенному замку Сан-Сервантес.
Что заставило автора этой фальшивки прибегнуть к такому средству? Желание разбогатеть за чужой счет? Нет, не только. Слишком уж пристрастен насыщенный злобой тон повествования. Личная обида? Да, скорее всего именно это. К тому же Авеллянеда сам признал, что одна из причин написания книги – оскорбление, которое ему якобы нанес Сервантес. Как ни напрягает Сервантес память, она ничего ему не подсказывает. Впрочем, Авеллянеда дал ему еще одну нить. Оказалось, что он мстит не только за свою, но и за чужую обиду. Сервантес, видите ли, обидел человека, «кого справедливо превозносят самые отдаленные народы и кому столь многим обязана наша нация»… Ясно, что Авеллянеда имеет в виду Лопе де Вега. Значит, автора фальшивки следует искать в его окружении.
Но хуже и больнее всего то, что Авеллянеда надругался над Рыцарем печального образа, превратив его в злобную и пошлую карикатуру. Его Дон Кихот – бессовестный болтун, жалкий хвастунишка. Он только то и делает, что произносит напыщенные речи, занимается мелкими дрязгами, а однажды затевает нелепую ссору с актерами, которая заканчивается для него очередным позором. Актеры издеваются над ним, повергают его на землю и в качестве наказания разыгрывают перед ним пьесу Лопе де Вега.
Дон Кихот Авеллянеды – это завистливый, сварливый и жалкий дурак, не имеющий ничего общего с умным и благородным героем Сервантеса. В конце фальшивого романа его сажают в дом умалишенных. Но и это кажется недостаточным для тайного врага Сервантеса. Полагая, что еще мало унизил его, он заставляет своего Дон Кихота выздороветь и пойти на улицу с протянутой рукой.
Сервантес узнал о наглом покушении на своего «Дон Кихота», когда уже весьма значительно продвинулся в написании второго тома. Он работал в это время над 59-й главой и, начиная с нее, до самого конца романа не переставал порицать и обличать Авеллянеду.
Мы же опять получили возможность убедится в том, как текст влияет на реальность. Влияние ложного «Дон Кихота» на подлинного не подлежит сомнению. Начиная с 59-й главы книги Сервантес не упускает своего врага из виду и строит повествование как полемику с ним. Он усиливает свои идейные позиции. Точно обозначает, чего хочет. Рассказывает о своих упованиях, раздумьях и надеждах. Еще глубже раскрывает трогательную человечность своих любимых героев. Более того, Сервантес исцеляет своего героя от безумия и решается даже на такой нелегкий для себя шаг, как смерть Дон Кихота. Трагический финал романа должен оградить героя от новых посягательств литературных негодяев. В ноябре 1615 года подлинный второй том романа вышел в свет.
И все же кто же был автором ложного «Дон Кихота»? Чтобы выяснить это, Сервантес встретился с Лопе де Вега. Он пришел в театр, где шла репетиция новой его пьесы. Мэтр выглядел гораздо моложе своих пятидесяти двух лет. Смуглое лицо Лопе с медальным профилем показалось Сервантесу нервно напряженным, чему способствовала быстрота его речи и движений. Как и в былые времена, Сервантес восхитился его окрыленным вдохновением.
«Нет, – подумал Сервантес, – не может быть, чтобы такой человек был причастен к подобной мерзости». Лопе де Вега уже заметил его своими бархатно-темными глазами и любезно приветствовал.
– Рад вас видеть, дон Мигель, – сказал он. – Чем могу быть полезен?
Его взгляд упал на книгу Авеллянеде, которую Сервантес держал в руках.
– Неужели, дон Мигель, вы думаете, что я имею какое-то отношение к этой гнусности? – спросил он холодно.
– Нет, – сказал Сервантес, – я так не считаю, но, может быть, вам известно что-нибудь о том, кто этот негодяй?
– Ходят разные слухи, – усмехнулся Лопе. – Я слышал, что автором является некий монах Хуан Бласко. Впрочем, это всего лишь предположение.
– Вонючий, как я сразу не догадался, – произнес Сервантес.
Он сразу успокоился. Этот подонок был настолько мерзок и жалок, что на него нельзя было сердиться. Не сердятся ведь на крыс или гадюк.
* * *
Смерть Дон Кихота навевает на душу щемящее чувство печали и умиления. В последние мгновения земного существования все величие этого удивительного человека становится доступным каждому. Когда Санчо Панса, желая утешить своего бывшего господина, говорит ему, что скоро они снова отправятся на поиски рыцарских приключений, умирающий отвечает: «Нет, все это навсегда прошло, и я прошу у всех прощения: я уже не Дон Кихот, я снова Алонсо Добрый, как меня некогда называли». Да, добрый. И это единственно верное слово, найденное в смертный час, потрясает читателя…
Манча… Бесконечная равнина с чахлыми растениями. Порывистый ветер и огромные крылья мельниц, маячащих на горизонте. Необыкновенно мягкие сумерки и влажная теплота земли. Здесь нашел последнее упокоение великий мечтатель Алонсо Добрый. В последний год жизни сюда часто наезжал из Мадрида старый и больной писатель. Здесь, в Эскивиасе, в низенькой ветхой хате на убогой деревенской улице, где по ночам тоскливо и протяжно воет бесприютный ветер, он написал свой второй и последний роман «Странствия Персилеса и Сихисмунды», который закончил печальными словами: «Простите, радости, простите, забавы. Простите, веселые друзья. Я умираю с желанием увидеть вас счастливыми в мире ином».
Сервантес полагал, что этому роману суждено стать либо самой худшей, либо самой лучшей книгой на испанском языке. Роман этот, вышедший уже после смерти писателя, не стал ни тем ни другим. Основная сюжетная линия его связана с нелегкой судьбой Персилеса, сына короля Исландии, и Сихисмунды, дочери фрисландского короля. Этот роман, создававшийся на протяжении многих лет, отличается неровностью стиля, но одновременно удивительной чистотой мысли и чувства.
* * *
В канун весны 1616 года, за два месяца до смерти, направляясь в Эскивиас, Сервантес остановился пообедать в придорожной корчме. Было еще холодно. Топился камин, и жаркое пламя трепетало над углями с тихим потрескиванием.
За соседним столиком сидел черноволосый молодой человек в сером плаще с живыми темными глазами и бледным лицом. «Студент, наверное», – подумал Сервантес. Человек этот встал и подошел к его столику.
– Вы ведь дон Мигель де Сервантес? – спросил он. – Автор «Дон Кихота»?
– Да, – односложно ответил Сервантес, не терпевший случайных знакомств.
Но «студент» бесцеремонно уселся напротив и сказал:
– Вы хоть понимаете, что написали книгу на все времена? Поразительна эпическая форма мировой иронии в вашем романе. Я чуть не заплакал над эпизодом, когда Дон Кихота топчет стадо свиней. А на что еще могут рассчитывать благородные рыцари в нашем грубом мире?
– Кто вы такой? – спросил Сервантес, тронутый искренностью этого человека.
– Простите, что сразу не представился. Меня зовут Уриэль Дакоста.
– Вы из «новых христиан»?
– Ну, да. Но не таких уж и новых. Мои предки перешли в католичество свыше ста лет назад. А вы знаете, что особенно потрясает в вашем романе? Идея о том, что общество объединяет присущий всем людям закон любви к ближнему. Он существует независимо от религиозных постулатов и проводит различие между добром и злом.
Сервантес нахмурился. Это уже граничило с ересью.
– Религия включает в себя все, – в том числе и нравственные законы, – сказал он.
– Об этом можно поспорить, – улыбнулся Дакоста.
Сервантес, почувствовавший вдруг симпатию к своему собеседнику, неожиданно для себя произнес:
– А я вот все чаще думаю о близкой смерти. Потому, наверно, что серьезно болен.
Уриэль Дакоста посмотрел на него внимательно и сочувственно:
– Я немного изучал медицину, дон Мигель. Ваша болезнь именуется водянкой, и ее не излечить всем водам океана, даже если бы вы стали принимать их по капле. Вы должны срочно привести в порядок свои дела, ибо конец может наступить в любое время…
Сервантес и сам это знал. Встречу с этим странным человеком он описал в прологе к роману «Странствия Персилеса и Сихисмунды», окрашенном легкой печалью.
Сервантес скончался в апреле 1616 года на руках своей жены Каталины. Похоронили его во францисканском монастыре Св. Троицы. В 1633 году монастырь был покинут монахами, и могила Сервантеса затерялась на долгие годы.
Но к четырехсотой годовщине смерти писателя поиски места его упокоения активизировались. При помощи проникающего глубоко в землю радара удалось обнаружить в подземной нише на заброшенном монастырском кладбище гроб с инициалами «MS». Находящиеся в нем останки опознали без проблем по искалеченной в битве при Лепанто левой руке.
Сервантес умер по странному совпадению не только в один год, но и в один день с Шекспиром. Поэтому 1616 год, когда человечество потеряло двух гениев такого масштаба, считается завершением целой эпохи и рубежом перехода европейской культуры от Средневековья к Возрождению.