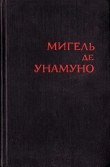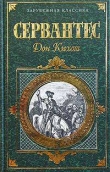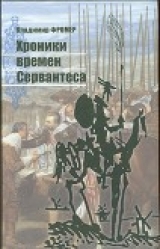
Текст книги "Хроники времен Сервантеса"
Автор книги: Владимир Фромер
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
Хроника семнадцатая,
в которой рассказывается о переезде семьи Сервантеса в Вальядолид и об ошеломляющем успехе первого тома «Дон Кихота»
Пришла весна. Деревья в Вальядолиде и окрестностях покрылись зелеными почками, дожди прекратились, и пастухи начали выгонять в поле стада. Сервантес каждое утро после завтрака отправлялся в часовую прогулку по городу. Доходил до королевского дворца и возвращался обратно, наслаждаясь звонким весенним воздухом. Он давно устал от скитальческой жизни, полной тревог, стремлений и борьбы. Уже появились признаки наступающей старости. Все чаще давали о себе знать старые раны. Тем не менее он по-прежнему был устремлен в будущее и не сомневался, что займет причитающееся ему по праву место на литературном Олимпе.
Город, несмотря на то что в нем обосновался королевский двор, поражал грязью и запущенностью. Квартал, куда судьба загнала Сервантеса, добросовестно поддерживал свою худую славу. Вот как описывает жилище Сервантеса в новой испанской столице один из его лучших биографов Эмиль Шаль: «В Вальядолиде можно видеть маленький, низенький, невзрачный домик, затерянный в предместье среди постоялых дворов у глубокого оврага, на дне которого когда-то протекал ручей, называемый Эгева. Здесь в 1603 году поселился пятидесятисемилетний Сервантес. С волнением, которое передать не в силах, я посетил это жилище на выезде из города. У входа в него нет ни камня, ни надписи. Ветхая лестница ведет к двум скромным комнатам, где жил Сервантес: одна из них, без сомнения служившая ему спальней, представляет собой квадратное помещение с низким потолком и выступающими наружу стропилами. Другая комната – нечто вроде темной кухни – выходит окнами на крыши соседних пристроек. В ней сохранился еще cantarelo тех времен, то есть камень с круглыми отверстиями, в которые ставились кувшины с водой (cantaros)».
При Сервантесе жили его жена Каталина, дочь Изабелла, которой было уже двадцать пять лет, сестра Андреа, племянница Констанца и дальняя родственница Магдалена, а кроме того, еще и служанка. Где они все помещались? Как бы то ни было, работали все сообща. Женщины открыли маленькую швейную мастерскую и добывали средства к существованию, вышивая придворные костюмы.
Иногда случались выгодные заказы. Вернувшийся к королевскому двору из Алжира маркиз Вильяфранк поручил семье Сервантеса, с которой был знаком, шить ему парадный мундир. Но такое везение бывало редко. Сам Сервантес вел счета семейной швейной мастерской, выполнял поручения какого-нибудь магната и не чуждался никакой работы. Тем не менее семья с трудом сводила концы с концами. По вечерам, когда женщины вышивали, склонившись над кусками материи, Сервантес дописывал свой роман. Вся его жизнь была заключена теперь в этой книге. Днем он занимался разными делами, а вечером, поднимаясь по шатким ступеням в свою жалкую комнату, чтобы приступить к работе над текстом, каждый раз волновался так, словно спешил на первое свидание.
Его труд близился к концу: осталось только написать пролог. Сервантес сделал это быстро, в один присест, но шлифовал его долго и тщательно, стараясь обойти цензурные рогатки и донести до читателя свои сокровенные мысли. Он не мог прямо сказать все, что думал о своем времени, ибо прекрасно знал, что такое инквизиция: малейшая оплошность – и всему конец. Но он ясно дал понять, что выступает против литературы, культивируемой инквизицией и придворной камарильей, – фальшивой литературы, воспевающей фальшивые ценности.
Но вот первая часть «Дон Кихота» завершена, и начались проблемы. Где книгу издать? Где раздобыть на это средства? Сервантес пошел проторенным путем. В его время писатели обычно обзаводились покровителями, и он сделал то же самое. Его выбор остановился на герцоге Бехарском, потому, вероятно, что герцог был знатен и богат. Правда, особым умом он не отличался. Поэтов и вообще литераторов не очень жаловал. В жилах герцога текла кровь одного из знатнейших родов Испании, но у него была внешность кабатчика. Это был толстый, смуглолицый, начинающий лысеть человек с заметным брюшком и косматыми бровями. Подобно многим знатным грандам, он был честолюбив и перед всеми задирал свой нос. Уж не уподобился ли Сервантес своему герою, принявшему постоялый двор за зачарованный замок, когда он писал герцогу: «Я направляю ее (книгу) вашему превосходительству, потому что вы не покровительствуете вещам, написанным в угоду толпе».
Герцог Бехарский отнюдь не пришел в восторг от оказанной ему чести, но поручил своему секретарю разузнать поподробней, кто же он такой этот Сервантес. Секретарь выполнил поручение и доложил, что автор – бедняк, сатирик, сочинитель комических пьес и фарсов. И герцог решил, что высокий сан не позволяет ему принять посвящение от такого человека. Но у него была одна слабость. Он души не чаял в своей молодой, обаятельной и красивой жене – женщине экзальтированной и порывистой, с характером мягким и легким. Герцогине стало жаль бедного литератора, и она попросила мужа дать ему шанс. Супруг не мог ей отказать и разрешил Сервантесу прочесть в его салоне одну главу из книги. Чтение состоялось в большой комнате, обшитой сосновыми панелями. Несколько десятков свечей в двух люстрах заливали ее ярким светом. Здесь собралась высшая знать. Дамы были в нарядных платьях. Мужчины в расшитых золотом и серебром костюмах.
Сервантес прочел главу о сражении Дон Кихота с ветряными мельницами. Восторг знатной публики был таким же бурным, как и тогда в тюрьме. Благодаря столь ошеломляющему успеху все устроилось наилучшим образом. Герцог милостиво согласился принять посвящение, не подозревая, что тем самым он обессмертил свое имя.
В 1605 году первая часть романа вышла в свет в Мадриде. Издание книги взял на себя книготорговец Франсиско де Роблес. По всей вероятности не слишком веря в успех романа, де Роблес не вложил в издание больших средств. Великий роман явился миру на бумаге весьма невысокого качества, набранный старым сбитым шрифтом, со множеством типографских ошибок и опечаток. До наших дней дошло только восемь экземпляров этого первого издания.
* * *
Сервантес брел по улицам, прижимая к груди книгу, еще пахнувшую типографской краской. Шел наугад, без цели, и очутился у старого собора, напоминающего дряхлого, но мудрого и приветливого старика. Резные позеленевшие от старости двери были гостеприимно распахнуты.
Сервантес вошел внутрь и ощутил приятный запах ладана. Умиротворяющий ровный свет лился из мозаичных окон. Людей было немного. Они молились, преклонив колени. Тихо шевелились их губы, и слышен был только непрерывный таинственный шепот. На улице пылало солнце и томила жара, но здесь было прохладно. В каждом углу собора находились исповедальни, где можно было получить отпущение грехов. У одной из них на молитвенной скамеечке сидела дама, желавшая освободиться от бремени грехов. Лицо ее было скрыто под черной вуалью, монах, которому она исповедовалась, был невидим из-за перегородки, на которую дама положила свою руку.
Сервантес залюбовался перламутровой белизной этой дивной ручки с голубоватыми прожилками и длинными изящными пальцами. Было в ней что-то невинное и трогательно-нежное. Этой ручке не в чем было каяться, и она спокойно ждала, пока ее владелица закончит исповедь. Но дело затянулось. Видно, у дамы скопилось немало грехов. Сервантес вздохнул и вышел, мысленно запечатлев жаркий поцелуй на прелестной ручке. И в это мгновение ручка дрогнула, дама повернула к нему свою голову, и Сервантес увидел сияющие глаза. «Это хорошее предзнаменование, – подумал он, – мою книгу ждет успех».
На сей раз Сервантес не ошибся. Это был не просто успех, а вихрь, сметавший его роман с книжных прилавков. Книга оказалась такой восхитительно забавной, что общий взрыв хохота встретил Рыцаря печального образа, въехавшего в мировую литературу на своей тощей кляче. Вскоре роман Сервантеса читала уже вся Европа. В одном только 1605 году он был переиздан пять раз.
Сервантес, правда, не получил от этого большой выгоды, ибо по своей непрактичности подписал кабальный договор, по которому все права на издание книги в ближайшее десятилетие переходили к де Роблесу. Правда, единовременно автору была выплачена довольно значительная сумма, но освободиться из тисков нужды ему так и не удалось.
А роман зажил своей отдельной от автора жизнью. Рассказывают, что король Филипп III, стоя однажды на балконе своего дворца, увидел на берегу реки Мансанарес студента, всецело погруженного в чтение какой-то книги. Время от времени студент прерывал чтение из-за приступа неудержимого смеха. «Держу пари, – сказал король, – что этот парень читает „Дон Кихота“». Никто из придворных пари не принял. Всем было ясно, что король прав.
В дни, когда роман начал триумфальное шествие по Испании и миру, Сервантес получил письмо от своего старого друга художника Гвидо Пахеко, которое не избалованного похвалами Сервантеса и тронуло, и обрадовало: «Дорогой дон Мигель! С огромным удовольствием прочитал твой роман. Если я хоть что-нибудь смыслю в литературе, то ты создал вещь на все времена. Твоя книга будет жить, пока существует наш великий испанский язык. Суть в том, что удовольствие, которое я испытал, читая „Дон Кихота“, доступно любому читателю. Любому – и это главное. Меланхолику и весельчаку, худому и толстому, протестанту и католику, прагматику и мечтателю. Это потому, что ты, Мигель, сострадаешь всем людям, кем бы они ни были. Сострадание – вот что такое твой Дон Кихот. Мы существуем в бесконечности. Реальность нашей жизни – это поляризация бесконечного на одном из бесконечных его полюсов. Твоя книга предоставляет равные возможности для всех точек зрения, основа которых воображение. Весь мир – это огромное познавательное зрелище. Твоя книга учит понимать его, помогает открывать новые перспективы, каждая из которых обладает ценностью почти абсолютной. В этом и заключается твое сострадание с изрядной дозой мудрой иронии. Жизнь в твоем романе показана как преображение реальности, как игра. Именно в этом я вижу глубочайший смысл „Дон Кихота“, единственной книги, которую будут читать, когда все остальные поглотит забвение.
Особенно же мне хочется выделить иронический параллелизм твоих персонажей. Каждая черточка в характере Дон Кихота соответствует противоположной, но все же родственной черточке Санчо Пансы. Рыцарь и его оруженосец разительно противоположны как в мыслях, так и в языке. Добряк Санчо говорит языком отрывистым и грубоватым, а его господин пользуется словарем дворянского сословия. В каждой фразе Рыцаря печального образа чувствуется знатный идальго. Когда говорит Дон Кихот, мы представляем его восседающим на высоком коне. Когда же говорит Санчо Панса, то мы видим его сидящим на своем низеньком ослике. Даже между Росинантом и осликом существует та же незримая связь, что между оруженосцем и его рыцарем. Ну, вот пожалуй и все, что я хотел сказать тебе по поводу твоей книги. Всегда твой Гвидо».
* * *
Казалось, что Сервантес поймал наконец жар-птицу за хвост, но это была лишь очередная химера. «Дон Кихота» читала и перечитывала вся Испания, когда в дом его автора ворвалось несчастье.
27 июля 1605 года Вальядолид шумно отмечал крестины наследника престола. Гремела музыка, в воздухе взрывались праздничные шутихи. Испанцы обожают праздники, когда можно, ничем не рискуя, расслабиться по полной программе. Сервантес, и в молодые годы не любивший коллективного веселья, работал у себя в комнате. Взрывы смеха, музыка, фейерверки мешали сосредоточиться, и он лег спать рано. Проснулся оттого, что за окном залились лаем сторожевые псы. Звучали какие-то гневные голоса. Сервантес встал, оделся и вышел на улицу. Праздничные гуляния уже закончились. Огромный полумесяц покачивался в небе, как фелука. Прямо напротив дома находился небольшой сквер. Оттуда доносился звон стали. «Дуэль», – подумал Сервантес. Он подошел совсем близко, но дуэлянты его не заметили. Опытным взглядом Сервантес сразу увидел, что один из дуэлянтов намного лучше владеет шпагой. Он атаковал быстро и легко. Вот он сделал выпад в терции и точно рассчитанным движением вонзил шпагу в грудь противника. Тот глухо вскрикнул и медленно опустился на землю. Победитель не стал терять времени и скрылся в темноте.
Сервантес склонился над телом. Несчастный был еще жив. На губах его пузырилась кровь.
– Я защищал честь жены, – прошептал он и потерял сознание.
– Он жив? – спросила прибежавшая на шум Каталина.
– Да. Надо внести его в дом. Возможно, ему еще можно помочь.
– Да ты что, Мигель? Закон запрещает вносить в дом раненых и убитых на улице. Они должны оставаться на месте до прихода служителей закона.
– Делай, что я говорю.
Он взял раненого за плечи, Каталина за ноги, и они внесли его в квартиру Осмотрев рану, Сервантес понял, что она смертельна. К утру незнакомец скончался, так и не придя в сознание. Лишь после этого Сервантес уведомил о случившемся муниципальные власти. Сотрудники префектуры во главе с сержантом появились быстро. Сержант, человек с лунообразным лицом и большим носом, спросил тоном, не предвещающим ничего хорошего:
– Кто тут хозяин?
– Ну, я, – сказал Сервантес. – Что вам угодно, сержант?
– Мне угодно сказать, что я должен арестовать вас и вашу супругу за нарушение закона. Вы разве не знаете, что нельзя вносить в дом тех, кто убит или ранен на улице?
– Я этого не знал.
– Незнание не является оправданием.
– По-вашему, было бы лучше, если бы мы оставили его умирать в сквере, как собаку? – Сервантесу становилось уже муторно на душе от этого разговора.
– Закон есть закон.
Так Сервантес и его жена оказались в тюрьме. Каталина – впервые в жизни. Сервантес – в который уже раз. Началось долгое дознание. Испанский бюрократический аппарат славился своей медлительностью, и сидеть бы супругам бог весть сколько времени, если бы не одно обстоятельство. Убитый Гаспаро де Эспелето оказался членом знатной и влиятельной семьи. Глава семейного клана придворный гранд Мануэль де Эспелето, узнав, как было дело, добился их освобождения.
* * *
В начале 1606 года Сервантес с семьей переезжает в Мадрид вслед за двором Филиппа III. Трудно понять, какая сила заставляла его всегда держаться поближе к королевской резиденции. Уж не надеялся ли он на то, что рано или поздно король обратит на него благосклонное внимание. Если это так, то он глубоко заблуждался.
Поселился Сервантес далеко от центра, на тихой улочке Св. Магдалены. Теперь, после успеха первого тома «Дон Кихота», он вновь возникает в литературных кругах. Возобновляет знакомство с Лопе де Вегой, встречается с Кеведо, Эспинелем и другими знаменитостями. Казалось, что он добился почета и уважения в литературном мире. Повсюду чествовали автора знаменитой книги, записывали в члены модных литературных и религиозных обществ, перед ним распахнулись двери академий.
Сервантес на первых порах старался завязать дружеские отношения с некоторыми из своих собратьев. Хвалил те их произведения, которые не принуждали его кривить душой. Посвящал свои стихи Мендозе, Лопе де Вега и другим.
Но характер у Сервантеса был ершистый. Несмотря на внешние знаки уважения, коллеги его не любили, а в их отношении к нему не было искренности. Они не верили в его доброжелательство, видели в нем чуждого им человека. Многие из них питали к нему скрытую вражду. Им было неприятно сознавать, что своим успехом Сервантес обязан исключительно себе. Они принимали за надменность независимость его литературных и политических воззрений. Их задевало, что он не нуждался ни в чьем покровительстве и не шел по жизни проторенными дорогами. Они чувствовали, что этот старик всегда будет живым укором для любой посредственности.
Кроме всего прочего, Сервантес в первой части своего романа сумел задеть многих собратьев по перу, рассуждая о современной испанской литературе. Понятно, что врагов у него было хоть отбавляй. Ошеломленные блестящим успехом «Дон Кихота», они в первое время не решались выступить против него с открытым забралом. Но накопившееся раздражение со временем прорвало плотину сдержанности и перешло в неприкрытую вражду.
Главным противником Сервантеса стал Лопе де Вега. Это он назвал Сервантеса худшим из испанских поэтов. Это он объявил «Дон Кихота» вздорной книгой, которую не стоит читать. Де Вега, в сущности, никогда не упускал из виду давнего соперника и натравливал на него своих литературных шестерок.
Прошедший через горнило тяжких испытаний, никогда не ходивший в баловнях у судьбы, Сервантес вынес свой приговор обществу, столь несправедливо отнесшемуся к нему, в блестящей сатире «Собачий разговор».
За собаками, так же как и за бедняками, – писал Сервантес, – признано право служить человеку, но отнято право мыслить. Однако собаки обладают такими ценными качествами, как память, благодарность и верность. На алебастровых могилах многих испанцев ставят лепные изображения их собак как символы верности. Быть может, природный инстинкт собак, их сметливость, чуткость и восприимчивость доказывают, что они обладают непостижимой для нас долей ума и рассудка.
В своей сатире Сервантес наделил даром слова двух собак. Одну звали Сцепион, а другую Берганца. В беседе с приятелем Берганца рассказывает о своей жизни, состоящей из многочисленных злоключений. Этот пес исходил всю Испанию. Служил в армии, откуда сбежал, потому что развращенность и отсутствие дисциплины среди солдат показались ему невыносимыми. Служил на бойне в Севилье и был поражен тем, что делается в ее бедных кварталах.
В ужасе бежал Берганца из города и поступил на службу к пастухам, но и здесь царили дикие нравы. Пастухи поедали вверенных им овец.
Тогда он стал сторожевым псом, но за ревностное исполнение своих обязанностей был посажен на цепь и отравлен. Он стал служить префекту, но тот оказался сообщником воров и мошенников. Берганца отправился в Вальядолид и устроился в больнице, где увидел людей мрущих, как мухи, из-за недоброкачественного лечения.
В своих скитаниях он встретил множество лживых женщин – эту подлинную язву испанского общества. В доме знатных господ, куда Берганца попал по протекции, его искусала комнатная собачка за его прямоту, после чего хозяева вышвырнули его на улицу.
– Послушай, – сказал Сцепион, выслушав его историю, – у каждого своя судьба и свое ремесло. Советы бедняка никому не нужны. Бедняк должен знать свое место и не лезть с советами к сильным мира сего.
«Собачий разговор» – эта красноречивая защита униженных и оскорбленных – и есть нелицеприятная оценка Сервантесом общественной и социальной жизни Испании.
Хроника восемнадцатая,
в которой рассказывается о втором томе «Дон Кихота», о донкихотстве и о последних годах жизни Сервантеса
После выхода в свет первого тома «Дон Кихота» Сервантес резко прервал участие в литературной жизни Мадрида. Постоянные нападки завистливых ничтожеств, возомнивших себя писателями, травля врагов и клевета со стороны тех собратьев-поэтов, которых он вольно или невольно сумел обидеть, омрачали его жизнь. К тому же на него уже легла тень приближающейся старости. Ныли к непогоде давние раны, мучила бессонница. Тяготили постоянное напряжение и преувеличенная чувствительность. Любая несправедливость болью отдавалась в сердце. Одиночество, изнурявшее душу, не растворялось в беседах, не разряжалось в любовных забавах, не тонуло в алкоголе. Оно всегда было с ним.
Жизнь научила Сервантеса скептически относиться к людям, но не смогла истребить его глубокую веру в добро. Не обнаружив ничего идеального в земном, он стал искать его в небесном. «Для Бога, – говорил он, – самый бедный богаче всех».
В 1608 году жившая с его семьей родственница Сервантеса Магдалена вступила в общество терцинариев – так называлось братство мирян, объединенных под эгидой Францисканского ордена, и через два года приняла постриг. Ее примеру последовали сестра Андреа, а затем и жена Каталина. Сам же Сервантес вступил в Братство рабов святейшего причастия – возможно, потому что в это общество входили такие высокопоставленные особы, как герцог де Лерма, архиепископ Толедский Бернардо де Сандоваль-и-Рохас, популярные писатели того времени и даже сам Лопе де Вега. Этот кумир публики был врагом Сервантеса и причинил ему немало зла, но автор «Дон Кихота» продолжал восхищаться его талантом и творческой мощью.
Лишь в 1613 году Сервантес вновь появился в литературном мире, издав том из двенадцати новелл, написанных в поучение дочери Изабелле. В годы своих скитаний он, всегда зорко следивший за литературной жизнью, обратил внимание на входящие тогда в моду итальянские новеллы. Ему понравилась их легкая изящная форма, и он подумал, что неплохо было бы пересадить это итальянское растение на испанскую почву. И ему это удалось. Воспользовавшись своеобразной пикантностью итальянских сюжетов, он внес в них героический дух старой Испании. По литературному совершенству и стилистической отточенности новеллы не уступают «Дон Кихоту» и даже превосходят его. В этой книге Сервантес впервые проявляется как взыскательный стилист и мастер чувственно совершенного языка. В его новеллах выразительная сжатость стиля полностью соответствует четкости новеллистической композиции. «Новеллы» имели большой успех и за десять лет выдержали девять изданий.
Прошел всего год после успеха «Новелл», и в свет вышла сатирическая поэма Сервантеса «Путешествие на Парнас». Всю жизнь Сервантесу приходилось воевать, – то с турками, то с плохим театром, а теперь вот с плохими поэтами. В то время в Испании поэты плодились, как кролики. Это была целая корпорация бесталанных виршеплетов, изнеженных, болтливых и дерзких попрошаек. Они осаждали академические конкурсы и штурмовали дворцы знатных грандов в поисках покровителей и кормильцев. Все они выставляли напоказ свою нищету и свои жалкие творения.
В 1612 году эта свора борзописцев пришла в неописуемое волнение. Дело в том, что покровитель искусств граф Лемос, уезжая в Неаполь, где он получил пост вице-короля, объявил, что возьмет с собой лучших поэтов Испании. И тогда началось нечто невообразимое. Желающих оказалась тьма тьмущая. Доверенные лица графа Демоса братья Архенсола, которым было поручено произвести отбор, растерялись от такого обилия служителей муз. Ну, а Сервантеса не включили даже в предварительный список. Он никому не был нужен. Его недоброжелатели говорили, что время его прошло, что он устарел, этот бедный старик. Мол, проза у него еще куда ни шло, а вот со стихами абсолютный провал.
Сервантес, привыкший терпеливо сносить удары, на сей раз решил высказать все, что думает об этих людях и об их поэтических опусах. И он сделал это в бурлескно-сатирической поэме «Путешествие на Парнас», где крупными мазками изобразил сражение, которое велось за обладание поэтическим Олимпом между «хорошими» и «плохими» поэтами.
На минуту, но только на минуту, Сервантес позволил дать волю своей горечи. Устами Меркурия он воздал себе должное, то есть сделал то, чего он тщетно ждал от братьев по поэтическому цеху:
Твой труд уже проник во все пределы,
На Росинанте путь свершает он.
И зависти отравленные стрелы
Не создают великому препон.
В этой поэме Сервантес дал оценку творчеству поэта. С присущим ему великодушием он о многих отозвался благожелательно, но это не убавило числа его врагов.
* * *
Что такое донкихотство? Трудно исчерпывающе ответить на этот вопрос, ибо донкихотство – понятие многообразное и трактуется по-всякому. Обычно донкихотство определяют как отсутствие чувства реальности и сравнивают с Дон Кихотом человека, прущего на рожон и потому нелепого, жалкого и смешного. Но при более глубоком понимании донкихотства в нем видят стремление преобразовать мир и победить зло личным примером, а также рыцарскую верность мечте, как бы ни противоречила она реалиям жизни.
Наиболее ярким проявлением донкихотства принято считать восьмую главу первого тома «Бой с ветряными мельницами», где в яркой форме проявляется сумасшествие Дон Кихота:
Тут они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля; заметив их, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
– Добрая судьба руководит нашими делами лучше, чем мы могли бы этого желать. Посмотри вон в ту сторону, друг Санчо, видишь там тридцать, а то и больше свирепейших великанов? Сейчас я вступлю с ними в бой и перебью всех до единого: эта добыча послужит началом нашего богатства, ибо такой бой праведен, и самому Богу угодно, чтобы сие злое семя было стерто с лица земли.
– Какие такие великаны? – спросил Санчо Панса.
– Да вот те, что перед тобой, – ответил Дон Кихот. – Видишь, какие у них огромные руки? У некоторых они длиной почти в две мили.
– Поверьте, ваша милость, то, что там виднеется, – вовсе не великаны, а ветряные мельницы, а то, что вы принимаете за руки, – это крылья, которые кружатся от ветра и вращают жернова.
– Сразу видно, – ответил Дон Кихот, – что в деле приключений ты еще новичок: это великаны; и если тебе страшно, так отойди в сторону и читай молитвы, а я тем временем вступлю с ними в жестокий неравный бой.
С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта, не обращая внимания на крики Санчо, который уверял его, что он нападет не на великанов, а на ветряные мельницы. Дон Кихот, будучи твердо убежден, что перед ним великаны, не слышал криков своего оруженосца и не узнавал мельниц, хоть и были они совсем поблизости. Он мчался вперед, громко восклицая:
– Не бегите малодушные и подлые создания, ибо лишь один рыцарь нападет на вас всех!
В эту минуту поднялся легкий ветер, и огромные крылья начали вращаться. Заметив это, Дон Кихот продолжил: – Если бы у вас было больше рук, чем у самого титана Бриарея, вы бы замахали ими всеми, от расплаты вам все равно не уйти.
Сказав это и поручив свою душу Дульсинее с мольбой помочь ему в опасную минуту, он, прикрывшись щитом, с копьем наперевес, пустил Росинанта в галоп, и, ринувшись на ближайшую к нему мельницу, вонзил копье в ее крыло. В эту минуту сильный порыв ветра повернул крыло, и оно, разломав копье в щепки, потащило за собой и коня и всадника, которые прежалким образом отлетели на большое расстояние. Санчо во всю прыть своего осла поскакал на помощь своему господину и, подъехав, убедился, что тот не может шевельнуться: с такой силой он и Росинант грохнулись оземь.
– Господи помилуй! – воскликнул Санчо. – Не говорил ли я вам, ваша милость, чтобы вы были осторожнее и что это ветряные мельницы? Ведь только тому это не ясно, у кого самого мельницы в голове.
– Замолчи, друг Санчо, – ответил Дон Кихот. – Дела ратные больше всех других подвержены превратностям судьбы; тем более что мне думается – да так оно и есть на самом деле! – это колдун Фрестон, похитивший у меня книги и жилье, превратил и великанов в мельницы, дабы лишить меня славы победы: так сильна его вражда ко мне. Но рано или поздно его чары рассеются мощью моего меча.
– Все в воле Божьей, – отвечал Санчо.
В этой главе высветляется не только безумие Дон Кихота, но и его неумение смириться с поражением. На самом же деле, смысл ее гораздо шире. История Дон Кихота не сводится к борьбе с ветряными мельницами. Это эпопея редкой самоотверженности, апофеоз человеческого достоинства, летопись горестных заблуждений и пример величия духа.
Дон Кихот – не просто забавный чудак. Он живое воплощение веры в вечную и незыблемую истину, достойную преданного служения, вплоть до самопожертвования. Жизнь свою Дон Кихот ценит лишь потому, что она для него средство к утверждению идеала справедливости на земле.
И пусть говорят, что его идеал – это плод расстроенного воображения человека, свихнувшегося на почве рыцарских книг. Суть дела от этого не меняется. Более того, здесь-то и кроется комическая сторона великого романа, без которой он вообще немыслим.
Да и с ветряными мельницами не так все просто. Их соорудили в середине XVI века фламандские купцы в Ла-Манче, страдавшей от недостатка воды. Современники Сервантеса с изумлением взирали на эти странные сооружения. В испанском языке того времени термин molino de viento (ветряная мельница) приобрел значение чего-то угрожающего и фантастического. Именно поэтому распаленное рыцарскими романами воображение Дон Кихота, возбужденное к тому же ожиданием «доселе неслыханных приключений», с такой легкостью приняло гигантские мельницы за толпу грозных великанов.
* * *
Ошеломляющий триумф первого тома «Дон Кихота» оставил все же у Сервантеса чувство неудовлетворенности. С его точки зрения он не был полным, не стал проводником его идей, не выразил его отношения к жизни. Многого Сервантес не договорил, многое из того, что он все же сказал, не поняли. Публика до колик смеялась над сумасбродными поступками Рыцаря печального образа и совсем не обращала внимания на его «золотые» речи. А ведь Дон Кихот не только рыцарь и поэт, он, при всем своем сумасбродстве, еще и человек острого ума. По словам одного из персонажей романа, «добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и высказывает ум во всех отношения светлый и ясный».
Во втором томе тональность повествования меняется. Дон Кихот второй части – это уже не персонаж, созданный для насмешек и колотушек. Теперь он в гораздо в большей степени, чем раньше, alter ego автора. Кажется, что сам Сервантес кладет руку на плечо своего героя и говорит ласково: «Перестань дурачиться».
Дон Кихот второго тома хоть и не отрешился от своей мании, но теперь на первый план выступили его ум и благородство. Поразительны по своей глубине его проникновенные суждения о поэзии, любви, красоте, верности и многих других вещах.
Весьма любопытно, что Дон Кихота действительно начинают воспринимать как странствующего рыцаря люди полностью вменяемые. Дон Диего де Маранда, человек умный и образованный, бывший свидетелем сражения Дон Кихота со львом, без тени иронии представляет его своей жене как «странствующего рыцаря, самого отважного и самого просвещенного, какой только есть на свете».
Не менее важным персонажем романа является Санчо Панса. Он постоянно жалуется и всего боится. Ценит удобства и всегда хочет есть. Работать не любит, зато обожает отдых и сон. Мечтает о богатстве и страшится болезней и смерти.
Санчо Панса и Дон Кихот являют собой единство противоположностей. Оруженосец воплощает все земное и смертное в человеке, а Рыцарь печального образа – его величие и божественную суть. И вот что удивительно: Санчо Панса часто высмеивает своего господина, добродушно подшучивает над ним, отлично понимает, что он безумен. Но он трижды покидает родину, жену, дом и любимую дочь, чтобы безоглядно следовать за этим безумцем. Подвергает ради него свою жизнь опасностям. Предан ему до самой смерти, любит его, гордится им и, преклонив колени, рыдает у ложа своего господина, покидающего сей бренный мир. Никакой корыстью такой преданности объяснить нельзя. Санчо Панса, обладающий здравым смыслом, хорошо понимает, что оруженосцу такого рыцаря, как Дон Кихот, кроме колотушек ничего не достанется. Истинная причина его преданности кроется в воздействии высочайших нравственных качеств такой личности, как Дон Кихот, на его простую душу.