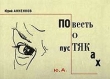Текст книги "Танкисты (Повесть)"
Автор книги: Владимир Баскаков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Вагнер вернулся в свою комнату на втором этаже офицерского казино, маленькую, грязную – ее давно никто не убирал, – заваленную какими-то ящиками. Снизу из гостиной казино – Вагнер знал это довольно красивое помещение, круглое, с большим камином и огромной люстрой, – слышался шум и какие-то выкрики. Там, это он понял, шел кутеж.
Полковник открыл свой кожаный бювар, вынул из кармана записную книжку, достал из стола пачку бумаги, расстелил карту-план Берлина и начал писать:
«22 апреля 1945 г. Гитлер принимает наконец для самого себя решение не бежать на юг, а лично руководить борьбой за Берлин и остаться в имперской канцелярии.
Около 15 часов в имперской канцелярии в последний раз проводится большое оперативное совещание. Во время этого совещания Гитлер в первый раз официально высказывает мысль о том, что война проиграна. Он обвиняет генералитет и своих помощников в неверности и в предательстве и говорит, что хочет покончить с собой. Однако время для этого еще не наступило. В этих условиях, когда он решает остаться в Берлине, его ближайшие помощники, в том числе Кейтель и Йодль, вызываются остаться с ним в имперской канцелярии. Однако он приказывает генерал-фельдмаршалу Кейтелю, генерал-полковнику Йодлю и рейхслейтеру Борману лететь на юг, чтобы продолжать оттуда руководить операциями. Но все трое отказываются выполнить этот приказ. Тогда Гитлер принимает предложение Йодля снять с фронта против англосаксов все войска, бросить их в бой за Берлин и самому руководить через ОКВ этой операцией.
После этого последнего общего оперативного совещания ставка верховного главнокомандования вооруженных сил и штаб оперативного руководства вооруженными силами переносятся в Крампниц и объединяются там в единый штаб ОКВ.
В Берлине обстановка становится все более угрожающей. В это воскресенье, как и несколькими днями раньше, жители города стоят в бесконечных очередях перед продовольственными магазинами в надежде получить еще что-либо съедобное на предстоящие дни блокады…
23 апреля 1945 г. Битва за Берлин приняла особенно ожесточенный характер. Севернее Берлина советские войска пытаются форсировать Хафель.
Генерал-фельдмаршал Кейтель, посетив корпус Келера, направляется в штаб 12-й армии. В 10 часов он прибывает к генералу Венку, находящемуся в лесничестве „Альте Хелле“ около Визенбурга, и обсуждает с ним план наступления на Берлин в направлении Потсдама с целью соединиться с войсками 9-й армии. Таким образом, с армии снимается стоявшая до сих пор перед ней невыполнимая задача борьбы на два фронта и она может целиком посвятить себя борьбе против Советов.
В 15 часов Кейтель и Йодль снова отправляются в сопровождении своих адъютантов для доклада в имперскую канцелярию. Здесь они в последний раз видят Гитлера.
После оперативного совещания в имперской канцелярии и возвращения в Крампниц генерал-фельдмаршал Кейтель, уверовавший в то, что его личное воздействие может благоприятно повлиять на развитие операций в районе Берлина, сразу же снова направляется в штаб 12-й армии.
24 апреля 1945 г. Преодолевая ожесточенное сопротивление немецких войск, русские продолжают наступление и вышли в район юго-восточнее Бранденбурга, южнее Потсдама, севернее Кенигс-Вустерхаузена, а также заняли восточную и северную окраины столицы.
Командование все еще питает надежду, что в результате наступления войск 12-й армии, расположенной западнее и юго-западнее Берлина, удастся задержать наступление войск противника, продвигающихся с юга, а также продвижение вражеских сил, пытающихся охватить Берлин с севера и северо-запада.
В 19 часов 45 минут 12-я армия получает приказ о наступлении на Берлин. Но к этому моменту 12-я армия уже больше не в состоянии создать сплошной фронт, обращенный на восток. Наступление на противника приходится вести отдельными боевыми группами, чтобы замедлить его дальнейшее продвижение. Район действий армии ограничивается с севера рубежом Виттшток – Альтруппин – Герцберг – Креммен – Руппинский канал. На юге разграничительная линия армии проходит примерно по рубежу Дессау – Котбус…
На севере армия примыкает к войскам группы армий „Висла“, которая все еще носит такое наименование, хотя вся Висла, за исключением Данцигской низменности, уже в течение нескольких месяцев в руках противника.
Начальник штаба оперативного руководства вооруженными силами отдает особую директиву, предписывающую бросить все имеющиеся в распоряжении силы против смертельного врага, против большевизма. При этом не следует обращать внимания на то, что англо-американские войска могут овладеть значительной территорией.
25 апреля 1945 г. В течение всего дня внимание всех приковано целиком и полностью к развитию событий в районе Берлина. Для главного командования все задачи отходят теперь на задний план. Главная задача– это оказание помощи и деблокирование войск, находящихся в столице. По поступающим донесениям, под Берлином борьба ведется за каждую пядь земли. Но тем не менее русским удается овладеть рубежом Бабельсберг – Целлендорф – Нёйкёльн. В восточной и северной частях города идут ожесточенные уличные бои. Русские войска, совершающие обходный маневр севернее Берлина, достигли своими передовыми танковыми частями района Науэна и Кетцина…
Намечавшееся первоначально сосредоточение всех сил 12-й армии для наступления на Берлин оказывается невозможным вследствие развития обстановки. Ютербог переходит в руки русских. 20-й корпус Келера на протяжении всего дня отбивает танковые атаки противника. Город Потсдам полностью окружен. В районе Торгау на Эльбе впервые соединяются советские и американские войска.
Однако фюрер, очевидно, пришел в себя после потрясений 22 апреля. Он считает, что борьба за Берлин не проиграна. В 19 часов 15 минут гросс-адмирал Дениц, находящийся в Плене (Гольштейн), получает радиограмму, в которой Гитлер называет сражение за Берлин „битвой за судьбу Германии“. В связи с этим все остальные задачи и другие фронты имеют, по его мнению, второстепенное значение. Он приказывает гросс-адмиралу отказаться от выполнения всех задач, непосредственно стоящих перед военно-морским флотом, и поддержать эту борьбу путем переброски войск по воздуху в самый город, а также водным путем и по суше для усиления сражающихся под Берлином войск.
26 апреля 1945 г. Генерал-фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Йодль, обеспечивая выполнение отданных приказов, занимаются почти исключительно организацией наступления на Берлин с целью его деблокирования.
Обстановка здесь еще более осложнилась. Во всех предместьях города идут ожесточенные уличные бои. Противник занял Целлендорф, Штеглиц и находится в южной части аэродрома Темпельгоф. Идут бои в районе Силезского и Герлицкого вокзалов. Между Тегелем и Сименсштадтом войска совместно с подразделениями фольксштурма и гитлерюгенда отбивают ожесточенные атаки противника. В Шарлоттенбурге также идут бои.
В 11 часов 45 минут командующий группой армий „Висла“ генерал-полковник Хейнрици просит разрешить ему прекратить наступление боевой группы Штейнера (3-й танковый корпус СС) западнее Ораниенбурга на Берлин, поскольку там нет никакой надежды на успех, а 25-ю моторизованную и 7-ю танковую дивизии бросить на усиление фронта 3-й танковой армии в район Пренцлау. Это предложение не принимается, поскольку оно противоречит категорическому приказу Гитлера о ведении концентрического наступления на Берлин с целью деблокировать его…
В 18 часов в последний раз состоялся телефонный разговор между генерал-полковником Йодлем и Гитлером…»
Полковник Вагнер закончил запись. Куда же теперь бежать? Русские танки в Потсдаме. Берлин окружен. Один путь – немедленно вслед за генералом бежать к американцам.
5
Рано утром Боев оказался на Курфюрстендамм. Боев еще до войны слышал об этой центральной берлинской улице. Здесь он разыскал КП корпуса. Он разместился во дворе большого доходного дома, обвитого с фасада плющом. Во дворе дымилась кухня и шел привычный запах щей. Солдаты из комендантского взвода спали на асфальте, разостлав шинели. В цокольном этаже дома (здесь была, видимо, какая-то контора) работал командир, и из разбитых окон вдоль улицы тянулись телефонные провода.
Там-то Боев и встретил снова Батьянова.
Боев давно, еще с боев в Белоруссии, знал этого плечистого, красивого – так, по крайней мере, считали девушки из батальона связи – сибиряка, командира взвода разведки, толкового и смелого парня.
– Здорово, земляк! – сказал Батьянов. Он шел по двору и чуть ли не за руку вел немецкого офицера в черном плаще и фуражке с высокой тульей – старого, сморщенного, маленького человечка. Он вел его к парадной двери квартиры первого этажа, где помещался командир корпуса.
– Куда ты его ведешь, Толя? – спросил Боев.
– Это птица важная. Генерал медицинской службы. Я его прямо из машины высадил. Прервал, так сказать, его инспекторскую поездку. А веду к генералу Шубникову.
– Возьми меня.
– Это уж как начальство посмотрит.
– Скажи адъютанту Коваленко, что, мол, Боев, корреспондент, будет переводить.
– Ладно, скажу.
Через минуту на пороге показался высокий плотный парень со старшинскими погонами, но в новеньком, с иголочки, офицерском обмундировании.
– Генерал зовет, – сказал он.
Боев вошел в темную прихожую и осторожно отворил дверь в комнату. В большой гостиной напротив друг друга у резного курительного столика сидели генерал Шубников и немецкий генерал.
Шубников, широкий в кости и тучный, с трудом помещался в кожаном кресле, а немец присел на краешек стула с высокой резной спинкой.
– Спроси его звание, должность, обязанности, – сказал генерал Шубников, обращаясь к Боеву.
Он перевел.
Немец быстро ответил, что он генерал-лейтенант медицинской службы Вейсдорф, главный инспектор управления санитарной службы вермахта. Потом, помолчав, добавил: профессор медицины Вейсдорф.
– Значит, профессор, – сказал Шубников хмуро, а потом спросил, обращаясь к немцу: – Parlez-vous français?
Боев с удивлением посмотрел на генерала. Грубоватый тон его голоса вдруг изменился, и фраза была произнесена с отличным французским прононсом.
Немец ответил утвердительно. Шубников быстро заговорил по-французски, и Боев с большим трудом улавливал, вспоминая французские слова, смысл сказанного генералом. Шубников, как понял Боев, сказал, что, наверное, немецкому профессору медицины уместно было бы проявить гуманность по отношению к раненым немецким солдатам, размещенным в подвалах и в метро, где, очевидно, нет даже воды, пора прекратить бессмысленное сопротивление, и тогда Советская Армия сможет оказать им медицинскую помощь. Кроме того, в подвалах домов много стариков, женщин и детей.
Немец ответил, что гуманность и война несовместимы, но он, конечно, сожалеет, что все это происходит. Но разве он может отдавать военные приказы? Ведь он всего лишь медик.
Вестовой принес чай в стаканах с мельхиоровыми подстаканниками, и Шубников выпил чай почти сразу, а немец стал мешать ложечкой и отхлебывать маленькими глоточками.
Они обменялись еще двумя-тремя фразами, и Шубников встал. Обращаясь уже к Боеву, он сказал:
– Передай ему, что я сожалею, что немецкий профессор медицины не понимает или не хочет понять трагедию своего народа… Впрочем, не надо. Ничего не переводи. Пусть везут его в штаб армии.
Шубников кивнул адъютанту, тот подошел к немецкому генералу и жестом пригласил его следовать за собой.
Боев тоже встал и спросил:
– Я могу быть свободен?
Генерал молчал. Он смотрел в окно на широкую берлинскую улицу.
Боев постоял несколько секунд и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь.
В прихожей он спросил адъютанта:
– Слушай, Коваленко, откуда твой так по-французски шпарит?
– Испания, брат, Испания, – ответил старшина.
Во дворе после дождя стало светлее, и зелень первых весенних листьев посвежела.
Батьянов сидел прямо на асфальте, прижавшись спиной к стене дома, грелся или спал: фуражка сползла на глаза.
– Толя, – сказал Боев, тронув старшину за плечо.
Батьянов автоматически потянулся к кобуре пистолета, которая висела у него не справа, как повелось в нашей армии, а слева, как у немцев (слева оружие удобнее выхватывать правой рукой).
Увидев Боева, Батьянов заулыбался:
– Ты, землячок! А мне фрицы снятся. Ну пошли промнемся малость. – Батьянов оправил гимнастерку, лихо, чуть набок надел фуражку. – Я тебе город покажу.
– Ну, положим, я город без тебя знаю.
– Нет, я покажу то, чего ты не знаешь.
– Ну ладно. Немножко пройдемся. Ночью я на задание пойду, а вечер, если хочешь, можно вместе провести, отдохнем малость, покурим.
Они вышли со двора и свернули в переулок. Поперек тротуара лежала телефонная будка. А рядом, на стальном круглом столбе, была прибита квадратная решетчатая рама – на ней большими буквами: «Zoo» и стрелка.
– Слышишь, как хищники рычат? – спросил Боев Батьянова.
Звери не рычали, но Боев знал, что «Zoo» – это район знаменитого берлинского зоопарка. Он знал и то, что дальше за каналом шел большой парк – Тиргартен, ставший в эти дни целью окружавших его с четырех сторон армий – общевойсковых и танковых. На окраине Тиргартена, прикрытые Шпрее и каналами, – рейхстаг и имперская канцелярия. Сперва, так слышал Боев, в штабах думали, что Гитлер находится в бункере где-то в Тиргартене, но потом было точно установлено: и Гитлер, и Геббельс, и Борман в подвалах имперской канцелярии, а в рейхстаге, превращенном в крепость, – большой и сильный гарнизон. Сегодня должен завершиться его штурм.
– Зверье, наверное, передохло, – сказал старшина, – или войны испугалось, замерло. А что здесь зоосад, так это на карте обозначено.
– А вот эта телефонная будка, что валяется, на карте обозначена?
– Шутишь!
– Нет, брат, это не простая будка. Она литературная, один наш соотечественник в двадцать первом году говорил из нее по телефону с любимой, а потом написал об этом книгу.
– Ну ты даешь! – засмеялся Батьянов.
– А вот на той скамейке, под липой, Алексей Толстой читал по утрам газету.
– Фантазер ты, земляк.
– А Горький приезжал вот сюда, на перекресток, на машине, а потом слезал вот здесь, где мы стоим, и направлялся смотреть зверей в «Zoo» или гулять по Курфюрстендамм с тем самым молодым литератором, что говорил по телефону из этой будки. А лет за пятьдесят до них здесь проезжал в экипаже Тургенев.
Батьянов остановился и внимательно осмотрел улицу.
– Ты серьезно?
– Серьезно. Эти места любили русские люди, покинувшие по разным причинам свою страну. Потом они перебрались в Париж. А некоторые вернулись на Родину. Причем именно отсюда. И тот, что говорил по телефону, тоже вернулся и стал знаменитым критиком.
– Спасибо за лекцию, если не врешь, – серьезно сказал Батьянов. Боев знал, что Батьянов очень любознательный и умный парень и даже ведет дневник.
Тогда, днем, они далеко не пошли, вернулись в штаб. Батьянов – в свой взвод, Боев – в оперативный отдел, чтобы узнать новости.
Теперь, ночью, они стояли у дома, где Батьянов решил заночевать. Может, на той самой улице, где гуляли днем, а может, и на другой, разве в этой кромешной тьме разберешь?
Днем он удивил Батьянова рассказом о Курфюрстендамм, о русских эмигрантах. Теперь Батьянов удивлял его (уже не первый раз) своим чутьем следопыта. Он сказал: «Здесь пекарня», и оказалась действительно пекарня, хотя раньше сибиряк никогда в жизни не был на этой улице рядом с каналом, ставшим в ту ночь линией фронта, и уж, разумеется, ни на какой карте пекарни обозначены не были.
Старик, светя лампой, повел их вверх по деревянной лестнице. Он что-то говорил, но Боев, хотя понимал по-немецки, никак не мог уловить смысл его слов. Старик говорил быстро и очень по-берлински корежил окончания.
– Чего он бормочет? – спросил Батьянов.
Боев шагнул через две ступеньки и, догнав немца, смог увидеть его лицо: с крупным носом, все в мелких морщинах. Старик продолжал говорить, и теперь его понимал Боев: войне капут, а он – скромный булочник и, более того, социал-демократ, и если господин русский офицер подождет пять минут, то он принесет из подвала свою партийную карточку, она у него сохранилась, и он может ее принести в любую минуту, пусть только господин офицер подождет и не сердится.
– На кой мне его карточка, – сказал Батьянов. – Он кто, хозяин пекарни?
– Да.
– Вот это он не врет. Я по запаху его логово учуял. А насчет его партийной принадлежности скажи ему, с ним, дескать, после разберемся.
Он перевел.
Старик перестал лепетать, он широко раскрыл на площадке дверь и почти побежал по коридору, повторяя: «Битте, герр офицер, битте».
– Вот это другой разговор, – сказал Батьянов и пошел за стариком. За ним шел Боев. Дальше – четыре солдата. Их сапоги наконец стали слышны на деревянной лестнице.
Боев понял, что старшим офицером и, безусловно, начальником старик считает не его, а Батьянова, – уж слишком внушительным был вид у старшины-разведчика. Высокий, в ладно сидящем комбинезоне, в фуражке с черным козырьком. У Боева вид был явно не офицерский: хлопчатобумажная гимнастерка, кирзовые сапоги, пилотка.
Свеча расплылась на фарфоровом подсвечнике, и капли стеарина стекали на полированную поверхность буфета, но никто из-за стола не встал.
Хозяин, положив руки на скатерть, сидел с видимым спокойствием. Девушка (по ее остренькому, немного лисьему личику прыгали красные пятна – отблески огня догорающей свечи) была неподвижна.
Мальчишка лет шестнадцати, сидевший в дальнем темном углу, вертел круглой головой, и казалось, что он хочет что-то сказать пришельцам, но не решается. Хозяйка входила в комнату и, посуетившись у стола, уходила. Потом снова входила, поправляла скатерть, ставила тарелки, зачем-то принесла еще один стул, хотя в комнате было достаточно кресел и все сидели.
Она не погасила расползающуюся свечу, а принесла еще один подсвечник с тремя красными, очевидно рождественскими, свечами и поставила его на стол. В комнате стало светлее, и Боев смог лучше видеть лицо девушки: оно теперь было несколько другим, хотя что-то лисье осталось, но девушка явно симпатичная, ей шла прическа – волосы валиком над открытым лбом.
Батьянов поднялся с дивана и подошел к Боеву.
– Ты, поди, всех здесь уже знаешь, наговорился. Познакомь и меня.
Боев сказал по-немецки, что его друг хочет познакомиться с семьей господина Хольцмана.
Хозяин быстро встал и заговорил, но опять так быстро, что Боев не понял всех слов, но смысл уловил: у него честная трудовая семья, и господин офицер уже познакомился с его сыном Хорстом (он школьник) и дочерью Эрикой (она студентка университета). Что касается его жены Лизелотты Хольцман, то она придет сейчас из кухни, и они надеются, что господа русские офицеры разделят с его семьей скромный ужин.
Батьянов подошел к Хорсту. Парнишка вскочил со стула.
– Давай знакомиться, – сказал Батьянов и протянул ему руку.
Хорст осторожно протянул свою. Батьянов хлопнул его по ладони своей ладонью, но руки не пожал. К девушке он не подошел, сел на диван и стал закуривать сигарету от свечи.
Хозяйка принесла поднос с маленькими тарелочками. На одной лежали ломтики колбасы, на другой – ветчина, свернутая в трубочку, на третьей – печенье, на четвертой – абрикосовое повидло, на пятой – хлеб, на шестой – какие-то зеленые стручки.
– Кузнецов! – позвал Батьянов.
В комнату вошел высокий плотный сержант с пухлыми детскими губами на круглом лице.
– Принеси нам что-нибудь.
Кузнецов скрылся за дверью и почти сразу вернулся с вещмешком в руках.
– Вываливай.
Кузнецов развязал мешок и выложил на стол три большие ржавые банки и буханку черного хлеба.
– Знаешь, корреспондент, – продолжал Батьянов, – я эти банки с Вислы вожу. Энзэ, люблю я эти консервы. Банки неказистые, но нутро довоенное – говядина, и без жира, мясо – будь здоров. Одна беда: жесть такая, что хоть топором руби. Кадровая жесть, довоенная.
Но Кузнецов трофейным эсэсовским кинжалом ловко распорол банки и вывалил их содержимое на три тарелки.
– Вот это еда, – заулыбался Батьянов. – Садись, ребята. И вы тоже, господа хозяева, давайте. Битте, как говорят.
Хозяин понял приглашение, поспешно встал и вытащил из буфета бутылку с желтой наклейкой.
– Смекалистый старикан, – сказал Батьянов, садясь на стул, и, обращаясь к мальчишке, добавил: – И ты, фольксштурм, тоже садись, заправляйся, и вы, фрейлейн, битте! (Батьянов галантно улыбнулся Эрике.)
Хозяин сел на стул и уставился на Батьянова: даже при свечах было видно, как застыло и побледнело его лицо.
Мальчишка перестал крутить головой, и Боев заметил, что он сжал кулаки.
– Ты чего мальчишку фольксштурмом окрестил? Видишь, как они обиделись, – сказал Боев.
– А чего им обижаться? Фаустник парнишка, факт, – спокойно сказал Батьянов, закуривая новую сигарету.
– Откуда ты взял?
– А я его сразу приметил. Голову ему постригли, как у них в фольксштурме положено, да и руки я его посмотрел – пороховые пятна. По танкам, значит, стрелял из фауста. Может быть, и у нас кого сжег, а потом струсил. Фаустпатрон свой бросил и к мамке побежал. Сидит, ждет. И свои узнают – не помилуют, и наших боится. Я его сразу понял, гаденыша.
– А девушка кто?
– Ты что же решил, я – Шерлок Холмс? Фрейлейн как фрейлейн. Отличительных знаков не имеет. К строевой службе пригодна.
Боев посмотрел на хозяина, тот сидел застывший, опустив голову. Девушка тоже напряглась, насторожилась, как лисичка перед прыжком.
Батьянов поднялся с дивана и снова подошел к Хорсту.
– А ну вставай.
Хорст понял и поспешно встал, пряча глаза от Батьянова.
– Сколько месяцев в фольксштурме? Вифель монат?
– Цвай вохе.
– Понял, две недели.
Батьянов кивнул, улыбаясь Боеву. Потом после паузы, снова обращаясь к мальчишке, сказал:
– Ну ладно, живи. Садись рубай консерву. А ты скажи старику, чтобы зубами не стучал, не трону я его отпрыска, хотя дать бы ему по балде и не мешало. И еще скажи, что негоже социал-демократу, хоть и бывшему, посылать сынишку на улицу с фаустом в руках, когда фашистский рейх уже догорает. Переведи ему. Покрепче переведи. Да, кстати, спроси его, дает он хлеб людям или под шумок зажал продуктишки про черный день. Я заходил тут на этой улице в подвалы: детишки голодные. Спроси, и построже.
Боев перевел. Старик опять очень быстро заговорил, и Боев понял, он объясняет: нет электричества, печи не работают, а угольных брикетов тоже нет. И потом старые власти (он так и сказал) не дали никаких распоряжений насчет выдачи хлеба. Но если господин комендант (теперь, выходит, он решил, что Батьянов комендант) даст указание, то он, конечно, примет все меры и как честный человек исполнит свой долг до конца.
– Пусть не крутит насчет печей и своего долга, – сказал Батьянов, выслушав перевод, – а завтра утром выдаст всем своим клиентам, кто там у него прикреплен, по пятьсот граммов муки на человека, а детям по восемьсот. А бои кончатся, пусть печки топит, хоть стульями своими, но топит. Построже ему скажи, чтоб чувствовал.
Боев, уже совсем входя в роль переводчика при коменданте, перевел слова Батьянова по возможности точно и в конце даже добавил и насчет строгости законов военного времени.
Старик встал, вытянул руки по швам и произнес:
– Яволь.
– То-то же, – засмеялся Батьянов, – понял. А теперь, Володя, мальчишку расспроси, где сидел со своим фаустом, что видел, что слышал.
…Боев проснулся, услышав в комнате шум. Он потянулся за пистолетом, лежащим под подушкой без кобуры, но вспомнил: пистолет не заряжен.
– Не бойся, это я.
Боев узнал в темноте голос Батьянова, и страх, охвативший его в тот самый момент, когда он понял, что пистолет не заряжен, сразу прошел.
– Ты меня испугал.
– Дверь надо закрывать, а если нет ключа, подвинул бы шкаф. Тебя, видно, на войне плохо учили.
Батьянов подошел к окну.
– Уже светает.
Были видны темно-серые очертания домов. От булочной поодиночке переходили улицу женщины с бумажными кулечками в руках.
Боев встал и тоже посмотрел в окно.
– Видишь, товарищ новоявленный комендант, как твой приказ выполняется? – сказал он.
– Ладно. Я пришел прощаться, – тихо сказал Батьянов и сел на кровать.
– Погоди, я оденусь.
– Не надо. Уйду – поспишь еще.
Батьянов чиркнул зажигалкой, вытащил из нагрудного кармана гимнастерки мятую сигарету, закурил.
– А ты обязательно должен идти?
– Глупые слова.
– Почему глупые? Сегодня возьмут рейхстаг. А может быть, его уже взяли. Имперская канцелярия окружена. Там уже и крысы подохли. Зачем же этот мост?
– Знаешь, Володя, – жестко сказал Батьянов, – мне приказали до семи утра обезвредить мост и быть на том берегу. И я это сделаю. Приказ есть приказ. Я воюю с июля сорок первого. Так вот: я приказы выполняю. И потому, наверное, мы с тобой сегодня не Урал обороняем, а у немца в булочной кофий пьем и рейхстаг у нас прямо чуть не под окнами стоит. Вот, брат.
– Значит, идешь?
– Иду, землячок, иду.
Они обнялись, и Батьянов своей бесшумной походкой вышел из комнаты.
Мост был цел. Он, каменный и старый, висел над узким каналом, изогнутый дугой.
Мост упирался в высокий и совсем целый кирпичный дом, с окон которого свисали белые простыни и пододеяльники.
Боев посмотрел на небо: чистое, без единого облачка. Молодые, в росинках, листья светились. Тихо. Даже очень тихо. Боеву стало как-то не по себе от этой неприятной утренней тишины. Он пошел по мосту в сторону парка.
На разогретых камнях тротуара спали солдаты – трое. В стираных, почти белых гимнастерках.
Сержант в пилотке, нахлобученной на глаза, привалился спиной к решетке с конскими чугунными головами и тоже спал, но чутко, как и подобает старому фронтовику, который знает, что и спать нельзя, но пересилить сон он тоже не может. Сержант услышал шаги и, прежде чем открыть глаза, поднял автомат, сбросил предохранитель.
– Я свой, – сказал Боев, подумав, что этот непроснувшийся часовой спокойно уложит, если надо, его и во сне, даже не заметит. Потом он вгляделся в лицо сержанта и узнал Сергея Кузнецова.
– Это ты?
Сержант открыл глаза и встал – высокий, плотный, расставив ноги, обутые в кожаные трофейные сапоги, и молча, даже неприветливо, совсем как бы не спросонья, посмотрел на корреспондента.
– Это ты, Кузнецов?
– Я.
– Батьянов Толя где?
– Нет Батьянова.
И отвернулся.
Лицо его, дотоле суровое, стало по-детски округлым и перекосилось в гримасе.
Боев стоял ошеломленный и подавленный.
– Утром мы пришли сюда. Мост разминировали быстро. Танки пропустили, а сами сели покурить. И вот оттуда, – Кузнецов показал на красный кирпичный дом, стоявший перед мостом, – хлопнул выстрел. И Батьянова наповал. Мы его на машине в госпиталь повезли, да какой госпиталь, в голову его. Похоронили на рассвете.
Кузнецов махнул рукой в сторону Тиргартена.
– У аллейки похоронили. Ребята камень приволокли с сапогами из мрамора. Я сапоги эти отбил, а на камне написал имя и фамилию. Надо на карту нанести. Отцу напишем. Какой человек был! Я с ним с сорок второго рядом, вместе, под одной шинелью спали. С Калининского фронта… Он меня в первый бой вел. Тогда еще у меня в ушанке осколок застрял. Но я вот жив, дошел до рейхстага, а он не дошел… Отцу написать надо. Он старый у него, отец, боюсь, не выдержит. Но написать надо. А как же?
– Напишем, – машинально сказал Владимир и посмотрел на парк, прореженный и обожженный ураганным огнем, еще сегодня ночью полыхавшим над ним.
Мимо, по мосту, завывая, шли танки. Шли славные тридцатьчетверки.
Боев смотрел на их запыленные гусеницы и думал: «Сколько прошли эти машины, может быть, и не эти, а другие, но такие же и с такими же экипажами – бесстрашными и умелыми».
Он увидел, как танкист, стоящий в башне, помахал ему.
Боев вгляделся в лицо танкиста и узнал его. Это же Мальцев!
– Здорово, Мальцев!
– Привет, корреспондент! С победой тебя…
Грохот работающих моторов и лязг гусениц заглушал его голос. А танки шли, один за другим, и скрывались в аллее покореженного войной, но по-весеннему зеленеющего парка.
Вместо эпилога
Из показаний на допросе генерал-фельдмаршала Кейтеля
«К 22 апреля стало ясно, что Берлин падет, если не будут сняты все войска с Эльбы для перебросок против наступающих русских. После совместного совещания Гитлера и Геббельса со мной и Йодлем было решено: 12-я армия оставляет против американцев слабые арьергарды и наступает против русских войск, окруживших Берлин».
Из Хроники «СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945»
Понедельник, 30 апреля 1945 г.
Войска 1-го Белорусского фронта в 5 часов утра мощным огневым налетом начали штурм рейхстага. В 13 часов 50 минут подразделение советских войск через проломы в стенах ворвалось в здание рейхстага. Завязался ожесточенный бой внутри здания. Разведчики сержанты М. Егоров и М. Кантария водрузили Знамя Победы на крыше рейхстага.
Вторник, 1 мая 1945 г.
В связи с отклонением требования советского командования о безоговорочной капитуляции Берлинского гарнизона в 18 часов 30 минут по районам, удерживаемым противником, был произведен мощный огневой налет всей имевшейся артиллерией. Вслед за этим началась сдача в плен гитлеровских войск.
Среда, 2 мая 1945 г.
Войска 1-го Белорусского фронта во взаимодействии с войсками 1-го Украинского фронта завершили разгром берлинской группировки войск противника и полностью овладели Берлином.