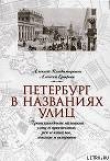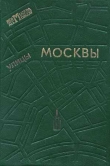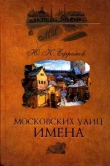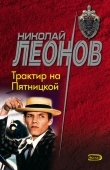Текст книги "Истории московских улиц"
Автор книги: Владимир Муравьев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 56 страниц)
Фаворский понимал, что архитектура предложенного здания на Сретенке ему не в помощь (он говорил, что оно "архитектуры бросовой") и что задача сделать его обращающим на себя внимание целиком ложится на его оформление. Он решил внутренние помещения дома расписать фресками, а на фасады, обращенные на улицу и в переулок, поместить рисунки, выполненные способом сграффито. Решение оказалось оптимальным: тяжелые, гладкие, скучные фасады приобрели легкость, яркость. Они издали обращали на себя внимание.
Моду Фаворский истолковал широко. Одна группа фигур посвящена традиционному решению темы: заказчица перед зеркалом, портниха, швея, манекен, но затем идут фигуры популярных в тогдашнем советском обществе персонажей – спортсменок, летчицы, лыжницы, кавалеристки в красноармейской форме, девушки-ворошиловского стрелка с винтовкой через плечо... Все эти фигуры выразительны, в них показана не столько привлекательность профессии, сколько красота человека.
Фаворский так глубоко вошел в проблемы того, чем занимался Дом моделей, и так хорошо понимал их, что его ввели в художественный совет. Часто его соображения о фасоне платья, о материи оказывались проницательнее предложений самих модельеров – и принимались ими.
При переделке дома под "Салон-магазин. Зеркало моды" сграффито Фаворского были уничтожены.
С годами становится все очевиднее, что сграффито Фаворского на Доме моделей треста "Мосбелье" – высокая классика искусства тридцатых годов, и растет наше возмущение теми, кто их уничтожил.
Дом № 24. В конце 1860-х годов его адрес был таков: Сретенская часть, 5-й квартал, дом 32, Щепкиной. В эти годы по этому адресу жил Николай Федорович Федоров – легендарный философ и просветитель, автор идеи "всеобщего дела" – воскрешения и спасения человечества. О том, какое глубокое влияние на культуру России оказали идеи и личность Федорова, свидетельствуют высказывания его современников. "Я горжусь, что живу в одно время с подобным человеком", – сказал о нем Л.Н.Толстой; выдающийся философ Владимир Соловьев называл его своим "учителем"; Ф.М.Достоевский признавался, что его идеи он "прочел как бы за свои". Высказывания Федорова по этико-космическим вопросам в разной степени совпадают с позднейшими работами К.Э.Циолковского, А.Л.Чижевского, В.И.Вернадского, большой интерес проявлял к философии Федорова В.Я.Брюсов.
Н.Ф.Федоров в 1860 – 1870-е годы оказывал помощь в приобщении к знанию юному Циолковскому.
"...В Чертковской библиотеке, – пишет Циолковский в автобиографии, – я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпбли в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил.
Он же давал мне запрещенные книги. Потом оказалось, что это известный аскет Федоров – друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал все свое крохотное жалованье беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось: я чересчур дичился".
Последнее строение левой стороны Сретенки – церковь Троицы Живоначальной в Листах, ее порядковый и "домовый" номер – 29. Церковь отреставрирована, и в ней идет служба. Нижняя, откопанная от наслоений культурного слоя часть церкви оказалась в яме – уже одно это наглядно указывает на ее древность.
Церковь действительно старая, в начале XVII века она была деревянная, в середине века начата постройкой каменная. Строили ее своим иждивением стоявшие здесь слободой стрельцы полковника Василия Пушечникова. В 1667-1671 годах полк был в походе в Астрахани – усмирял бунт казаков под предводительством Разина и, разбив бунтовщиков, привел в Москву их главаря Стеньку, за что царь Алексей Михайлович пожаловал стрельцов разными наградами, в том числе 150 тысячами кирпичей для окончания строительства церкви, и в том же году она была достроена. Как объясняет путеводитель начала XIX века, "название На Листах, данное сей церкви, происходит от того, что на ограде оной в прежние времена продавались известные картинки для простого народа, которые печатались в приходе церкви Успения в Печатниках, на Сретенке, и назывались просто листы. Впоследствии продавались оные на Спасском мосту, потом у Казанского собора, а ныне в Холщовом ряду и других местах города".
Таким образом, именно церковь Троицы в Листах была первым в Москве народным книжным магазином.
Церковь была закрыта в январе 1931 года в связи, как рассказывали местные жители, с арестом священника.
В 1930-е годы разобрали главы храма, в 1950-е снесли колокольню. В церкви помещались склады, потом – скульптурные мастерские. С конце 1970-х годов церковь была поставлена на госохрану как памятник архитектуры, и Всероссийское общество охраны памятников начало ее реставрацию. Автором проекта реставрации был О.И.Журин. Сначала церковь определили под репетиционные залы Москонцерта, в 1990-м по письму патриарха Алексия II ее вернули верующим, а в 1991 году состоялось малое освящение храма.
"Листы", или, употребляя более привычное для современной речи название, лубок, не ушли и с нынешней Сретенки, и нынче она является центром их пропаганды. Здесь, приблизительно на равном расстоянии от Печатникова переулка, где листы печатались, и от церкви Троицы в Листах старинного места торговли лубочными листами, в небольшом особнячке Малого Головинского переулка (дом № 10) открыт единственный в нашей стране музей лубка – Музей народной графики.
Краткие сведения о нем дает информационный лист, выпущенный музеем:
"Сегодня историю лубка можно проследить на примере редчайших графических экспонатов Музея народной графики, который был создан в 1992 году по инициативе художника Виктора Пензина, при поддержке Комитета культуры правительства Москвы.
Этот уникальный музей находится на Сретенке, вблизи церкви Троицы в Листах, где когда-то шумел лубочный базар.
Основу постоянной экспозиции музея составляет коллекция его директора Виктора Пензина, дополненная реконструкциями древних листов, а также произведениями современных мастеров-лубочников".
Напротив храма Троицы в Листах, на противоположной стороне улицы до революции находился магазин одежды Миляева и Карташева "Мануфактурные и галантерейные товары, модные товары", после революции он назывался "Московско-Рижский универмаг", снесен в 1980-е годы.
Левая сторона Сретенки заканчивалась также магазином, дом этот тоже снесен, на его месте – вход в метро.
В этом доме в 1930-е годы находился комиссионный магазин, который местные жители называли "Слёзтовары", а официально он назывался "Магазин конфискатов". Местные в нем никогда ничего не покупали, была примета: приобретенные здесь вещи приносят несчастье; покупали пришлые.
Журналист А.Е.Лазебников – редактор "Комсомольской правды", репрессированный в 1938 году и просидевший 18 лет, в своих воспоминаниях рассказывает об этом магазине.
Летом 1937 года он с главным редактором "Комсомолки" Владимиром Бубекиным и несколькими репортерами пошли искать игрушку для подарка сыну шефа. В магазине, в который они зашли, не было ничего привлекательного. Продавщица решила им помочь.
" – В конфискаты заходили?
Мы не поняли вопроса. Продавщица пояснила:
– На Сретенке. Вверх по Кузнецкому, свернуть на Лубянку, пройти Сретенские ворота и по левой стороне улицы до конца. Угловой дом...
Беспорядочными казались прилавки вдоль стен, густо увешанных полотнами в дорогих рамах. Мы невольно замедлили шаг. Лампочки, свисавшие на шнурах, не принесли разгадки замыслам товароведов Сретенки. Непонятным было расположение вещей. Блики шарили по полкам в такт покачиваниям лампочек. Там, где лежало что-то цветастое, яркое – бухар-ский халат, черная шаль в красных розах, – лампочки будто раздували тусклый свет и опять уходили в закат.
Лишь в отделе готового платья удивило обилие армейской одежды. Правда, было немало и гражданских костюмов – двойки, тройки, но они терялись на задворках, словно нездешние. Здешними были военные. Суконные френчи, гимнастерки из тонкого шевиота и габардина, нарядные бекеши индпошива, кожаные регланы, синие кители моряков. Над полками витал запах лежалых вещей. Рядом с одеждой стояла обувь, как на плацу, – голенище к голенищу, сапоги, шеренги мужских туфель, ботинок и опять сапоги, некоторые щеголеватые. Весь товар лицом.
Привыкнув к полумраку, можно было разглядеть, чем заполнены полки. Два покупателя молчаливо разглядывали товары без этикеток и ценников. Вместо привычного гула голосов – шепот. Казалось, эти двое понимали, что здесь ни о чем не нужно спрашивать. Странное чувство, которое мы испытали, переступив порог магазина, не оставляло нас. Что это? Распродажа, конфекцион? У кого узнать? Кто-то недоверчиво оглядывал себя в полукружье трельяжа. Ощупывал, на месте ли хлястик у кителя цвета хаки. Опустил руки в карманы, будто поискал – не забыл ли чего прежний владелец.
– Не лады. Велик малость френчик! – И на нас глянул, не решаясь на покупку без постороннего совета. Вот он уже снял с себя китель, держит в руках, подбирая глазами другой в колонне защитного цвета: какой примерить? Наверное, впервые в жизни представился такой выбор.
То, чего мы страшились, о чем леденящая догадка еще с первого шага стиснула виски: мы увидели в петлицах кителя следы ромбов. Тот, кто носил этот китель, видимо, был высок. Где-то на полках, пониже, лежали, наверное, его синие галифе. Комдив? Комкор? Командарм? Неясный отпечаток всех ромбов скрыл его звание. Как хорошо, что здесь одна только лампочка, один тусклый глазок на привязи шнура – зрелище изувеченных петлиц с вырванными знаками различия нестерпимо, как и проколы аккуратно обметанных дырочек над карманами, – все, что осталось от брони орденов. Хаки! Защитный цвет! От кого защитный – от Юденича, Врангеля, Колчака, бело-поляков, Чжан Цзолина на КВЖД? Насколько он старше нас? Лет на десять – двенадцать: он мог успеть, а мы нет – носить подпольную кличку, видеть Ленина, идти по этапу в турухан-скую ссылку.
...А покупатель все лопочет и лопочет, не пряча своего счастья. А у прилавка шепот: "Кожаные брюки сорок восьмой бывают?"
– В начале недели, – говорит продавщица.
Здесь еще умеют предсказывать будущее? По каким дням доставляют сюда товары? Ночью? На рассвете?
– В начале недели, – повторяет продавщица, и я слышу в ее голосе презрение к этому мешковатому парню, переступившему в круговерти столичных лавок не разгаданный им порог Сретенки.
Звуки слабого гудка донеслись до нашего слуха, и мы увидели на соседнем прилавке игрушечный паровоз. Он тащил по металлическому кругу пассажирский состав.
– У вас много таких? – спросил Володя.
– Много? – как беззвучное эхо отозвалась девушка, удивляясь наивному вопросу. – Единственная...
Володя нагнулся над стойкой. "Мейд ин Суизерланд" – "Сделано в Швейцарии", – прочитал он на паровозике, силясь найти еще что-то на тендере. Может быть, он хотел увидеть нацарапанное русскими буквами имя мальчика, у которого вместе с этой игрушкой отняли папу и маму?
– Возьмете? – спросила продавщица. – Прекрасная игрушка!
Володя медленно повернулся, посмотрел в упор на девушку и без всякой оглядки, забыв, где он, сказал, как сказал бы Мите Черненко, Юрию Жукову, Мише Розенфельду, всем, кого знал, как самого себя:
– Поверьте, девушка, этой игрушке уже никогда не быть прекрасной! Никогда!"
Владимир Михайлович Бубекин вскоре был арестован как враг народа – и сгинул на Лубянке...
После войны магазин стал обычной комиссионкой и в этом качестве окончил свое существование вместе с домом.
СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ
До недавнего времени Сретенка с левой и правой стороны заканчивалась домами, которые одним своим фасадом выходили на Сретенку, а другим – на Сухаревскую площадь. Эти угловые дома четко определяли границу улицы и площади.
В 1960-1980-е года они были снесены, с ними заодно прихватили несколько соседних зданий и по улице, и по Садовому кольцу. На их месте по обеим сторонам Сретенки образовались неопрятные пустыри, на них два спуска в метро, ряды торговых палаток, и, как почти у каждой станции московского метро, здесь торгуют с рук луком, петрушкой, водкой, сигаретами и прочими обычными для таких рынков мелочами.
За палатками гудит Садовое кольцо. Плотным, рычащим, дымящим, разноцветным потоком, заполняя его во всю ширину, от тротуара до тротуара, по мертвому серому асфальту мчатся машины.
Мы обычно не обращаем внимания на значение и смысл примелькавшихся городских названий. Но если задуматься над тем, что эта улица называется Садовым кольцом, то нельзя не признать, что название звучит по крайней мере насмешкой над здравым смыслом.
Когда оно возникло, улица действительно была вся в садах. И это было в общем-то сравнительно недавно; о садах на Садовом кольце рассказывают не только предания, их можно увидеть на фотографиях и кинокадрах, их помнят москвичи старшего поколения.
Сады и палисадники на Садовом кольце были уничтожены по Генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года в 1936-1937 годах. Ученые градостроители из НИИ Генплана планировали этим решить проблему транспорта в Москве. Но мировая градостроительная наука еще до того, как Научно-исследовательский институт Генплана Москвы придумал превратить Садовое кольцо в автомобильную дорогу, пришла к выводу, что строительство подобных кольцевых транспортных артерий в историческом городе не только бессмысленно, но и усугубляет транспортную проблему.
В отличие от архитекторов, рядовые москвичи понимали всю глупость и бессмысленное варварство проекта, но в оправдание ему придумали, что-де эта асфальтовая полоса имеет стратегическое военное значение: в случае войны с нее будут взлетать и на нее приземляться военные самолеты. Об этом в предвоенные годы потихоньку, но широко говорили в Москве.
Однако раз уж речь зашла о названии Садового кольца, то представляется удобный случай поговорить о том, почему Садовое и почему кольцо. Как и все истинно московские названия, это название представляет собой иероглиф, заключающий в себе содержание целой книги.
Еще в ХIV-ХV веках в том месте Троицкой дороги, где сейчас находится Сухаревская площадь, путники, идущие в Москву, останавливались на последний перед входом в город отдых. По преданию, преподобный Сергий Радонежский по пути из Троицкого монастыря также отдыхал здесь. А у царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, когда они ехали из Москвы к Троице на богомолье, здесь была первая слазка, то есть они вылезали из кареты пройтись и размяться. По каким-то внутренним математическим законам линия будущего Саового кольца еще в ХIV-ХV веках воспринималась дальней границей города.
В ХVI веке вплотную к этой границе подступил городской посад.
Весной 1591 года царь Феодор Иоаннович повелел ставить вокруг него оборонительные укрепления. Непосредственной причиной начала строительства послужило полученное в Москве известие о том, что хан Крымской орды Казы-Гирей собирает войско к походу на Русь.
Строительство укреплений вокруг Москвы при нависшей над городом опасности шло очень быстро: ставились надолбы, тыны, частоколы, устраивались завалы, рылись рвы и насыпались валы.
Современники называли эти укрепления Скородомом, так как они были скоро задуманы и скоро поставлены.
В 1591 году врагам не удалось подойти к городу: после жестокого сражения у села Коломенского Казы-Гирей отступил от Москвы. Русское войско преследовало крымцев до Тулы и захватило много пленных. Но нападение татар показало, что существует реальная опасность и необходимость для Москвы четвертой линии обороны. "По отходе же Крымского Царя, – сообщает летопись, – чающе его впредь к Москве приходу, повеле Государь кругом Москвы, около всех посадов поставить град древяной", то есть основательную настоящую крепостную стену.
На следующий год строительство было закончено. Вставшая вокруг посадов крепостная стена представляла собой внушительное сооружение: она имела 50 башен, в том числе 34 проездных, по внешней стороне стены – широкий и глубокий ров. "Ограда сия, – пишет польский офицер С.Маскевич, – имела множество ворот, между ними по 2 и по 3 башни, на каждой башне и на воротах стояло по 4 и по 6 орудий, кроме полевых пушек, коих там так много, что и перечесть трудно. Вся ограда была из теса, башни и ворота весьма красивые, как видно, стоили трудов и времени". Новая стена получила название Деревянный город.
На так называемом Петровом (он был найден в архиве Петра I) плане Москвы, нарисованном в 1597-1599 годах, хорошо видны башни и стены Деревянного города, и в том числе проездная башня на будущей Сухаревой площади, получившая название Сретенские ворота.
В башне Сретенских ворот – двое ворот-проездов, над проездами видны бойницы, завершается башня тремя боевыми и одновременно наблюдательными площадками, покрытыми шатровыми крышами. За воротами через ров перекинут мост.
Деревянный город представлял собой мощное крепостное сооружение, поэтому в 1611 году польские интервенты предприняли специальные меры к его уничтожению. Отряды польских солдат-поджигателей целенаправленно жгли башни и стены в течение трех дней. "И всё мы в три дня обратили в пепел, свидетельствует С.Маскевич. – Пожар истребил всю красоту Москвы".
Лишь два десятилетия спустя – в 1630-е годы – кольцо оборонительных укреплений Москвы по линии Деревянного города было полностью восстановлено и усилено. Теперь были возведены укрепления в виде земляного вала со рвом перед ним и за ним. Павел Алеппский – секретарь патриарха Антиохийского Макария, наряду со стеной Белого города описал и его: "Что касается великого Земляного вала (Скородома), похожего на огромные холмы и имеющего рвы снутри и снаружи, то он окаймляет всю городскую стену, и между ними и ею заключается большое пространство... Окружность его 30 верст, он неприступнее всех каменных и кирпичных стен, да и железных, ибо против них непременно найдется какое-нибудь средство: мина, разрушение, падение, а земляной вал ничем не возьмешь, потому что пушечные ядра в него зарываются". Павел Алеппский называет вал по-старому Скородомом, но к концу ХVII века укоренилось название – Земляной вал, или Земляной город. Земляным городом стал называться и район Москвы между стеной Белого города и валом.
В 1708 году Петр I, допуская, что Карл ХII может дойти до Москвы, приказал усилить Земляной вал новыми брустверами. К счастью, шведы, разбитые под Полтавой, до Москвы не дошли.
В ХVIII веке Земляной вал потерял значение как военный объект, но он служил таможенной границей города. С установлением в 1742 году новой таможенной границы города – Камер-Коллежского вала Земляной вал утратил и эту функцию.
В течение ХVIII века разрушились укрепления на Земляном валу, рвы были засыпаны, вал срыт.
В 1816 году Александр I подписал указ и план восстановления и благоустройства Москвы. В нем был специальный пункт, касающийся Земляного вала.
"Места из-под Земляного вала, – было написано в указе, – раздать владельцам, кои по обеим сторонам оного имеют свои домы, каждому в длину по мере места, а в ширину, как ограничится назначением посредине улицы, которая предполагается шириною в 12 сажен, с тем, чтобы сии прибавочные места были огорожены порядочными невысокими решетными заборами, у коих бы тумбы были совершенно одинакой высоты, толщины и фигуры; а решетка между тумбами по выбору владельцев из рисунков Комиссии; и чтобы в сих присоединенных к каждому двору местах хозяева оных старались разводить садики во всю длину мест своих перед домами на валу, дабы со временем весь проезд вокруг Земляного города с обеих сторон был между садами".
Так в Москве возникла Садовая улица. Из-за своей длины, а это более 15 километров, она была разбита на части – улицы, каждая из которых носила особое название: Садовая Кудринская улица, Садовая Спасская, Садовая Сухаревская и так далее. Сейчас Садовых улиц – семнадцать.
К 1824 году Садовая уже вызывала у москвичей восхищение: "Нельзя не упомянуть о прекрасной Садовой, – читаем мы в "Путеводителе по Москве" этого года издания. – По ширине и болотистому кряжу трудно было мостить сию улицу. Благодетельное правительство уволило (то есть обязало своею волею. В.М.) владельцев смежных домов, чтобы каждый из них развел у дома сад, красиво огороженный. Таким образом составился обширный и приятный сад".
В 1870-е годы по Садовым проложили линию конно-железной дороги, которую сразу стали называть по-московски ласково и неофициально конкой. В 1908 году конку сменил трамвай. С 1912 года кольцевому маршруту трамвая по Садовым было присвоено название "линия Б". Москвичи сразу же назвали его "Букашкой" (от старославянского названия буквы Б – "буки"), а улица получила еще одно название – "Кольцо Б".
В начале XX века, как и в начале ХIХ, вдоль Кольца зеленели сады. Лишь на некоторых участках, в основном на площадях, по необходимости, как, например, на Сухаревской, когда Сухаревский рынок уже не вмещался в отведенные ему границы, насаждения убрали. Но как только надобность миновала – когда рынок в 1924 году закрыли, – на его месте тотчас устроили, как писал современник, "несколько образцовых скверов – с деревьями, клумбами, газонами...".
В начале XX века П.Д.Боборыкин, да и не он один, считал вид Садового кольца провинциальным и утверждал, что оно "сохраняет до сих пор всего более помещическо-обывательский характер Москвы". Впрочем, за зеленью садов уже вставали и высокие доходные дома, и особняки в стиле модерн.
В 1935 году снесли заборчики, отделявшие сады от тротуаров, и прорубили проходы по самим садам, а в 1937 году все деревья и кустарники вырубили подчистую.
Репортеры писали о Садовом кольце как о "преображенной магистрали", "ставшей украшением столицы". На ней начали строить престижные дома для начальства. Но с течением времени это "украшение" с полным правом стали называть "душегубкой".
Архитекторы Института Генплана Москвы предполагали таким же образом реконструировать и Бульварное кольцо. Глядя на Садовое кольцо, мы можем наглядно представить, во что превратились бы Чистые пруды, Тверской и другие бульвары, если бы им удалось осуществить свой невежественный проект. "Душегубка" получилась бы еще похлеще. Впрочем, нынешние "градостроители" продолжают планировать подобные "душегубки" для москвичей и сейчас. Одна из них – так называемое "Третье кольцо"...
Со Сретенского пустыря открывается вид на Садовое кольцо, прямо против Сретенки, на другой стороне, от него отходит проспект Мира, бывшая Первая Мещанская. Слева от линии Сретенка – проспект Мира – часть Садового кольца, спускающаяся к Самотеке, называется Малой Сухаревской площадью, справа Большой Сухаревской. Раньше их разделяла Сухарева башня. После ее сноса это деление лишилось смысла, и они фактически слились в единую Сухаревскую площадь, но формально такое разделение осталось.
На Малой Сухаревской площади ни одно из зданий не обращает на себя внимания: два стандартных многоэтажных жилых дома постройки 1940-х годов (в доме 1 жил известный актер и певец М.Н.Бернес, на доме установлена мемориальная доска) и несколько надстроенных третьими этажами лавок прошлого века.
На Большой Сухаревской глаз сразу останавливается на здании Странноприимного дома, более известного в Москве до революции под названием Шереметевская больница, а после революции – Институт Склифосовского, или просто – Склиф.
Пятьдесят лет назад П.В.Сытин в книге "Из истории московских улиц" писал: "Самым замечательным зданием на площади в настоящее время является здание больницы скорой помощи и института имени Склифосовского, построенное в 1802 году графом Шереметевым для Странноприимного дома (богадельни)".
Сегодня можно лишь повторить эти слова. "Странноприимный дом графа Шереметева в Москве" – под таким названием этот выдающийся памятник русского зодчества вошел в историю – действительно замечательное здание, и не только среди построек Сухаревской площади, но и вообще одно из самых интересных архитектурных сооружений Москвы.
Его величественное дворцовое здание расположено в глубине двора. Сквозь невысокую чугунную ограду с чугунными узорными воротами, по сторонам которых установлены две гранитные двухколонные пилоны-беседки, за разросшимися деревьями и кустами видны центральная часть дома и парадный вход.
Постройки Странноприимного дома величественным полукругом охватывают весь двор, а его флигеля выходят торцами на Садовое кольцо.
Фасад главного корпуса украшен мощной двойной колоннадой, над которой возвышаются треугольник фронтона и шлемовидный большой купол, завершающийся церковной главкой – знаком того, что под ней находится домовая церковь.
Странноприимный дом Шереметева – памятник архитектуры русского классицизма. Его строили два архитектора: Е.С.Назаров – ученик В.И.Баженова, и Джакомо Кваренги – знаменитый и модный в то время петербургский зодчий. Кроме того, некоторые искусствоведы высказывали мнение, что в создании проекта принимал участие и сам великий Баженов, их догадки, хотя и не подкреплены прямо документами, достаточно убедительны.
С самого начала здание предназначалось под небольшую богадельню для престарелых слуг Шереметева. Но в процессе строительства проект менялся. Эти изменения вызывались не только архитектурными соображениями, но и в большей степени тем, какой смысл на разных этапах вкладывал граф Н.П.Шереметев в дело создания дома.
Предание утверждает, что граф Николай Петрович построил Странноприимный дом в память умершей жены Прасковьи Ивановны – бывшей крепостной актрисы, выступавшей на сцене под именем Параши Жемчуговой. Их любовь, тайный брак и ранняя смерть Параши, горе овдовевшего графа, искавшего душевного успокоения в делах благотворительности, – все выстраивалось в логичную и красивую легенду. Тем более что вскоре после смерти Параши по всей России запели песню о чудесном превращении простой крестьянки в сиятельную графиню.
Песня рассказывала о том, как однажды под вечер крепостная крестьянка гнала из лесу коров и на лужку у ручейка повстречала возвращавшегося с охоты барина – "две собачки впереди, два лакея позади".
Барин спросил ее: "Ты откудова, красотка, из которого села?" – "Вашей милости крестьянка", – ответила она. Барин припомнил, что утром староста просил разрешения женить своего сына, и поинтересовался, не к ней ли тот сватался. Красавица ответила, что к ней. На что барин решительно заявил: "Он тебя совсем не стоит, не к тому ты рождена. Ты родилася крестьянкой, завтра будешь госпожа".
Эта песня – русская вариация вечно привлекательной и волнующей истории о Золушке – была одной из наиболее популярных народных песен в XIX веке, хорошо известна она и сейчас. Предание утверждает, что песню сочинила сама графиня Прасковья Ивановна Шереметева.
Прасковья Ивановна имеет прямое отношение к созданию Странноприимного дома, но не ее смерть, вопреки легенде, послужила причиной к началу его строительства.
П.И.Шереметева скончалась 23 февраля 1803 года. Строительство же Странноприимного дома было начато за одиннадцать лет до этого печального события, неопровержимым свидетельством чего является найденная в 1954 году при проведении реставрационных работ закладная медная доска с надписью: "1792 года июня 28 дня соорудитель сего граф Николай Шереметев".
В России ХVIII века считалось обычным делом, когда крепостные актрисы были также наложницами помещика – владельца театра. Это не вызывало осуждения ни у господ, ни у актрис, как правило, смирявшихся со своим положением, поскольку оно вписывалось в мораль и обычаи общества, основанного на крепостном праве.
Однако и в тогдашнем крепостническом обществе вопреки господствовавшим обычаям и морали появлялись отдельные личности, не приемлющие рабскую нравственность и мораль. Их были единицы, но благодаря им складывались необычные, неординарные жизненные ситуации. Именно такого рода личностью была Параша Жемчугова.
Ее связь о графом Шереметевым стала (а может быть, была с самого начала) соединением полюбивших друг друга людей. Но, соединившись с любимым, Параша не была счастлива. Глубоко религиозная, она не могла избавиться от мысли, что ввела в грех самого дорогого ей человека и поэтому он неминуемо должен подвергнуться небесной каре. Она молила Бога, чтобы все страдания – и за ее, и за его грех – были ниспосланы ей одной.
В любви Параши и графа счастье и страдание соединились в душевной муке. Настроение любимой женщины не могло не передаться и графу.
Шереметев и Параша пытались смягчить укоры совести благотворительностью. Тогда-то и было задумано строительство богадельни.
Оба знали, что по-настоящему они могут быть счастливы, только освятив свою связь церковным браком. Но для этого граф должен был и преодолеть собственные аристократические предрассудки, и пренебречь общественным мнением. Прошло более десяти лет, прежде чем он смог на это решиться. Но и решившись, не отважился действовать открыто.
Для осуществления своего плана граф Н.П.Шереметев прибег к обману. Он поручил своему крепостному стряпчему Никите Сворочаеву найти документы о "благородном происхождении" Прасковьи Ивановны. Тот исполнил поручение графа. Параша была дочерью и внучкой крепостных крестьян-кузнецов Шереметевых из деревни Березиной Ярославской губернии, и по своему ремеслу они имели прозвище Ковалевы. Стряпчий нашел в архиве Шереметевых сведения о том, что в 1667 году в русский плен попал польский дворянин Якуб Ковалевский. На этом основании стряпчий составил бумагу, из которой следовало, что его потомки оказались в числе слуг Шереметевых и поэтому Параша "неопровержимо имеет благородное начало".
В 1798 году граф Н.П.Шереметев подписал Параше вольную, освобождающую ее и всех ее родных от крепостной зависимости, и в 1801 году обвенчался с ней церковным браком.
Но к этому времени здоровье Прасковьи Ивановны было уже подорвано. Полтора года спустя она скончалась после родов, оставив трехнедельного сына...
В эти дни печали Николай Петрович написал письмо-завещание – "сыну моему графу Дмитрию о его рождении".
Рассказав о происхождении его матери, Шереметев писал: "Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные. Долгое время наблюдал свойства и качества ее и нашел украшенный добродетелью разум, искренность и человеколюбие, постоянство и верность, нашел в ней привязанность ко святой вере и усерднейшее богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех прелестей и чрезвычайно редки..."